ЧАСТЬ II. ФИЛОСОФИЯ МОЛОХА
*[6]
Эллины пишут свои буквы и считают слева направо, а египтяне - справа налево. И все же, делая так, они утверждают, что это они пишут "направо", а эллины - "налево".
Геродот. История, II, 36
Вынесенными в эпиграф строками Геродот резюмирует длинный список того, чем египтяне отличаются от других народов. И нет лучшего примера для того, чтобы понять, насколько сильно даже в базовых положениях могут различаться ментальности: понятия о левом и правом находятся в каких-то таких дологических глубинах сознания, что обсуждению и коррекции подлежат лишь их следствия, но не они сами. Когда, например, Лев Троцкий обучал Красную Армию маршировать с левой ноги, он, я полагаю, мало задумывался о том, какие силы он приводит этим в движение и какие силы заставляют его самого воплощать в жизнь такого рода "супранатуралистические фантазии". Тем не менее это было исключительно эффективное действие, создавшее в комплексе с такими же знаковыми мерами в исключительно короткие сроки новую, нерусскую, азиатскую, армию. Но кто, в самом деле, рассудит эллина и египтянина в вопросе о том, что есть правое, а что левое, и кто заложил одному чувствовать так, а другому иначе? На эти вопросы ответа нет, да и быть не может, мы можем только констатировать тот факт, что дело обстоит именно так, принять этот факт во внимание и не отворачиваться от него. В сфере истории мысли тоже есть вехи, объяснить которые невозможно, но, однако же, их следует выявить, понять и запомнить, ибо именно эти несознаваемые и весьма редко обсуждаемые различия создавали и создают как беспощадные войны, так и плодотворное общение культур и народов в Средиземноморье. К обсуждению таких содержаний на материале трактатов Порфирия мы сейчас и перейдем, сосредоточив в этой части все то, что хотим сказать о связи Порфирия с Востоком.
[6] Сирийский мыслитель Малх, а именно таково собственное имя нашего героя, как он сам об этом пишет в сочинении Жизнь Плотина, 17, был в том же смысле греческим философом Порфирием, в каком еврейский поэт Дзюба был русским стихотворцем Багрицким. Имя Малх происходит от корня mlk, куда лучше знакомого русскому читателю в транскрипциях Мелькарт и Молох, так что название главы следует понимать буквально.
1. Порфирий и его виртуальный читатель ("общество святых", "анафема еретикам"), а также о природе и большой нелюбви к ней мыслителя
Каждое сочинение к кому-то обращено: если есть "поэт", должен быть и какой-то "издатель", какая-то "толпа", в конце концов. К кому обращены трактаты Порфирия? К кому вообще обращались философские сочинения древности?
Мы достаточно привыкли к кабинетному или в лучшем случае монастырскому типу философов, поэтому следует еще раз напомнить: философия классического периода в Греции адресовалась тем самым "мужам афинянам"[140], к которым обращались и апология Сократа, и трагедия Софокла, и ода Пиндара, и шуточки Диогена. Следует напомнить, что большая часть греческих философов, причем самого что ни на есть спиритуалистического склада, была в то же время деятельными политиками: Пифагор, Парменид, Зенон, Платон с разной степенью успешности - от совершенного успеха Парменида до полного провала Платона - занимались реальной политикой; известен аристократический склад мысли Гераклита и демократический Эмпедокла; философия Аристотеля полагала политику чуть ли не высшей формой духовной жизни, даже совершенно аполитичные киники мыслили аполитию политией, т. е. предполагали возможность аполитийной жизни для всего человечества, как это и сейчас случается у наших анархистов. Это замечание важно нам для того, чтобы уяснить, что все известные нам философские сочинения древности были обращены к обществу; даже если предполагалось некое избранное общество, привкуса элитарности от этой избранности не остается. Эллинский философ классической эпохи равно серьезно беседовал с солдатом и жрецом, равно свободно шутил с крестьянином и царем. На фоне умозрений о космосе и божестве, по сию пору впечатляющих своей глубиной и всеобщностью, это до того необычно, что уже в эпоху эллинизма, когда философия стала занятием "интеллектуальных элит", начались разговоры и поиски каких-то эзотерических сочинений мыслителей старой школы. По сию пору, однако, ничего специально эзотерического не обнаружено и едва ли обнаружено будет[141].
Как же представляет своих слушателей/читателей Порфирий? Это будто некий народ избранный, секта или некий род, подобный иудеям, некий в существе своем не-народ, лишь по-видимости, лишь на минутку заглянувший в историю, да не только в историю, но и в саму жизнь. Своих слушателей философ описывает следующим образом: "Итак, прежде всего, нужно знать, что наставления, дающиеся в моей речи, не применимы к любому образу человеческой жизни. Они не касаются ни занятых ремеслом, ни атлетикой, ни солдат, ни моряков, ни риторов, ни избравших деловой образ жизни"[142]; и далее: свою предполагаемую аудиторию Порфирий отличает от остального человечества как бодрствующих от спящих. Сразу бросается в глаза не только элитаризм, но и практический характер речи: с первых же шагов вместе с "народом избранным" на сцене появляется и его "законодатель". Звучит типично азиатская речь: вы, народ мой, отнюдь не похожи на остальных "гоим", слушайте мои законы, исполняйте их -в этом ваша мудрость; чем основательнее ваша мудрость, тем более вы отделены от всего человечества... - настроение, весьма богато представленное в Ветхом Завете, затем в несколько облагороженном виде встречающееся в Евангелии от Иоанна 17, 9, затем становящееся общим местом и на христианской почве, и в исламе. Повелительности яхвистских законников Порфирию, конечно, не хватало, но тон в несколько облегченном варианте тот же. Читаем там же (II, 3. 1, 2): "Воздержание от одушевленных <...> не относится ко всем людям вообще, но к философам, а среди них по преимуществу к тем, кто связывает собственное счастье с Богом и подражанием Ему. Ибо и в городской жизни не одно и то же предписывают законодатели гражданам, занимающимся частными делами и священными... " Аудитория Порфирия -это некий род или страта философов-священников; в точности так характеризовала иногда в древности иудеев (а иногда и индусов) благожелательно расположенная к ним литература, в точности так мыслят себя и христиане, особенно в катакомбный период.
Читая Порфирия, мы оказываемся в сфере фактов и феноменов, принадлежащих ближневосточной духовности: читатели мыслителя, общество философов-священников, определенно есть святое общество, обитающее среди законченных грешников, "тех, чья жизнь валяется во внешнем, тех, кто однажды оказывается нечестивцем относительно себя самого, мы предоставляем самим себе, они могут идти куда захотят"[143]. Появляется и до боли знакомый мотив: "что же до философа, которого мы описываем, то мы по праву можем сказать, что он не станет докучать демонам и не будет иметь нужды ни в предсказаниях, ни во внутренностях животных"[144] - святое общество с демонами не якшается. Как же это общество соотносится с уже имеющимися социальными структурами? - "Что же до меня, то я не собираюсь отменять законы, имеющие силу в каждом из городов, ибо в мои намерения не входит говорить о политике..."[145], т.е. пусть эти пропащие людишки гибнут в своих заблуждениях, нам нет до них никакого дела, их законы позволяют нам соблюдать ритуальную чистоту, остальное - неважно, Невозможно в этой связи не вспомнить о тео-номии[146], т. е. умении жить среди безбожников по закону истинного Бога,- именно так осмысляли иудеи свою жизнь и в Римской империи, и в иных государствах.
Эта вот глубоко родственная иудейской, основанная на сознании религиозной избранности псевдоаристократическая щепетильность, доходящая местами чуть ли не до брезгливости, лежит в основании кажущейся аполитичности Порфирия. При желании и ее, и ее иудейский первообраз можно понять даже как своего рода религиозный расизм, с проявлениями которого мы сравнительно не так давно вновь стали встречаться и, я думаю, по мере усиления азиатских умонастроений в России и в Европе будем встречаться все чаще и чаще. Эта аполитичность не так проста, это скорее даже не аполитичность, но предчувствуемая политичность в монотеистическом византийско-арабском смысле слова - такое представление о гражданстве, где член общины только и есть член государства, но ни в коем случае не наоборот. В пользу этого говорит чрезвычайно "монотеистическое" отношение к "еретикам", "не-гражданам", "гоям": "С теми, чьи мнения ты не используешь, не имей общения ни в образе жизни, ни в речах о Боге. Ибо говорить о Боге с теми, кто растлен ложными учениями, небезопасно. Говорится ли у них истина или ложь о Боге - равную опасность несет то и другое. Не очистившись от своих нечестивых дел, никому из них не должно говорить о Боге; и отнюдь не следует думать, что, ввергая в их уши слово о Боге, мы тем самым не оскверняем его <...>"[147] (нет ничего удивительного, что этот фрагмент с одобрением цитировали христианские авторы). У Порфирия акцентируется не универсализм, возможный на почве монотеизма, но, напротив, - партикуляристский нигилизм: живущий в истинном (небесном) государстве философ (а затем в христианстве-святой, монах) равнодушен к государству мирскому, он желает ему всякого блага, которое, однако, состоит для "земного царства" в том, чтобы оно побыстрее прекратило существовать, переродившись в общество святых, что, впрочем, остается не более чем благопожеланием, на осуществление которого мудрец всерьез не надеется. Однако оставим грядущей христианской эпохе эти предметы; для Порфирия "святое общество" - это еще будущее, проект (а где-то даже требование), но еще не реальность, для него поистине наличен пока лишь один "святой" - он сам. Не в последнюю очередь именно из-за этого его отношения с несвятым обществом складываются исключительно в категориях отрицания: Порфирий не просто не занимается политикой, но демонстративно не занимается политикой, провозглашая незанятие политикой должным[148]. Весьма полезно рассмотреть, как трансформируется у Порфирия платоновская мысль об этом предмете: в главах 36 и 37 первой книги трактата О воздержании он цитирует Теэтет, где Платон говорит, что философ не станет проводить время в распутстве, искать должностей и участвовать в общественной жизни в тех формах, в каких она в платоновские времена существует. Значило ли для Платона, что философ должен всецело оставить политику? Конечно, нет: в идеальном государстве политика - одно из основных занятий философа. Сама жизнь Платона является наилучшим подтверждением того, что философу как раз следует в меру возможностей участвовать в политической жизни, какими бы неудачами и сколько бы раз это не кончалось. Как же следует понимать текст из Теэтета, на который опирается Порфирий? Это прямо зависит от того, как вообще следует понимать диалоги Платона; у нас нет никаких свидетельств в пользу того, что Платон излагал в них свое положительное учение, более того, есть прямо противоположное свидетельство самого Платона. Так что я понимал бы этот пассаж как чисто педагогический; вспомним, что разговор происходит незадолго до смерти Сократа, что Теэтет почти еще мальчик, и представим себе саму ситуацию разговора, описываемую Платоном: Теэтет, которому Сократ должен казаться волшебником и полубогом, и Сократ, расшучивающий этот эффект рассуждениями о повивальном искусстве. Если также принять во внимание, что Теэтет в зрелые годы был достаточно крупным ученым, преподавателем в Академии[149], то в этой перспективе наставление Сократом мальчика Теэтета в добродетели выглядит отчасти пророчеством, отчасти свидетельством действенности его облагораживающего воздействия на нравы юношества - мысль, которую Платон проводил неоднократно. Что получается? Относясь к тексту Платона как к священному или, по меньшей мере, к авторитетному в высочайшей степени, Порфирий совершенно искажает контекст как диалога, так и платоновской философии в целом, получая нужное для себя толкование. Таким образом, Порфирий делает с платоновским текстом, почитая его, в точности то же, что другие азиаты - пренебрегая им, о чем мы говорили выше. "Внутренний диалог" этих людей непрерывен, они слышат только себя; на фоне объективного непонимания эллинства и эллинской философии вообще их субъективное отношение к платоновской философии не имеет никакого значения. На практике все они писали собственные учения вне зависимости от того, был для них Платон боговдохновенным пророком или одним из ересеначальников[150].
Вернемся, однако, к адресату Порфирьевых трактатов. Поскольку им не являлся народ (пусть бы даже и идеальный, как, например, идеальные эллины Платона), поскольку, с одной стороны, сам Порфирий ощущал себя в высшей степени космополитичным субъектом, поистине "не имущим града земного"[151], и поскольку, с другой - он, как всякий человек вообще, не мог не хотеть какого-то общества, какого-то, пусть и не наличного, народа и отечества, и предполагал их образующимися на основании "духовном", как бы он его конкретно ни понимал, постольку природа у Порфирия вызывает не просто пренебрежение, но самую что ни на есть форменную вражду. Создается даже впечатление, что Порфирий, как в будущем и христианское монашество, не может простить ей самого факта творчества, пусть и несовершенного, но непрерывного и приводящего к зримым результатам, в то время как та реальность, которую мыслит должной философ, так и остается лишь в сфере должного и прожектов. Вообще, нелюбовь к природе везде и всегда является свидетельством духовного бесплодия (латинское слово "гений", которым мы обозначаем смертного творца в высшем его проявлении, имеет самое прямое отношение к роду - "геносу", рождению и рождающей силе: человек гениальный не может не чувствовать родства с рождающей мощью природы и не почитать ее как источник всякой жизни и всякого творчества; это, разумеется, вовсе не исключает его борьбы с ней, проклятий в ее адрес и прочих "любовных игр"). Я хочу здесь оговориться. Дело не обстоит так, что политическая депривация философа послужила причиной его аполитичности, нельзя сказать и того, что некая природная неполноценность была причиной его нелюбви к природе; эти и другие возможные объяснения следует отвергнуть, ибо все такого рода феномены возникают комплексно, как детали одной картины, и имеют одну -высшую их причину, влияя, конечно, друг на друга, но друг друга не обусловливая.
Итак, скажем о войне Порфирия с природой. Природа дается нам, прежде всего в нас, как сфера растительного и по преимуществу животного[152]. Противопоставление этой вот природе-в-нас какой-то иной, неприродной разумности, а то и природности приводит обыкновенно к ее воспалению, вызванному ее отделением от свойственного ей разума, намеренным игнорированием ее разумности. Дело обстоит так, что пока человек как существо разумное мыслит свой разум или "себя" продолжением "природы" или некой гранью единого существа, наряду с животным, которое в нем как другая грань, то и природа оказывается разумна, и человек природен; если же человек говорит о своем животном не только "не-я", но и "не мое", то оно вскоре и в самом деле перестает принадлежать ему, обретая некое подобие собственного "я"[153]. С Порфирием, судя по всему, случилось именно это, во всяком случае, мы фиксируем у него как враждебное отношение к природе в человеке, так и констатацию ее автономии (почти как у апостола Павла, чье психическое сложение чрезвычайно похоже). Иллюстраций для первого из отмеченных моментов можно найти в тексте Порфирия множество (об обслуживающей такой склад души психологической доктрине мы еще скажем ниже, пока же опишем сам феномен): Порфирий пишет для людей, "изобличивших колдовство" дольнего мира (О воздержании, I, 28, 1); им нужно отстраняться как от ощущений, так и от страстей: для взыскующего истинной жизни пагубно и то и другое (Там же. I, 33,1); чтобы такое отстранение произошло, следует удалиться в места уединенные (Там же. I, 34, 2), воздерживаться от всякой пищи (Там же. I, 38, 1; 45, 3), ибо -могли бы вовсе не есть, были бы бессмертны (Там же. IV, 20, 13), ослаблять телесное вообще (Там же. III, 26, 13) вплоть до членовредительства (Там же. I, 36, I)[154]. Вполне ясно, что то, что околдовывает, вторгается во внутреннюю жизнь души с такой силой, что может ее погубить и реально губит, и от чего нужно бежать и предпринимать все, о чем мы говорили выше, обладает некоей не просто действенностью, но и субъектностью, это "мир" и "плоть" гностиков, апостола Павла и других христианских писателей - то, что ведет себя как субъект, им не являясь, как именно и делает воспаленный орган во время болезни.
Теперь, природа вовне -это все та же сфера животной и растительной разумности, но и она у Порфирия враждебна и воспалена (ни единого намека на великую Демиургессу из трактата Плотина (Энн III, 8) мы у Порфирия не нашли), т.е. она представляет собой сферу демонов. Демоны у Порфирия - это уже ни в коем случае не греческие даймоны, не латинские гении, но самые настоящие христианские, а в конечном счете семитические-вавилонские (если брать древнейшую их форму) - бесы. Чтобы понять здесь и Порфирия, и его христианских коллег-бесогонов, следует напомнить о традиции, в рамках которой осуществлялся их дискурс.
Для начала заметим, что у всех семитических (а возможно -и всех вообще) народов: у арабов ли, арамеев, вавилонян или ассирийцев - нуминозное было представлено в двух основных формах: астральные боги и демоны; в развитых семитских культурах, например вавилонской или ассирийской, боги обладали еще и своим мифом[155], в примитивных же обществах, вроде арабского или арамейского, они очень долгое время, а у бедуинов и по сей день остаются просто звездами, или, что то же, астральными духами. Таким образом, божественное и демоническое традиционно различались привязкой к небесным телам или отсутствием оной. Далее, всякое божественное вообще теснейшим образом связано субъективно-с моментом ужаса перед ним, объективно-с некой способной причинить вред несоразмерностью или прямо разрушительной для человека волей сверхчеловеческого. Этот факт фиксирует любая религия. Однако даже когда нуминозное берется исключительно со стороны вреда, наносимого человеку, оно далеко не всегда опознается как демоническое. На вавилонском языке, например, эпидемия называлась "прикосновение бога"; чума, разразившаяся в лагере под Троей, была делом рук Аполлона и т. д. и т. п. На заре культур и религий разница между божественным и демоническим, очевидно, не проходит по линии "добро-зло", но "сильнее-слабее". В более поздние времена мы имеем культуры и учения, сохраняющие представление о божестве как источнике зол (таковы были вавилонская и ассирийская религия, иудаизм, азиатские формы христианства, а вероятнее всего, и арабский ислам), и, напротив, религии, выделяющие источник зла в некую отдельную ипостась (таковы, например, египетская религия и зороастризм, как бы по-разному они ни определяли зло относительно Абсолюта). Лакмусовой бумажкой, способной безошибочно определить, возводится зло к божеству или нет, является, на мой взгляд, отношение к медицине и врачам в той или иной культуре или религии.
Вот что говорит об этом А. Оппенхейм: несмотря на то что в Вавилонии совершенно отсутствовали шаманские концепции и настроения[156], лечение прописывалось в исключительно редких случаях и носило магический, а не медицинский характер; медицинские названия недугов также отсутствовали, вместо них упоминались божество или демон, их вызвавшие[157] В этой медицинской традиции "симптомы считаются не показателем того, какие средства применить, а скорее "знаки", которые связаны с исходом заболевания и иногда помогают определить его так, чтобы специалист мог применить соответствующие магические контрмеры... он исследует пульс, но не как показатель физиологического состояния..., а скорее как "знак", который предназначен для искушенного наблюдателя и имеет отношение к судьбе больного. .. Специалист, который тщательно ищет раскрывающие состояние больного "знаки", называется не врачом (асу), а асину, что мы традиционно переводим как заклинатель"[158]. Кроме того, что место медицины в вавилонской культуре устойчиво занимает экзорцизм, мы имеем подтверждаемое не только вавилонскими памятниками, но и текстами Ветхого Завета недоверие к врачам, например, в 2 Пар. XVI, 12 говорится: "И сделался Аса болен на тридцать девятом году царствования своего, и болезнь поднялась до верхних частей тела; но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей",- так и хочется добавить: "дурак". А ведь текст Книги хроник поздний, послепленный. Также и в Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова (XXXVIII, 1-4 и далее) автор доказывает божественное происхождение медицины, увещевая своего недоверчивого читателя не пренебрегать врачами. Это особенно впечатляет по контрасту с древним Египтом, создавшим развитую и специализированную медицину, - Египтом, где в таких увещеваниях, похоже, вообще никогда не нуждались. Из этих фактов почтенный историк делает, на мой взгляд, неверное умозаключение: "Такое негативное отношение в Ветхом Завете, по-видимому, связано с концепцией смерти как конца индивидуального существования без надежд на последующую жизнь". И далее добавляет: "Весьма показательно, что когда обещания апокалиптического блаженства и ожидания небесных чертогов были приняты во всем этом регионе, отношение к врачу изменилось; его знание и помощь ценились, и их домогались"[159]. Мне кажется, что из того, что жизнь - это безусловное благо (а именно так ее и воспринимали вавилоняне) и по смерти нет стоящей хоть чего-то жизни, нельзя заключить, что лечение не имеет смысла. Но вот, оттолкнувшись от мысли о том, что сам Бог и есть источник всякой болезни, как раз с необходимостью приходишь к концепции симптомов как знаков. У египтян с их Сетом такого быть не могло. Кроме того, апокалиптические ожидания у семитов были, по крайней мере, со времен Исайи (т. е. VIII в. до н.э., а реабилитация врачей произошла заметно позже, и, я думаю, связывать ее нужно с персидским влиянием, которое заметно как в мессианской идее иудейства, так и во многих иных ветхозаветных представлениях. Особо следует сказать о христианской страсти к духовным формам целительства, которое воспринималось в ранней общине, судя по всему, так же, как священная война иудеями, а позднее мусульманами. Слова апостола Павла о духовной брани меньше всего следует понимать как метафору: исцеляли люди, а не священные предметы, исцеляли от всего, ибо демоны мыслились деятельнейшими участниками исторического процесса, способными вызывать самые разнообразные недуги. Исцеление в форме экзорцизма было одним из действеннейших орудий христианской проповеди как в самой Азии, где семитический пандемонизм никогда не терял своей актуальности, так и в вымирающей, семитизирующейся Европе того времени. Об этом превосходно пишет А. Гарнак в работе "Борьба против демонов в древней Церкви и значение ее для миссии"[160]
Но вернемся назад: сфера, высшая человеческой, в космосе также разделяется Порфирием на мир астральных богов (отвергая мифологию, он вынужден пользоваться архаичнейшими формами своего родового сознания[161]) и демонов, которые понимались им в точности так же, как и его далекими предками. Некоторый синкретизм, пожалуй, наблюдается в признании неких благих демонов, действующих в природе[162], чего в классической семитской религии, кажется, не предполагалось[163]. Сравним с текстами из Порфирия, например, понимание демонов, нашедшее выражение в знаменитой поэме о нисхождении Иштар под землю (середина II тыс. до н.э.) С великих небес к великим недрам:
Демоны без-роду-без-племени, без отца-матери,
Без сестры-брата, без жены-сына!
Великое воинство, в часы заката ужас сеющие в мире!
Вы, демоны, человека хва[тающие!]
Доброты-милосердия вы не знаете, радости сердца вы не ведаете![164]
Здесь демоны не только злы, но и принципиально безымянны, о них нечего сказать, кроме того, что они несут зло. Читаем то же у Порфирия[165]: "Остается множество невидимых богов, которых Платон без различия назвал демонами. Некоторые из них носят имена, данные им людьми, в этом случае наравне с богами они получают и почести, и иные служения;[166] другие же, и это - как правило, не имеют имен, иногда же, в некоторых селениях и городах получают безвестные имена и невнятный культ". Порфирьевы демоны, как я уже говорил, могут быть, конечно, и благотворны, но можно привести множество мест, где Порфирий, развивая стоическое положение о природном как безразличном, - положение, бессмысленность и вредность которого весьма убедительно обличил еще Плутарх, говорит, что философы не должны принимать НИКАКИХ благодеяний от демонов. В этом контексте неясно, благодеяние это или провокации, благи эти демоны или только кажутся таковыми: если есть, например, благие демоны, отвечающие за "благорастворение воздухов" (О воздержании, II, 38, 2), которое, без сомнения, приносит исключительно сильное удовольствие, а философ должен удаляться равно и от наслаждений и от страданий дольнего мира, то как могут быть эти демоны для философа благими?
А вот еще замечательный экфарсис из древневавилонской поэзии:
Содроганья и холод (смерти) рассеивающие суть вещей;
семя бога небес излитое в злого духа,
смертные приговоры, любимые детища бури, рожденные от царицы подземного мира, сброшенные с небес, извергнутые из земли отщепенцы -
эти создания ада, все-все.
Ввысь подъемлют они рев, вниз устремляют писк;
они горький яд богов,
они - ураганы, сорвавшиеся с небес,
они - филины, разносящие уханьем (дурные предвестья)
по городу, семя, излитое богом небес; порождены они землей <...>[167]
Здесь говорится о происхождении демонов: они порождения неба и земли, их место обитания не небо и не земля, а, очевидно, место между землей и небом, т. е. воздух. Для Порфирия дело обстоит не иначе: демоны -это души, исшедшие из Целой Души (О воздержании, II, 38, 2) и имеющие пневматические тела; эти последние, очевидно, представляют иной, нежели душа, принцип. Прямое значение слова "пневма"-дуновение, дыхание, но ни у стоиков, ни тем более у Порфирия пневма - это не воздух в грубом телесном смысле, а эфирный огонь, в пределе - материя воображения. Элемент воздушности в пневме, однако, тоже выражен: пневматические тела требуют питания, а питаются они дымом сжигаемых жертв и воскурениями (Там же. II, 41, 2)- резонно предположить, что их пища как-то соответствует их конституции; кроме того, они локализуются в "околоземном месте" (Там же. II, 39, 3), т.е. в месте воздуха, а потому они, мне кажется, состоят все-таки в самом ближайшем родстве с "ураганами, сорвавшимися с небес". Понятно, что демоны эти могут принимать любое обличье, в том числе и вид "ангела света" (Там же. II, 40, 3); что именно их почитают колдуны, сообщается даже о некоем "главе демонов" (Там же. II, 41, 2). Концепция Порфирия глубоко архаична и совершенно современна в его эпоху -эпоху безудержной экспансии Азии в Европу. В теснейшей связи с этими семитическими демонами находится учение о божественных знаках и божественном водительстве.
[140] Здесь, конечно, в расширительном смысле эллинского народа вообще.
[141] Что касается воззрений на этот вопрос самого Платона, то наиболее полное выражение их, на мой взгляд, содержится в шестой книге Государства, их можно было бы резюмировать так: созерцать, чтобы преображать. Философ именно и должен уединяться и достигать созерцания для того, чтобы его воспитательная деятельность в полисе имела надлежащее основание (см. также: Законы, VII 759 а-с). Образно говоря, философ должен следовать солнцу, чей путь имеет как восход, так и заход —и то и другое лишь относительно Земли, ибо ясно, что для самого солнца есть просто путь, но нет ни восходов, ни заходов. Я бы дерзнул в этой связи говорить даже и о гелиологической концепции мудреца у Платона.
[142] О воздержании, I, 27, 1.
[143] Там же. II, 52, 1
[144] Там же. II, 52, 2. — Единственное число в данном пассаже не должно нас вводить в заблуждение: субъект рассуждения тот же, что и во всех предшествующих суждениях.
[145] Там же. II, 33,. 1.
[146] Термин М. Бубера.
[147] К Марцеле, 15.
[148] В этом, разумеется, он не был первым среди философов, однако контекст, в котором стоит это отрицание, заслуживает внимательнейшего рассмотрения. В самом деле, незанятие политикой неразрывно связано у Порфирия с вегетарианством, а это для внимательного слушателя может о многом поведать. Конечно, существовала изначальная, уходящая в доисторическую древность концепция трапезы с богами. Секулярно, т.е. в отрыве от культа, древний человек, должно быть, мяса (а возможно, и ничего другого) не вкушал. Соответственно, древнейшие боги, равно как и демоны Порфирия, питались дымом, исходящим от сгораемого жира жертв, это была в полном смысле их трапеза; в Греции изваяние бога вполне могли усадить за один стол с пирующими, в Вавилоне такая фамильярность не допускалась, но огромное количество храмовых рабов и служителей все равно питалось в буквальном смысле «с барского стола». Даже в этом ракурсе греческая традиция была бесконечно демократичней. Итак, дым —богам, готовое мясо —людям. Но «люди» в изначальном, архаическом сознании — это вовсе не данность, а заданность, и вот человеком в изначальном смысле называется тот, кто вкушает готовое мясо на трапезе богов, человек — сотрапезник богов, и это единственное и первичное его определение. Соответственно, зверь, нелюдь — тот, кто вкушает сырое (непожертвованное) мясо либо вовсе не вкушает его. Быть «нелюдями» —это глубоко философская традиция. Именно эта интенция, полагаю, заставляла Диогена есть сырое мясо, а Пифагора не есть его вовсе. Быть «нелюдем» значило либо быть богом, либо быть зверем. В любом случае отказ от вкушения жертвенного мяса еще даже и в эллинистическую эпоху означал юридический разрыв с гражданской общиной, которая, подобно протестантскому суду с его клятвой на Библии, не могла существовать вне общественных жертвоприношений и, соответственно, вкушения идоложертвенного. Есть все основания полагать, что киники отказывались от общественных жертв ради «возвращения к природе» из тенет людских договоров и законов, но есть также все основания считать, что куда более древняя традиция отказа от мясоедения, — традиция, восходящая к великим эллинским чудотворцам Орфею, Абарису и Аристею, а затем и к наиболее «харизматичным» из философов — Пифагору и Эмпедоклу — имела смысл совершенно в ином: это был акт демонстрации собственной божественности. Человек не принадлежал уже общине, поскольку сознавал себя богом. С этим теснейшим образом связана та концепция «мудрости», которую мы всегда встречаем вкупе с подобным сознанием: мудрость —это магическая сила, способная прежде всего и во всех смыслах отделять души от тел, ради ли пророчеств, аскетической власти над ними, целительсва или чего-то еще иного. В связи с ранними эллинскими чудотворцами, а также названными выше философами всегда упоминаются и суровая аскетика и все вышеперечисленные добродетели. Теперь вглядимся в критику вегетарианства; это всегда строго рационалистическая критика — критика, с которой связаны и другой тип мудреца, и другое понятие о самой мудрости. Итак, есть мясо, быть гражданином, быть рационалистом в античное время представляло собой столь же неразрывный ряд смыслообразов, как и ряд, связанный с их отрицанием. У нас нет ни малейших сомнений в том, что сам Порфирий принадлежал именно к этой философско-теургической традиции, в пользу этого говорят три принципиально важных факта. Во-первых, от мяса (не от тяжелой пищи!) воздерживался как от чего-то невозможного даже в болезни уже Плотин (см.: Жизнь Плотина, 2), во-вторых, сам факт увещеванья человека, отпавшего от вегетарианства, предполагает наличие некой общины с определенными правилами, и мы, в самом деле, знаем, что философский кружок, живший вокруг Плотина, после смерти учителя возглавил Порфирий, и, наконец, в-третьих, не стоит забывать, что дело происходит в Италии, на родине пифагорейской философии, стране, изобилующей как греческими городами, так и греческими традициями, так что почти невозможно сомневаться в том, что вегетарианство как Плотина, так и Порфирия опиралось на автохтонное, дошедшее от Самого религиозно-философское правило, живое еще и ко времени наших мыслителей.
[149] См.: Платон. Собрание сочинений. Т. 2. С. 477.
[150] Это нагляднейшим образом можно увидеть, если разобрать конкретные случаи цитирования у Порфирия и вглядеться в уже хорошо знакомую нам по первой главе «технику» Порфирий: (О воздержании IV, 20, 4) цитирует Плутарха, незаметно вставляя в его пассажи пространное рассуждение о чистоте, полностью отсутствующее в оригинале; там же (III, 1-17) цитируется Аристотель с целью доказать тождественность физического устроения людей и животных, однако именно то, что доказывается и отсутствует в оригинальном тексте Аристотеля, где приводятся лишь сравнения болезней и не более того; тексту оригинала придается совершено иной смысл посредством незначительных вставок и изменений (см.: Так же. III, 22, 6; III, 22, 8; III, 23, 4; IV, 2, 4-5, 9; IV, 3-5; IV, 9, 7; IV, 12, 2; IV, 13, 5; IV, 14, 3; IV, 18), и это далеко не все (интересующихся деталями и подробностями отсылаю к вступительной статье парижского издания сочинений Порфирия 1982 г., где этот аспект «творчества» философа разобран детально).
[151] Он и в действительности всю жизнь жил то там, то здесь.
[152] Вероятно, животное, умей оно говорить, говорило бы именно о растительном как о своей природе и называло бы растительное состояние «скотством», мы же либо вовсе не фиксируем растительные состояния, например состояние роста, или же, отдаваясь им (например, усваивая солнечное излучение в процессе загара), ничего в собственном смысле «природного» в них не фиксируем, называя природными скорее влечения и антипатии, нежели все виды поглощения, связанного с ростом.
[153] Появляется, само собой, и аскетика, столь же бессмысленная, как и все остальные психиатрические средства в такой ситуации.
[154] Удивляюсь я людям, называющим Порфирия древнегреческим философом: во-первых, как не бывает древнегреческого христианства, так не бывает и древнегреческого неоплатонизма; во-вторых, ничего греческого, чистый азиат!
[155] Посредством которого уходили весьма далеко от своих первичных форм: Иштар во времена расцвета вавилонской религии — персонаж несравненно более богатый, чем все астральные боги вместе взятые. Нечего и говорить о том, что при переходе к оседлому образу жизни (а вавилоняне осуществили это раньше других семитских народов) у них появились и совершенно незнакомые кочевникам земледельческие, не небесные боги. Тем не менее первое (а для всех не принявших монотеизма семитских культур и последнее) представление о божественном именно таково.
[156] Оппенхейм А. Указ. соч. С. 175.
[157] Там же. С. 177.
[158] Там же. С. 233.
[159] Там же. С. 240.
[160] См.: Гарнак А. Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века. СПб., 2007. С. 83-103.
[161] Сквозь личину просвещения и научности почти всегда проступает архаика, достаточно вспомнить реальные формы осуществления коммунизма в России, научного коммунизма — высочайшего достижения европейского просвещения, ничем не отличные от способов осуществления политической воли в древнейших азиатских деспотиях. Можно было бы сказать и о глубоко архаическом характере советской символики.
[162] См., например: О воздержании, II, 38, 2, 3.
[163] Как и любой синкретизм, этот вносит во внутренне целостное архаическое мировоззрение лишь путаницу; в самом деле, если кровавые жертвы приносятся именно демонам (О воздержании, I, 36, 5), то либо также добрым демонам — и тогда они не столь и добры, либо не следует приносить кровавые — и тогда они боги. Это далеко не единственная из возникающих здесь трудностей.
[164] Цит. по: Древний Египет, Шумер и Вавилония. М., 1998. С. 45.
[165] О воздержании, II, 37, 4.
[166] Иудео-христианский ход мысли: язычники под видом богов почитают демонов. Остается только разразиться в их адрес проклятьями, и мы получим типичную реплику иудейского или христианского полемиста.
[167] Цит. по: Якобсен Т. Сокровища тьмы. История месопотамской религии. М., 1995. С. 23-24.
2. Послушание божеству: гадания, учение о ритуальной чистоте
Общеизвестна потребность древних, а особенно семитических народов, быть ведомыми богом; в Вавилоне эта жажда была объективирована в развитую науку предсказаний. "Можно с уверенностью сказать, - пишет А. Оппенхейм, - что аккадские предсказания... считались в Месопотамии и окружающих ее странах важнейшим достижением мысли <...>. Аккадцы старовавилонского периода верили, что все происходящее вокруг не только объясняется конкретными, пусть и неизвестными причинами, но имеет и определенную цель: сообщить наблюдателю намерения той сверхъестественной силы, которая вызвала к жизни эти события"[168]. Один из сохранившихся вавилонских текстов недвусмысленно дает понять, что "право жить и действовать, не сообразуясь со знаками божественного благоволения или порицания, признается только за животными или изгоями"[169]. Во всем этом нет ничего удивительного, ибо мир для вавилонянина представлял собой следствие действия многих противоборствующих божественных воль, о чем мы писали выше. Совершенно та же картина вырисовывается и у Порфирия: "Демоны жестоки относительно смертных во многом, иногда даже в вещах весьма значительных, благие же демоны, напротив, в своей сфере делают для смертных все от них зависящее и, более того, предупреждают их об опасностях, исходящих от злых демонов, открывая их нам посредством снов, вдохновенных божеством душ, да и с помощью многих других способов. Если бы мы могли различать подаваемые нам знаки, все знали бы и остерегались. Ибо все получают знаки, но не все понимают их, как не все могут прочесть написанное, но только знающие грамоту"[170]. В Вавилоне с целью овладения такой грамотой "довольно рано все заслуживающее внимания стало записываться <...>, делались записи о странном поведении животных, необычных небесных явлениях и т. д.; тем самым предсказание будущего как бы перемещалось из области фольклора в область научной деятельности. Позднейшая систематизация таких собраний может рассматриваться как научное достижение. [Такие обобщения] составляют важную часть клинописной научной литературы и являются вполне самобытным продуктом аккадской мысли"[171]. Об этой вот науке без сомнения и тосковало сердце Порфирия. Здесь совпадает все до мелочей. Известно, например, что восточные семиты, а именно вавилоняне, специализировались на гадании по внутренностям жертвенных животных, а их западные родственники были специалистами по птицегаданию, и вот мы находим у Порфирия представление о том, что "боги являют свою мысль в молчании, птицы же ухватывают ее быстрее людей и возвещают ее нам, насколько могут, становясь вестниками того или иного бога"[172], этот вид гаданий, в отличие от гаданий по внутренностям, не вызывает у Порфирия никаких антипатий. Это, конечно, всего лишь совпадение, но совпадение характерное.
Итак, природа для Порфирия - это бурлящий страстями хаос: как внутри человека, так и во вне его. Если мы примем во внимание оба этих аспекта, то с легкостью поймем и учение Порфирия о ритуальной чистоте, которое есть центр всей его этики-аскетики. Здесь мы, опять же, должны исходить вот из чего: "Вавилоняне объясняли болезни и несчастья, случавшиеся с людьми, свободной (т. е. ничем и никем не контролируемой) деятельностью злых демонов. Число их было невероятно велико; они обрушивались как на виновных, так и на праведных, и единственной (причем не всегда надежной) защитой от них были заклинания и молитвы"[173] - это с одной стороны. С другой же: "В мире, где все установлено богами и происходит по воле богов, грех есть не что иное, как сознательное или неосознанное нарушение их воли"[174]. С обоими этими положениями Порфирий вряд ли бы стал спорить: и то, что все природные процессы суть осуществление воли небесных богов, и то, что демоны суть причины всевозможных природных и социальных бедствий, - об этом говорит он неоднократно. Ничего похожего на Плотинов сарказм относительно участия демонов в болезнях (Энн II, 9, 14) у его ученика даже близко не встретишь. Но из волюнтаристского понимания зла и греха (в высшей степени несвойственного эллинам) - очевидно, общего всем семитам - вырастает с необходимостью понимание греха как в первую очередь ритуальной нечистоты[175], которая понимается, во-первых, как преступление воли богов (причем не только "незнание закона" не освобождает от греха и ответственности, но и любые формы бессознательности), во-вторых, как оскверненность демонами, при том что обряд очищения-это ответ теологов предсказателю, как остроумно заметил А. Оппенхейм[176], а мы бы добавили: и врачу в вавилонском смысле слова. Посмотрим, что пишет о чистоте и очищении Порфирий. В его понятии о чистоте можно выделить два аспекта: 1) чистота есть следование воле богов и в конечном счете Бога; 2) чистота есть защита от демонов, а может быть, даже и сильнее - власть над ними. Проще начать с последнего: "Чистота есть защита, позволяющая быть осторожно благочестивым, что-то вроде символа, или печати, чтобы ничего не потерпеть от тех, к кому мы приближаемся и чью милость желаем снискать"[177]. Это слова человека, искушенного в теургии; такое понимание чистоты встречается у большинства авторов, описывавших - свое ли, чужое ли - общение (неважно, борьбу или сотрудничество) с демонами. Это общее место общечеловеческой традиции. Значительно интереснее то, что, согласно Порфирию, ритуальная чистота является необходимым условием всякой философии, всякого истинного знания о богах и высших предметах в целом; при этом знание о них понимается не как понимание, но как восприятие. Это принципиально важно для всего типа ближневосточной духовности - неважно, языческой, христианской, иудаистской или зороастрийской, - и мы рассмотрим это подробно.
Во-первых, как, не соблюдая предписаний о ритуальной чистоте, и особенно вегетарианства, невозможно достигнуть общения ни с небесными богами, ни с Богом (О воздержании, I, 57, 1-3), так и наоборот: именно общение с богами и боговедение в широком смысле привели и египтян, и персов, и индусов, и евреев к познанию норм ритуальной чистоты, особенно вегетарианства - доказательству этого положения посвящена большая часть IV книги трактата О воздержании. Эта пара утверждений находится в теснейшей связи с положением о том, что небесным богам воздаются бескровные жертвы (Там же. I, 32, 2), жертвы гимнами (Там же. II, 34, 3), при этом астральные боги оказываются сразу же и богами умопостигаемыми (Там же)[178], что невозможно ни для Платона, ни для Плутарха Херонейского, ни для Плотина, ни для подавляющего большинства эллинских мыслителей вообще, но в высшей степени свойственно семитам: например, ранним стоикам, арабу Ямвлиху[179] и позднейшим платоникам, из которых эллином был лишь Плутарх Афинский. Весьма важно отметить также, что высший Бог, согласно Порфирию, чтится безмолвием и постигается лишь в молчании. Это постижение описывается как восприятие (Там же. I, 57, 2) и соединение (Там же. II, 34, 3), и совершенно ясно, что ни о каком отвлеченном интеллектуализме речь здесь не идет: перед нами полностью законченная исихастская доктрина, на которую Григорий Па-лама мог бы смело ссылаться как на один из своих источников, будь этот человек хоть немного посо-вестливее.
Теперь что является чистым, а что нечистым. Каков принцип нечистоты вообще и как следует очищаться, если взять этот же вопрос динамически? Совершенно ясно, что поскольку абсолютной целью Порфирьевой философии является слияние с Единым, то совершенствование должно мыслиться им в категориях уподобления Единому (Там же. III, 26, 13). Но Единое просто, а значит, не имеет в себе противоположностей, значит, и уподобляющийся ему должен стремиться быть простым и не иметь таковых в себе, а для этого нужно не смешиваться с противоположным: "Святые мужи считали, что ритуальная чистота состоит в том, чтобы не смешиваться со своей противоположностью, осквернение же -в смешении с ней" (Там же. IV, 20, 1). Поскольку сам человек есть душа, то именно душа и не должна смешиваться с противоположным. Отсюда ясны основные виды осквернений: душа - источник жизни, значит, нельзя вкушать мертвечину (а всякое мясо -это, разумеется, мертвечина); далее, душа нерожденна и бессмертна, значит, скверно все то, что связано с рождением и смертью (Там же. II, 20, 5). Более того, женщина, как существо, связанное с рождением в куда большей мере, нежели мужчина, скверна сама по себе; женщине, взыскующей совершенства, следует представлять себя в мужском теле[180]. Девство несравненно выше брака. Любая страсть есть скверна, ибо телесна, а тело в некотором смысле противоположно душе (отметим, однако, что как в древневавилонском своде законов о ритуальной чистоте Шурпу[181] на первом месте стоят ритуально-магические грехи, а затем уже социальные, как в иудейском Своде законов о ритуальной чистоте (Лев. 11. 1 и далее) все начинается с пищевых запретов, так и у Порфирия в его каталоге грехов (О воздержании, IV, 20) на первом месте стоят, конечно, грехи плотские, понимаемые именно как магические, и уж затем речь заходит о страстях). Люди, знакомые с учением Максима Исповедника о пути спасения как о преодолении космических противоположностей, не смогут не заметить глубочайшего родства построений еврейского и сирийского мыслителей. Нет никакого сомнения, что грех, нечистота и спасение ощущались ими совершенно одинаково, хотя, возможно, несколько по-разному истолковывались. Если же кто-нибудь даст себе труд сравнить построения Максима с соответствующим разделом в философии Боруха Спинозы, что я однажды уже делал, то он сможет убедиться в совершенной неподвластности этого мирочувствия времени и культурам[182].
[168] Там же. С. 163.
[169] Там же. С. 180.
[170] О воздержании, II, 41, 3-4.
[171] Оппенхейм А. Указ. соч. С. 163.
[172] О воздержании, III, 5, 6.
[173] Клочков И. С. Указ. соч. С. 141.
[174] Там же.
[175] С этим вот злом как ритуальной нечистотой теснейшим образом связано представление Порфирия о цели философии. В отличие от всех эллинских философов, вообще, Порфирий провозглашает целью философии не счастье, а спасение, это спасение понимается как возвращение души к себе и к умопостигаемому, что одновременно означает и очищение от тела, греха и материи. Само это возвращение Порфирий называет «теорией», что и понятно, ибо возвращение к умопостигаемому не может не быть созерцанием, но вот раскрывает эту свою «теорию» он уже совершенно в духе христианской аскетики — как то, что состоит из «логоса» и «дел» (см.: О воздержании, I, 29). Ни в коем случае мы не можем говорить в связи с Порфирием о каком-то отвлеченном интеллектуализме, это совершенно обычное для Востока понятие о духовном возрастании, в нем нет ровным счетом ничего эллинского; средоточие личности или даже сама личность при этом, разумеется, помещается в сердце. Вообще, следует отметить громадный интерес философа к греху или, правильней сказать, порочности, порченности (μοχύηρία) человеческой, тонкие различия этой самой «мохтхэрии» и как причины падения души и как той, что возникает вместе с падением, — все это занимает нашего мыслителя ничуть не меньше, нежели его христианских коллег концепция первородного греха.
[176] Оппенхейм А. Указ. соч. С. 180.
[177] О воздержании, II, 44, 3.
[178] Нужно отметить, что текст этого пассажа весьма темен, и есть филологическая возможность не проводить такого отождествления. Однако, поскольку никакого внятного учения об умопостигаемых богах, в отличие от астральных, мы у Порфирия не встретили, думаем, что он либо отождествлял мир неподвижных звезд и умопостигаемых богов, либо склонялся к этому, возможно, временами.
[179] С удивлением недавно отметил для себя, что кажущееся совершенным безумием ямвлиховское учение о темпоральности Души Всего (я писал об этом в статье «Император Юлиан» (Император Юлиан. Сочинения. СПб., 2007. С.28)) имеет глубоко национальные корни и теснейшим образом связано с доисламской концепцией времени у арабов, в рамках которой оно осмыслялось как судьба вещей и порождающая их творческая мощь, так что И. С. Клочков (Клочков И. С. Указ. соч. С. 156) сопоставляет его прямо с вечностью в понимании вавилонян.
[180] К Марцелле, 33.— Этим мыслям, которые я бы определил как религиозную проекцию традиционного ближневосточного отношения к женщине (у эллинов дело обстояло несколько лучше, а у римлян — значительно лучше), впервые приходящим к перу у Порфирия, будет суждено большое будущее. Максим Грек, например, еще в XVI в. учил москвичей тому, что образ и подобие Божие — мужчина, женский пол был создан изначально в мужском обличье, само же женское обличье — результат грехопадения, так что в воскресении женский пол восстанет в мужском образе и виде. См.: Максим Грек. Беседа души с телом в 3-х частях, напр. в изд. Свято-Троицкая Лавра, 1910— 1911.
[181] См.: Клочков И. С. Указ. соч. С. 144.
[182] Отличным образцом такого именно психического склада, живым носителем ближневосточного мифа является, например, В.М. Лурье, чьи труды полезно читать равно богословам, психологам и культурологам.
3. Вавилонское время, оанитство и Порфирьев историзм
В превосходном исследовании И. С. Клочкова, на которое мы уже в этой работе опирались, анализ вавилонского представления о времени занимает центральное место. Для анализа Порфирье-ва историзма - историзма всецело стоического и семитического, нам необходимо знать, как представлялось время в семитическом мире в доэллинистическую эпоху; источников у нас может быть здесь только два: вавилоняне и евреи. Начнем с Вавилона.
А. Конкретность вавилонских времени и вечности
"В аккадском языке нет самого понятия "время" <...>, точнее безусловное значение "время" не доказано для терминов, которые иногда так переводят"[183]. Вавилонянин обходился понятиями "месяц", "день", "срок"; ставя их во множественном числе, он получал слова для обозначения больших сроков. Но эти сроки всегда были строго конкретны, т. е. неразрывно связаны с тем или иным предметом. Это особенно интересно на фоне достаточно высокого уровня развития измерительной техники. "Выше мы писали [в связи с календарем и клепсидрой]: "измерение времени". Собственно, мы затрудняемся сказать, что же именно измеряли вавилоняне. Говорится о восходе и заходе светил, их положении на небе и т.п., но это -движение небесных тел, которым можно измерять время ("обозначать дни"), а не само время. Возникает любопытная ситуация: с одной стороны, существует весьма развитая система измерения, а с другой - архаическое представление (если не полное отсутствие) об объекте измерения. Возможно ли такое? По-видимому, да, как возможно отсутствие понятия "пространство" при наличии развитой системы измерения с такими единицами, как "локоть", "палец" и т. п."[184]. Высочайшей степени абстрактности такое понимание времени достигает у иудеев и арабов (выше мы уже упоминали об арабском времени-судьбе); у евреев время понято как сам мир, а мир, в свою очередь,- как временной поток, это вот время-мир, насколько можно понять, и называется в Библии "оламом", т.е. "веком". Это именно вавилонский "срок", ведь никакого представления о бесконечности времени как именно времени мы ни у вавилонян, ни у евреев не находим[185]. Этой вот конкретности, т.е. событийности, обязательной вещности семитского времени, соответствовала и семитская вечность, имевшая у вавилонян "весьма конкретный, "домашний" характер <...>, скорее соответствующая нашему "(на)всегда", "(на)совсем", "навеки". Этот термин не покрывает, так сказать, всей полноты времени, всего прошлого и будущего, а означает лишь неопределенно долгий период в будущем или прошлом. Неудивительно, что при таком понимании времени и вечности проблема соотношения вечного и временного, столь характерная для сознания древних иранцев и греков, не занимала вавилонян"[186]. Все это совершенно справедливо и в отношении к древним евреям, для которых вечности, кажется, не существовало вовсе[187], а термин "вечный" всецело и полностью равен термину "бесконечный", в смысле "всегдашний", "бывший и вчера, и третьего дня, и сколько мы здесь жили". В этом вот дурном "(на)всегда" как раз и протекала "вечная жизнь" усопших, мыслившаяся равно бесцветно и тоскливо как вавилонянами, так и евреями, ничего похожего на арийские представления о том, что праведники пируют с богами, а то и становятся ими, в этом мирке, где люди были сотворены богами (богом) себе на потребу, конечно, не существовало. Итак, время - это всегда конечное время, срок; вечность - это потенциально бесконечное, неопределенно долгое время.
Б. Линеарность, разнородность, неравноценность семитского времени
И у вавилонян, и у евреев мы совершенно не находим никаких представлений о круговороте (рождение/гибели) мира. Это вот отсутствие цикличности мы и называем линеарностью. Ни о какой историчности в нынешнем смысле слова ни древний вавилонянин, ни древний иудей понятия не имели; глубоко комичными кажутся мне рассуждения многих современных авторов о библейском историзме, особенно рассуждения пронизанных апологетическими иудейскими или христианскими настроениями историков, которые сколько историей не занимались, так никого кроме себя в истории видеть и не научились. Нет ничего более примитивного, нежели то, что они называют "историческим временем": любой, кто будет мыслить "днями" или вообще любыми сроками, с необходимостью будет мыслить это самое линеарное, "историческое" время. Несравненно более высокое понятие о времени циклическом предполагает актуальную бесконечность времени, время же линеарное только конечность, причем такую, к которой должен быть приставлен как минимум ангел с мечом, чтобы любопытствующий - здесь ли она, в самом деле, кончается - ненароком ее не увеличил. Потому "историческое время" как необратимое, неповторяемое, уникальное, абсолютно значимое и т. п. я бы назвал временем дураков, имея в виду, что это время существует, как правило, для людей, не думавших еще о времени как о времени, но лишь о времени как о сроке. И, конечно, самое важное -это то, что линеарное время, поскольку оно таково, что не имеет в себе ничего тождественного, не имеет никакого отношения не только ко времени истории, но даже и ко времени роста и развития, ибо даже биологическое время не терпит абсолютной инаковости и уникальности моментов, на которой приверженцы упомянутой точки зрения столь упорно настаивают. Чтобы мыслить хоть какой-то рост, следует допускать не только уникальность каждого из моментов, но и постоянную повторяемость одних и тех же моментов в течение всего процесса, иначе это будет не рост, а только изменение. Если момент "б" не содержит в себе ничего от предшествующего момента "а", если момент "а" не повторился полностью в последующем моменте "б", то никакого, разумеется, роста, не говоря уже о более сложных видах развития, не будет. Потому их "историческое время" - время, в котором каждый момент уникален, существует либо в неорганической природе (что само по себе сомнительно, ибо мир жив во всех своих частях), либо (что более всего вероятно) в их несовершенном воображении.
Но вернемся назад: "Становление Вселенной [у вавилонян] отмечают такие вехи, как рождение богов, сотворение мира, создание человека, "нисхождение царственности небес"[188], потоп". Временные отрезки между этими вехами качественно отличались друг от друга, таким образом, оказывалось, что "время вавилонян неоднородно. Это качество есть непосредственное следствие конкретности вавилонского времени: как абстрактная чистая длительность время еще не существует в общем сознании; оно еще слишком зависит от того, что его наполняет"[189]. Качественное отличие временных отрезков друг от друга приводило к представлению о неравноценности времен, отсюда возникали "благоприятные" и "неблагоприятные" дни, годы, периоды. В Вавилоне составлялись достаточно подробные календари с указанием доброкачественности каждого дня, более или менее похожие на современные образцы жанра; отношение к ним, однако, было неизмеримо серьезнее. Кроме того, неоднородность, разная степень напряженности и сакральности времени выражались и вавилонянами, и евреями в их историографии - прежде всего посредством указаний на разную степень длительностей жизней праотцев и на разные сроки правлений государей. В Библии этот момент представлен куда менее ярко, нежели у месопотамцев: ""шумерский царский список" поражает кошмарными сроками правления <...>, всего, согласно одной из редакций "Списка", до потопа 8 царей царствовали в 5 городах 241 200 лет. После потопа продолжительность царствований резко падает, но все еще остается весьма внушительной"[190]. При этом "почти все числа, означающие количество лет правления допотопных шумерских царей, кратно 360; день тогда был как "теперь" год. Высказывалось предложение делить цифровые данные "Шумерского списка царей" для получения реальных сроков правления на определенные коэффициенты для разных династий -360, 60, 10, 6, что дало очень неплохие результаты: вполне вероятно, что подобные "временные коэффициенты" действительно существовали и за ними скрывалось различие в оценке вавилонянами степени сакральности тех или иных династий и их "времен""[191]. Нет никаких сомнений, что подобные интуиции были свойственны и авторам библейского текста, арифметически живописующим близость первых людей к Богу.
В. Пространственные коннотации семитского времени, его направленность
"Представление о длительности строилось у вавилонян с помощью метафоры пространственной протяженности. Сознательно или, скорее, бессознательно время понималось как некое особое пространство <...>. При таком восприятии времени прошлое и будущее уподоблялось пространству, лежащему вне поля зрения <...>. Прошлое - после существует, будущее - предсуществует. Отсюда возможность подсмотреть будущее посредством гадания, продолжение существования после смерти и проч."[192]. Более того, "психологически вавилоняне, как и шумеры, были ориентированы во времени на прошлое. Если для современного человека "смотреть в будущее" значит "смотреть вперед", то шумер или вавилонянин, глядя вперед, видел прошлое; будущее лежало у него за спиной. Прошлое по-аккадски - ūm pāni (досл.: "дни лица/переда"); будущее - 'hrātu (образовано от корня x'hr со значением "быть позади"). Ahrātu означает также "потомство". Интересны образования от корня wrk с общим значением "находиться/двигаться сзади": (w)arku - "оборотная сторона", "зад", "позднейший", "будущий", "за", "позади", "после"; arkā - "впредь" (темп.); arkiš - "назад" (лок.). Еще два примера: pānā - "прежде" (досл.: "у лица"), ina mahar - "прежде" (досл.: "впереди")"[193]. И. С. Клочков подкрепляет это рассуждение следующей картинкой, сопроводив ее множеством оговорок о том, что это лишь обобщение и схематизация, но для нас, поскольку мы как раз и занимаемся типологическим анализом, это именно то, что нужно; небесный Вавилон добавлен здесь для ясности уже мною.
Для нас здесь важен сам принцип "обратного времени". Я думаю, он должен быть теснейшим образом связан с "правым" и "левым", в том числе и во время письма, пишущегося всегда из прошлого в будущее: из прошлого, которое для нас - левое, а в этой модели - правое, направо - для нас, налево - в этой модели. То же, разумеется, касается и чтения. И еще: то, что подходит со спины - опасно, за левым плечом стоит у нас, как мы знаем, смерть, у вавилонян где-то там стояло будущее: "взгляд, конечно, варварский, но верный". В обществе, представлявшем мировой порядок результатом взаимодействия множества партикулярных воль, в обществе, не знавшем космоса, гармонии и вечности, постоянно ожидавшем и обретавшем всевозможные бедствия, будущее - с глубочайшей психологической достоверностью - должно было ожидаться именно сзади. Более того, данный способ восприятия времени принципиально важен для того специфического вида традиционализма, свойственного без исключения всему Ближнему Востоку. Не зная, как его назвать точно, ибо он свойствен многим народам и всем без исключения религиям ближневосточного происхождения (и это не принимая в расчет всех времен, религий и народов, прямо со Средиземноморьем на рубеже эр не связанных), я назвал его оанитством, опираясь на одну из древнейших формулировок этого принципа.
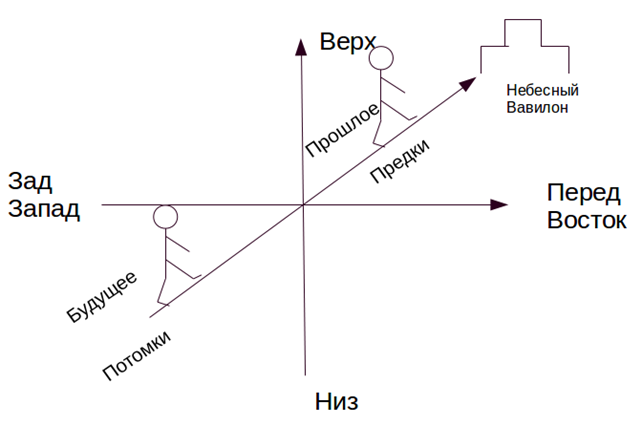
Г. Оанитство
Гениальная формула принадлежит уже хорошо нам известному Бероссу, дошедшему до нас в пересказе Георгия Синкелла, и гласит она следующее: "В первый год появилось из Красного моря, что вблизи Вавилонии, ужасное существо по имени Оан <...>, тело у него все было рыбье, а из-под рыбьей головы росла другая голова, и подобным же образом человеческие ноги росли рядом с рыбьим хвостом. Голос же у него был человеческий. Изображение его и теперь еще сохраняется. Это существо, говорит он, дни проводило среди людей, не принимая никакой пищи, и научило людей грамоте, и математике, и владению искусствами разного рода, научило жить в городах, основывать храмы, устанавливать законы, и геометрии научило, и показало как собирать зерно и плоды, и вообще научило всему, что относится к культурной жизни. С того времени ничего больше уже не было изобретено"[194].
Когда, например, я читаю: "Церковь не может ничего добавить к Слову Божиему: Откровение "закрыто", завершено со смертью последнего из апостолов. Это утверждение является вероучительной истиной, и утверждать обратное - все равно что отрицать Откровение"[195], я понимаю: перед мной -оанит, а Оан в данном случае представляется коллективом апостолов. Двадцать три века, прошедшие между Бероссом и автором нашей сентенции, разница религий, социальных и культурных обстоятельств - все это совершенное ничто по сравнению с общей обоим убежденностью, что есть некий Оан, он все дал, всю истину, все же, что сверх им данного,-от лукавого. Все охранительные тенденции всех без исключения "религий Книги", а таковые господствовали до последнего времени в этих религиях, обязательно опираются на Оана, как бы конкретно он в каждом случае ни мыслился. Не составляет никакого труда привести подобные иудейские или мусульманские реплики: религия сама по себе не является чем-то определяющим для оанитства, тем более не является таковым нация. Оанитство прочнейшим образом связано с приведенной выше пространственно-временной сеткой и представляет собой полный аналог описанной Павлом Флоренским обратной перспективы, но уже в сфере времени. Можно сказать, что любой проводимый последовательно традиционализм должен требовать как Оана, так и обратного, левого, времени, модель которого так замечательно ясно сконструировал И. С. Клочков. Есть все основания считать, что именно стихия семитских языков и вавилонская цивилизация в целом явились колыбелью и оанитского мировоззрения, и левого, обратного, времени. Скорее всего, такую именно картину времени можно будет найти и в древнейших частях Библии, ибо поворот "лицом к будущему", усвоение прямого, правого, времени произошло и у вавилонян, а вероятно, и у евреев не раньше распространения эсхатологических и мессианских учений, каковое немыслимо без связи с персидским фрашегирдом, что надлежит исследовать тщательно и отдельно. Ибо мессианизм древних пророков, будучи не священническим по своему происхождению, является единственным собственно иудейским, пророческая же традиция иудейского духовенства, начиная с Иезекииля, должна рассматриваться исключительно в контексте ближневосточного мессианизма и религиозности в целом[196], что требует отдельного обстоятельного рассмотрения.
[183] Клочков И. С. Указ. соч. С. 14; и еще: «Глагол, душа семитского языка, в древнейшую пору был “вневременным”, т. е. не был обращен к фиксированию протекания действия во времени. Аккадская глагольная система отмечает не столько последовательность действий относительно друг друга, сколько их завершенность и незавершенность, интенсивность, направленность, кратность <...>» (Там же. С. 15). О том же см.: Дьяконов И.М. Архаические мифы Востока и Запада. М., 1990. С. 22.
[184] Клочков И. С. Указ. соч. С. 15.
[185] См., например: Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до разрушения первого храма. СПб., 2005. С. 256257.
[186] Клочков И. С. Указ. соч. С. 15.
[187] Я, во всяком случае, нашел лишь два места в Ветхом Завете, где говорится собственно о вечности, и в обоих случаях это не более чем риторические обороты: 1) Исх. 15, 18: «Господь будет царствовать во веки и в вечность». Совершенно ясно, что «будет» и «вечность» для тех, кто понимает вечность как объемлющую всякое время, суть вещи несовместимые; это поэзия в духе «вечной памяти»; 2) совершенно в том же духе и Ис. 9, 6: «И нарекут имя Ему [Машиаху]: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира». Характернейший вариант этого фрагмента содержится в Славянской Библии: «И нарекут имя Ему: Великого Совета Ангел, Чудный, Советник, Бог Крепкий, Властелин, Князь мира, Отец будущего века» ; это, пожалуй, и есть ключ к библейскому пониманию вечности: будущая жизнь, где все будет нормально и навсегда.
[188] Таким образом вавилоняне называли время основания Вавилона и/или приобретения им гегемонии, за этим выражением стояло убеждение, что земной Вавилон есть нечто, построенное по небесному плану, что существует Вавилон небесный, копией которого является этот земной и на который в силу подобия его небесному первообразу сошла царственность, или благодаря схождению этой царственности возникло подобие (?). Небесный Иерусалим иудеев, а затем ап. Иоанна и блж. Августина являются более поздними редакциями этой вавилонской идеи. (Обязан этим примечанием Р. В. Светлову.)
[189] Клочков И. С. Указ. соч. С. 21.
[190] Там же. С. 23.
[191] Там же. С. 24.
[192] Там же. С. 27.
[193] Там же. С. 28 и далее.
[194] Цит. по: Беросс. Вавилонская история // История Древнего Востока. М., 2002. С. 306.
[195] Руло Ф. О «Догматическом развитии Церкви» Вл. Соловьева; цит по: Соловьев В. С. Догматическое развитие Церкви. Париж, 1994. С. 7.
[196] Невозможно, например, говорить о «проекте храма» Иезекииля и затем кумранитов (концепции, которую мы знаем по метафоре «церковь — тело Христа»), не принимая во внимание того, что идентификация между вавилонским богом и его храмом могла быть полной, что местами в Месопотамии храм мыслился воплощением бога, о чем пишет Т. Якобсен (Якобсен Т. Указ. соч. С. 28-30), что вавилонские жрецы, в точности как и Иезекииль, который, как известно, творил во время вавилонского плена, получали специальные откровения о строительстве храмов, в коих оговаривалось все до таких даже деталей, как размер кирпичей и проч. (Не иначе дело обстояло и у древних арабов, чтивших «вефили» или «бетэли» — «дома божьи» — храмы, бывшие и жилищем и воплощением божества (см.: Шифман И. Ш. Набатейское государство и его культура. СПб., 2007. С. 125).) Также, очевидно, что иудейский «козел отпущения», появляющийся в Своде законов о ритуальной чистоте (Лев. 16, 7-10, 20-34), написанном тоже в Вавилоне, взят из обрядов куда более древнего, нежели иудейский закон, праздника вавилонского Нового года (см.: Оппенхейм А. Указ. соч. С. 141), что связанная с этим обрядом концепция нечистоты как некоего материального истечения (а она по сию пору свойственна, например, цыганам), которое можно саккумулировать в каком-то предмете, с тем чтобы его потом выбросить или уничтожить, имеет всецело вавилонские корни (Там же; см. также: Клочков И. С. Указ. соч. С. 143), что еще до того, как Моисей отправился в засмоленной корзине по Нилу, подобное путешествие совершил Саргон Великий, занимавший в рамках вавилонской цивилизации место, подобное Моисею в иудейской (см.: Сказание о Саргоне // История Древнего Востока. С. 124), что куда прежде Яхве человекотворением занялись вавилонские боги, что потоп куда раньше захлестнул Месопотамию, чем Иудею (см., например: Сказание об Атрахасисе — XVII в. до н.э. // Там же. С.99 и 111). Не говоря уже о том, что сама личная религия, которой так похваляются сейчас христиане и иудеи, возникла, как и наилучшим образом выражающий ее жанр покаянных псалмов, именно в Месопотамии где-то во второй половине II тыс. до н.э. и никак не связана с пресловутыми монотеизмом и иконоборчеством «народа избранного»; это же относится и к иудейскому квиетизму, и ветхозаветной теории священной войны, куда раньше расцветшим на ассирийской почве и т. д. и т. п. Одним словом, рассматривать развитый иудаизм вне контекста ближневосточных религий есть верный способ сделать его замкнутым, уродливым и однобоким явлением, каким он, конечно, очень хотел выглядеть, но каковым, к своему счастью, в классическую эпоху не только не был, но и не казался; вообще же верить всевозможным религиозным и культурным самопрезентациям слишком легкомысленно для ученого, а тем более заниматься апологетикой в форме историографии, как это происходит, например, у И. Р. Тантлевского, В.М.Лурье и им подобных «исихастов», умалчивающих о фактах такой значимости, что излагаемые ими сведения приобретают ложный масштаб и значение.
Вот, например, молитва: «Без тебя, Владыка, кто существует? Ради царя, которого Ты любишь, чье имя Ты называешь, кто угождает Тебе, Ты распространяешь его славу, Ты предписываешь ему прямой путь. Я — князь, которому Ты благоволишь, создание Твоих рук. Ты создал меня, вверил мне царственность надо всем народом. Милостью Твоей, о Владыка, пекущийся обо всех, побуди меня любить Твою вышнюю волю. Вложи страх пред Тобой в мое сердце, даруй мне то, что Ты полагаешь добром. Воистину, Ты творишь мне благо» (цит. по: Якобсен Т. Указ. соч. С. 268). Что из существенных моментов теизма здесь упущено: личное отношение —на месте, смирение — налицо, страх божий —в полном порядке, прямо говорится о любви к воле Божьей, о самом Боге сказано как о личном Боге, как о «близком боге» и в то же время как о Боге всех. Автором этой молитвы мог быть любой из благочестивых иудейских или христианских царей, любой из богобоязненных султанов и халифов; богословие, подразумеваемое этой молитвой, по сию пору является основным содержанием церковной проповеди по всей России. Кому же она принадлежит? Навуходоносору, и обращена она к Мардуку. Еще раз: ни о каком развитом иудаизме вне связи с другими семитическими религиями говорить нельзя.
4. Религиозное сознание Порфирия в свете ближневосточного понимания времени
Но вернемся к Порфирию. Здесь мы должны сразу же сказать, что в своих представлениях о времени, истории и душе он чрезвычайно близок стоикам, ибо и время, и история, и душа не в последнюю очередь суть метафоры самовосприятия; поскольку же семитическое самовосприятие в эллинистическом мире впервые было выражено в стоической философии, то все более поздние семитические попытки самовыражения на греческом языке будут теснейшим образом связаны именно со стоицизмом. Итак, оанитом Порфирий был, вне всяких сомнений, последовательным и убежденным. Чтобы нам понять присущую именно ему форму оанитства, следует сначала понять его критику современного ему язычества.
В своей замечательной книге Сокровища тьмы Торквильд Якобсен прекрасно высказался о трех метафорах, в которых выразил себя опыт месопотамской религии, и о путях перехода от одной к другой, что составляет историю этой религии. На первых порах мы встречаемся здесь с богами, представляющими собой духовную сущность природных явлений, это чистые боги-податели, - податели как благ, так и зол. На второй ступени развития боги становятся правителями, это собственно мифологическая ступень развития религии; в отличие от первой, где встречались лишь отдельные мифы-мистерии, здесь есть уже развитая внутренняя и внешняя божественная полития, тут же мы имеем и героев, и походы в царство мертвых, и "вечные вопросы", и "вечные ответы". На третьей ступени метафора бога-правителя уступает метафоре бога-родителя и даже, больше того, спасителя, сказы о богах и героях превращаются в псалмы и молитвы, обращенные к "своему богу". Теперь, когда мы видим у Порфирия ожесточенную критику мифологической религии с отвержением существующих обрядов[197] и поношением поэтов[198], осуществляющуюся средствами античного, восходящего еще к софистам рационализма[199], мы должны задаться вопросом, что же с положительной стороны предлагает сам Порфирий вместо мифологической религии. В каких богов верит философ? В богов звезд, упорядочивающих мир, в благих демонов, властвующих стихиями, в тех богов, у которых нет ни приключений, ни зла, ни вообще политии, они просто делают свое дело в мире, и все. Но это же как раз и есть архаические боги-податели! Считавший себя возвысившимся над народными суевериями философ в реальности отступил на шаг назад. Впрочем, этот "зад" мог ему казаться, как мы видели выше, и "передом". Это открывает глаза на значение аллегорезы в рамках семитического дискурса - неважно, у стоиков или неоплатоников.
В самом деле, мы уже говорили, что на уровне богов-подателей существуют отдельные мифы, которые еще почти и не существуют отдельно от сакральных действий. Рассматривая Порфирьев стиль восприятия религиозно-мифологических сюжетов, во-первых, невозможно не заметить их дискретности, причина коей, я полагаю, не в дурном состоянии источников. Мыслитель совершенно отрицает теогонический пласт сознания и литературы как мифопоэтический, т. е. редуцирует поэзию к риторике, миф к аллегории и тем самым избавляет себя от труда моделировать до-философское сознание, а вместе с этим лишается всякой возможности понять какое бы то ни было из его содержаний. Итак, поскольку боги больше не имеют для Порфирия мифологических объяснений и взаимосвязей, то они теряют вообще всякую связь друг с другом, превращаясь в отдельных мистериальных богов, подобных архаическим.
Во-вторых, аллегориями чего являются для стоиков и Порфирия культовые, мифологические боги? Аллегорией природных явлений и процессов. Значит, они утверждают, что, поистине, существуют только сами процессы и связанные с ними духовные силы, но это как раз и есть возврат к концепции религиозного предмета как нуминозного-в-вещах, что и составляет примитивнейшую форму семитской религии. Мы уже говорили, что аллегорическое толкование - как научный метод и литературный прием - появилось в Элладе. Однако неотъемлемой частью философии религии она стала только у стоиков, это, несомненно, связано с тем, что для стоиков не только как для рационалистов-просвещенцев, но и как для семитов эллинские боги - как не в последнюю очередь именно родовые эллинские боги - не существовали совершенно; Гомер для них, и в самом деле, был всего лишь литературой. Очевидно, что аллегореза для них была способом приведения незнакомого им эллинского религиозного материала к им известным семитическим образцам. Не иначе дело обстоит и у Порфирия. Возьмем его трактат Об изваяниях. Оказывается, все изваяния мифологических богов обозначают не самих таких богов -их ведь нет, они -домыслы поэтов и толпы, - а обозначают они богов истинных, ведомых философам и жрецам. Что же это за боги? Зевс -это космос, Гера -эфир, Лето - подлунный воздух, Рея -земля каменистая, Деметра - равнинная, плодородная, Кора -сила семян, Плутон - Солнце, идущее под Землей, даже 12 подвигов Геракла -это 12 знаков Зодиака; ну как тут не вспомнить о родстве халдеев с сирийцами! Итак, эллинские боги суть нумены вещей. Эта имманентность божественности вещи - центральное положение архаической семитской религии. Я думаю, нет нужды говорить, что любой из образов эллинских мифологических богов неизмеримо богаче подобного рода спекуляций, как и любой бог-правитель неизмеримо сложнее и интереснее любого бога-подателя.
Говоря о деградации религиозного в связи со стоиками и Порфирием, нельзя не отметить, что их мировоззрение имело и черты личной религиозности. У Порфирия эта личная религиозность выражалась местами весьма и весьма красочно, потому следует сказать о метафоре бога-родите-ля-и-спасителя в творчестве философа.
Предварим обзор соответствующих мест следующим замечанием: немифологические формы религиозного сознания, очевидно, как предшествуют, так и последуют мифологической религии и мифологическому сознанию. Нет ли чего-нибудь общего между ними кроме немифологичности? Есть. Это практическое отношение к божеству; совершенно неважно при этом, вымаливают у него личного спасения для вечной жизни или заклинают с целью добиться от него дождя. Ничего похожего на поклонение, восторг и почитание, не несущее в себе ничего кроме проявления благодарности за сам факт его божественного и своего человеческого существования, как в самых ранних, так и в самых поздних формах религии почти совершенно не встречается. Самый бескорыстный и созерцательный из всех псалмов - сто второй - вместе с тем прямо мифологичен, есть все основания связывать его с египетской традицией; псалмы, полные личными переживаниями, настолько мало говорят о Боге, что если бы мы хотели составить представление о Нем только из них, то были бы вынуждены ограничиться общими фразами. Как в заговорах от зубной боли, от божества здесь требуют просто действия, желательно немедленного; это касается не только иудейских псалмов, но и вавилонских, и египетских. Таким образом, в силу прагматического отношения личный бог поздней фазы религии оказывается архаическим богом-подателем, хотя подает он, конечно, несравненно более духовные вещи; божество становится подателем благ не природных уже только, но и социально-политических, духовно-магических, благодетельствует оно уже не природе и не общине только, но и этому вот конкретному субъекту; цепенящий ужас перед ним сменяется смиренной любовью; но как на ранней, так и на поздней стадии религиозности никаких героев, восторгающихся богами и соревнующих им, нам уже не встречается.
Отметив этот вот архаически-модернистский прагматизм как явление, вернемся к Порфирию. Даже те места в его сочинениях, которые нужно понимать в смысле "религии близкого бога", имеют у него столь архаический оттенок, что поневоле начинаешь сомневаться. Вот, например, пассаж из трактата О воздержании (II, 32, 1): "Первая и величайшая помощь богов нам состоит в плодах, только из них и следует довольствовать и богов, и землю, которая их дает"[200]. Под этой сентенцией мог бы, пожалуй, расписаться и неандерталец. Однако Порфирий продолжает: "Ибо земля -общий очаг богов и людей, так что всем тем, кто на ней, должно, поклонившись ей, восславить ее с нежной любовью как родительницу нашу и кормилицу". А вот эти образы и переживания уже совсем из другой эпохи: это слова человека, живущего внутри третьей метафоры, сознанием богов-родителей-и-спасителей. Каким-то непостижимым образом оба этих момента переходят у Порфирия непосредственно один в другой. В II, 24, 1 он говорит: "Существуют три причины жертвоприношения богам: почитание, благодарность, нужда в благах". Все эти три мотива у Порфирия определенно рядоположены. Вот пассаж из II, 34, 3: "Должно [мистически] соединиться (συναφθέντας) с Богом, уподобиться Ему, принеся в качестве священной жертвы наше восхождение, которое есть и наш [Ему] гимн, и наше [Им] спасение. Что же до Его потомков - умопостигаемых богов, то для них нужно добавить словесное гимнословие. Ибо жертвоприношение есть возношение первин каждому из богов того, чем он питает нас и чем сохраняет в бытии нашу сущность. Как крестьянин возносит богам первины своих колосьев и плодов, так и мы посвятим богам свои прекрасные мысли о них, благодаря их за то, что, позволяя себя видеть, они питают нас истинной пищей; возблагодарим их -пребывающих с нами, являющих себя и сияющих ради нашего спасения". Здесь на одной доске оказываются не только основные виды религиозной мотивации, но и основные субъекты культа, ибо рассматриваются они строго с прагматической стороны-с точки зрения того, что должно делать относительно них человеку. Эта вот обязанность человека высшим силам как-то незаметно стирает у Порфирия разницу между самими этими высшими силами: через запятую идут Единый (определенно в Плотиновом понимании), умопостигаемые, они же астральные, боги, (отчасти платонического, отчасти традиционно семитического происхождения), наконец, благие демоны, которым поклоняется (а скорее, должен бы поклоняться идеальный) крестьянин - все они требуют культа, и вся жизнь оказывается культом. Пантеургизм соответствует пандемонизму и оба вместе -пантеизму. Из этой вот смеси, видимо, можно извлекать обломки самых разных воззрений, принадлежавших и к разным народам, и к разным эпохам. Связующей весь этот "обломочный конгломерат" идеей является, несомненно, высокое пантеистическое созерцание, которому придан ближневосточный практический разворот; лучше всего оно, пожалуй, выражено в следующих словах[201]: "В храмах, посвященных людьми богам, чистым должно быть даже то, что на ногах <...>, в храме же Отца, то есть в этом космосе, разве не следует сохранять чистоту даже самого внешнего и последнего - кожаного хитона, разве он не должен быть чист, когда мы в храме Отца?" Это высокое желание всецелой святости, требование ко всякой природе и ко всякому телу быть святой природой и святым телом не имеет никаких аналогов ни вообще в греческой философии, ни ближайшим образом у Плотина, зато бесчисленное количество раз встречается у современных мыслителю иудеев, христиан, гностиков, герметиков и всех увлеченных ближневосточной духовностью в ту эпоху.
Здесь мы собрали основные места, которые иллюстрируют, как нам кажется, личную религиозность Порфирия и его внутреннее благочестие: О воздержании, II, 32, 2[202]; II, 15, З[203]; II, 19, 4[204]; II, 45, 4[205]; далее даю эти места в одной сноске[206].
[197] Имею в виду принесение в жертву животных, например: О воздержании, II, 7, 2; 12, 4.
[198] Например: О воздержании, II, 41, 1; 58, 4.
[199] Непревзойденным образчиком такого рода резонерства служит объяснение возникновения мистерий в трактате О воздержании (II, 9, 10; IV. 15 и т.п.). Даже воинствующие безбожники начала прошлого века едва ли смогли бы придумать на эту тему что-нибудь более плоское и пошлое.
[200] Почти то же самое говорит Порфирий в II, 12, 2: «Но прекраснейшее и ценнейшее из того, что боги для нас сделали, суть плоды, ибо именно посредством них боги спасают нас [от голодной смерти] и даруют нам жизнь в законе (νομίμως ζῆν), так что воздавать богам почести следует взятым от плодов».
[201] О воздержании, II, 46, 1.
[202] «Как не все следует жертвовать, так и не всем следует жертвовать, ибо жертвы разных людей доставляют богам разное удовольствие». И при этом в IV, 9, 7: «Благодаря преизбытку мудрости и братству с божественным египтяне узнали, что некоторые животные приятнее богам, нежели люди, как, например, Гелиосу — сокол, вся природа которого состоит из крови и пневмы».
[203] «Таким образом, недорогое любезно богам, божество более взирает на характер жертвующего, нежели на множество жертвуемого».
[204] [Говорит с осуждением:) «Однако есть те, кто наводит блеск на одежды и тело, но не очищает душу от зла, полагая это безразличным, словно бы богу не доставляет наибольшую радость чистота того божественного в нас, что родственно ему по природе».
[205] «Значит, чистота —как внутренняя, так и внешняя — свойственна божественному мужу, радеющему о посте как на страсти души, так и на ту пищу, которая их движет; божественному мужу, питающемуся богомудрием и уподоблением Богу, которое осуществляется посредством правых мыслей; мужу, освящаемому умной жертвой, приходящему к Богу в белых одеждах, в бесстрастии истинно чистой души, с легким телом, не отягченным ни взятыми отъинуду чужими соками [тела], ни страстями души».
[206] О воздержании, II, 52, 4: «Сам и через себя, как мы говорим, он придет к Богу, который утвержден в его истинных внутренностях, там он получит наставление к вечной жизни, ибо туда он стремится весь: не слушать прорицателей, но стать “собеседником вечного Зевса”».
II, 60, 4: «Но если юноша убежден, что богам все это не нужно, что они смотрят лишь на характер приходящего к ним, что они считают величайшей жертвой правильное понимание их и самого положения вещей, то разве не будет он воздержным и справедливым?»
II, 61, 2: «Нужно, чтобы почести, воздаваемые богам, были похожи нате, которые оказываются хорошим людям, перед коими поднимаются, чтобы предложить им возлечь [на своем месте за пиршественным столом], но чтобы они не имели никакого сходства с уплачиванием налога».
II, 61, 7: «...неужели же мы, [философы,] боясь людей и их поношений, станем нарушать законы природы и приказы богов?! 8: Велико же будет негодование великого божественного хора... »
III, 16, 1: «... и боги, и почитающие богов мужи уважают просителей».
III, 18, 5: «То же самое относится к вреду, наносимому растениям посредством огня и воды, к стрижке и доению овец, укрощению быков под ярмо: Бог снисходительно прощает тех, кто делает это для спасения и выживания».
III, 26, 9: «Бог не сотворил человека так, что мы не можем спастись, не причиняя вреда другому».
III, 27, 1: «.. .таким же образом тот, кто не ограничивается непринесением вреда людям, но распространяет сферу применимости этого принципа на иных живых существ, еще более подобен Богу, если же способен распространить его и на растения, то еще более сохранит [в себе] образ (εικόνα) Бога».
IV, 20, 16: «.. .зачем взывать к людям до такой степени ослепленным, что они ухаживают за собственной бедой, ненавидят в первую очередь самих себя и Того, Кто их сущностно породил... ».
IV. 13, 1: «... Ибо власть их [т. е. земных властителей] не без произволения Бога».
К Марцелле:
Гл.5: «Боги не презирают нас, как Филоктета Атриды, они возникли спасителями и не забывают нас».
Гл.4: «Нужды эллинов вопиют [к небесам], и споспешествующие им боги присоединяются к их мольбам».
Гл.11: «Человеку же мудрому Бог божественную дает свободу. И очищается мудрый человек мыслью Бога, а стремящийся к правосудию Богом вдохновляем».
Гл. 12: «При всех поступках, всех делах и речах Бог присутствует как надзиратель и страж. Будем считать Бога причиной всего доброго, что мы делаем. Причиной же зла будем мы сами, если изберем зло, в чем Бог [, очевидно,] не виновен. Потому, следует молить Бога о том, что достойно Бога. Будем просить у Него то, что не сможем получить ни от кого другого...
... Призывай Бога, чтобы Он стал тебе помощником в твоих упражнениях в том, что понадобится тебе после освобождения. Следовательно, не проси ничего из того, что судьба дает лишь затем, чтобы снова отнять. Не проси раньше времени, но только когда Бог явит тебе, что тебе естественна прямая просьба».
Гл. 13: «Итак, желай и проси у Бога только того, что Он сам желает и есть...
... познан Богом мудрец, известный немногим или, если хочешь, неведомый никому».
Гл. 15: «.. .должно слушать и высказывать о Боге суждение, как если бы Он был пред тобой».
Гл. 16: «Душа мудреца, напротив, прилажена (αρμόζεται) к Богу, она постоянно видит Бога и всегда пребывает с Богом. Если архонта радуют находящиеся под его началом, то и Бог печалуется (κήδεται) о мудреце; и потому счастлив мудрец, ибо опекает его Бог.
... Только мудрец — священник, только он возлюблен Богом, только он умеет молиться».
Гл. 17: «Сам себя делает человек нечестивым перед лицом Бога, сам навлекает на себя неудовольствие Бога: так происходит не потому, что Бог переживает что-то плохое(πάσχων κακώς), ибо только благое творит Бог, но из-за самого человека, из-за его иного и дурного мнения о Боге».
Гл. 19: «Ни слезы, ни мольбы не привлекают внимания Бога, обильные жертвы не воздают Ему чести, многие приношения не украшают Его, но прочно утвержденный [в Боге] обоженный дух (έθεον φρόνημα) —вот что соединяет нас с Богом».
Гл. 20: «Если же ты всегда будешь помнить, что где бы ни ходила твоя душа, где бы ни усовершала (άποτελη) энергию тела, Бог пребудет с тобой и будет наблюдателем (έφορος) всех волений твоих и поступков, если ты почтишь этого Зрителя, от которого ничего не ускользает, то Бог станет жить вместе с тобою. Пусть, даже когда твои уста рассуждают о каком-либо ином деле, твоя воля (γνώμες) вместе с разумом (φρόνημα) будет обращена к Богу».
Гл. 24: «Никакой Бог не есть причина зла, совершенного человеком, виновен сам выбравший ум. Молитва, сопровождаемая дурными делами, нечиста, а потому не приемлется Богом; сопровождаемая же добрыми делами — чиста и доходчива. Четыре стихии особенно важны в нашем отношении к Богу: вера, истина, любовь и надежда». И при этом египтяне, о которых Порфирий несколько раз говорит как о самом мудром из народов, «чтят огонь и воду, как важнейшие причины нашего спасения» (О воздержании, IV, 9, 5). Духовное и телесное смешиваются до полной неразличимости.
Там же: «Следует верить, что только спасение есть обращение к Богу; веруя же, нужно ревностно приняться за дело, чтобы познать истину о Нем, а познав, любить познанного, любя же, питать душу в течение всей ее жизни благими надеждами».
Гл.33: «Посланный нагим в этот мир, он [мудрец] обнажится, чтобы воззвать к Тому, Кто его послал; Бог внимает только тому, кто не нагружен поверхностным и чуждым, и заботится о тех, кто чист от тлена».
5. Древнее благочестие, "отцы", время и вечность у Порфирия
В теснейшей связи с архаизирующей и, наоборот, превращающейся в личное благочестие семитической религиозностью, с оанитством и левым обратным временем находятся у Порфирия два учения: во-первых, о первобытном рае, которое Порфирий мог почерпнуть, прежде всего, у стоиков, а потом и в упоминавшейся выше литературной традиции идеализации примитивных обществ, и, во-вторых, типически ближневосточное учение о "древлем благочестии". Взглянем на них поближе. В трактате О воздержании[207] Порфирий, со ссылкой на Дикеарха, излагает и принимает учение о первобытном рае, разумеется "отказавшись от чересчур уж мифологического" его понимания. Этот отказ может значить только то, что первобытный рай полагается объясняемым не волей богов, но естественным ходом вещей; этот естественный ход вещей представляет собой не что иное, как стоическую концепцию циклического возникновения и уничтожения космоса: пока мир и человек молод - все хорошо, стареют - становятся все хуже и хуже, пока, наконец, не погибнут. Понятно, что такая картина заставляет смотреть назад всякого человека, взыскующего совершенства. В этой обратной временной перспективе с необходимостью должен проступить и уже известный нам Оан. Он представляет для Порфирия древнейшее религиозное предание человечества; апостолов Порфирию заменяет сонм древних религиозных законодателей, поэтому он вдохновляется чуть ли не всеми известными ему религиями - "будем подражать святым и древним [мужам], жертвуя по преимуществу первины из созерцания данного нам богами и необходимого для сущностного (ὄντως) спасения"[208],- не видя в них внутренних различий, редуцируя всякий факт к своей доктрине и своему внутреннему опыту. Совершенно ясно, что в рамках такого мировоззрения: "величайший плод благочестия - чтить Бога согласно отцам"[209], где "отцы"-это как раз и есть всевозможные древние, желательно древнейшие, учителя. Буду удивлен, если кто-нибудь укажет мне феномен, более отвечающий известному клише "безродный космополитизм", ибо почитание "отцов", я бы даже сказал "всех отцов", реально обозначает у Порфирия только то, что он вычитывает из всех них исключительно то, что консонирует с его собственными представлениями, не обращая на них самих ни малейшего внимания, будучи обращен только к себе, обречен оставаться всегда наедине с собой, и ничто, кажется, не в силах разрушить этого инфернального одиночества. Это его переживание как бы предвосхищает богатейший опыт одиночества, накопленный в последующие века сначала в монашеской (как восточной, так и западной), а затем и в мирянской традициях протестантизма.
Но это только одна сторона "святоотеческого" вопроса. Описывая религию "личного бога", вспыхнувшую в Месопотамии в конце II тыс. до н. э., Торквильд Якобсен замечательнейшим образом описал родительский аспект всякого личного[210] божества: "Обычное обращение к "личному богу"- "бог, создавший, или породивший меня" или божественная мать, явившая меня на свет". Для более четкого уяснения того, что обозначают такие термины, необходимо понять, что личный бог обитал в человеческом теле. Если же "бог покидал тело человека", оно могло стать жертвой злых демонов болезни, "овладевающих" им. Как божественная сила, обитающая в человеке и движущая его успехом, бог естественным образом присутствовал, активно ему способствуя, и при высшем, решающем жизненном свершении, а именно рождении сына. Бездетность, отсутствие сыновей обрекали на личную неполноценность, лишали жизнь смысла[211]. Только личный бог и личная богиня, воплотившись в отце с матерью, зачинали дитя и давали ему жизнь"[212]. Нет ни малейших сомнений, что знаменитый "бог Авраама, Исаака и Якова" был изначально таким именно личным родовым богом Израиля как рода, каковым и по сей день остается, судя по тому, что в синагогальном представлении о принадлежности к иудейству кровь доминирует над верой. Было бы смешно думать, что это семитическое представление никоим образом не проникло в греческую философию. В наукообразной и секулярной, так сказать, форме оно заняло почтенное место среди догматов стоицизма - философии, как я уже многократно говорил, греко-язычной, но не греческой. Итак, у стоиков интересующий нас вопрос о преемстве от отцов решался по всем правилам натурфилософии: бог-в-творении у стоиков олицетворен пневмой и логосом; последнее определение, однако, имеет, так сказать, непереходный характер: это бог, управляющий творением, но не становящийся им; пневма же именно такой бог-в-творении, который становится творением, пребывает им до мирового пожара, а потом вновь, очищаясь от вторичных тварных форм, входит в божественные формы бытия. Итак, сперма, из которой, согласно стоикам, полностью отрицавшим необходимость женского начала в деторождении и понимавшим женские половые органы исключительно как питательную среду для уже готового зародыша, изначально существующего в семени[213], возникает весь человек, есть не что иное, как пневма с примесью влаги. Таким образом, сама душа человеческая оказывается производной из семени, телесной и нуждающейся в питании; душа есть тонкое тело, поскольку она есть охладившаяся после выхода из утробы пневма, а питается она испарениями крови и воздухом, а потому теснейшим образом связана с грудью и сердцем, откуда, опять же, подает голос. Следовательно, "передача душевных свойств от родителей к детям мыслилась стоиками чисто механической и в последующие времена считалась одним из доказательств телесности души"[214]. Однако поскольку пневма -это бог-в-творении, постольку речь здесь идет о передаче божественного посредством деторождения. Пневма, бывшая у отца, составлявшая саму его душу, переходит к сыну в акте деторождения. Да, эта пневма уже не личный бог, но представления о телесности души, боге-в-теле, трансакции божества в деторождении; вся эта навязчивая "религиозная физиология" чрезвычайно сближает стоические положения с вавилонскими и иудейскими. В этом именно ключе мы и должны понимать рассуждение о следовании "отцам" у Порфирия, который, исходя из стоического космополитического традиционализма, пытается вернуть его к его религиозным корням, а самим этим религиозным корням предать универсализм; в результате он представляет своими "отцами" духовных наставников всего человечества. На примере этого мыслителя мы можем наблюдать чрезвычайно деликатный момент духовной жизни человечества: претворение родового и научного в культурное и религиозное.
В заключении раздела, с тем чтобы полностью исчерпать тему, скажем о времени и вечности у Порфирия. Говорить тут придется немного: в известных мне текстах Порфирий, подобно библейским авторам, предпочитает брать "вечное" в качестве прилагательного. Вполне ясно, что в этом смысле слово означает у него "неопределенно много времени", т.е. "навсегда", "во веки веков", как это и мыслилось обычно на Востоке - такое словоупотребление для Порфирия обыкновенно. То же следует сказать и о времени: в подавляющем большинстве случае о нем говорится у Порфирия в разговорном значении. В трактате Об изваяниях (гл. 5) содержится пассаж, который можно прочесть как отсылку к вавилонскому предметному времени, здесь Порфирий говорит: "Обходя по кругу времена года ["оры"] космоса, Солнце есть творец времен (χρόνων) и обстоятельств, от этого он называется Гором <... > куреты же при времени, они суть символы обстоятельств, ибо время шествует через обстоятельства". Конечно, никакой "чистой внеположности" европейского времени или "иконности" времени эллинского вообще, и особенно платоновского, здесь нет вовсе. И все-таки, будь этот пассаж лишь один, говорить было бы не о чем; центральный текст нашего собрания -это Сентенции, 32 (44)[215]. Чтобы понять, почему он начинается с рассуждения об Уме, нужно принять во внимание, что, согласно Порфирию, "Ум есть время для существ, живущих во времени"[216]. Поскольку умопостигаемые боги суть звезды, то и Ум, вероятно, некая обобщенная космическая разумность, локализующаяся в высшей сфере. Поскольку Ум совершенно единомног и в нем есть все и всякое многое в совершенном единстве, постольку в нем есть все и всякое время в совершенном единстве, т. е. вневременно. Вечность, как актуальная действительность всех времен разом, Порфирием никак не мыслится и, кажется, совершенно ему не нужна. Разницы между вечностью и вневремен-ностью Порфирий, похоже, не замечает. Нет ничего удивительного, что тут же оказывается, что "вечность есть беспредельное время". Уклонение в аристотелевский логицизм и стоический натурализм в данном вопросе выражено в неспособности мыслителя диалектически соединить покой и движение в Уме, в данном случае - временные покой и движение; это, конечно, иное, не Плоти-ново умозрение. Итак, вневременное есть начало времени, это вневременное - неподвижные звезды, ниже их -сферы планет, Солнца, Луны, это есть, по Порфирию, сфера Души; движение души, сиречь подвижных небес (для древних планеты двигались не в пространстве, но вместе с пространством), создает время (очень предметное время, заметим, совершенно неотделимое от этого движения небес). В сущности, как такового единого времени и не существует, ибо Душа не представляет собой единого тела, но - конгломерат тел, следовательно, для каждого тела свое время - в этом почти все семиты (вплоть до Энштейна) удивительно единодушны, ибо не желают мыслить время отдельно от процедуры его измерения, а тем самым не выходят за границы мышления времени как срока. Но в то же время сама Душа, по Порфирию, хотя и одушевляет небеса, все же не редуцируется к ним, а потому у самой Души есть еще и свое время. Это положение несколько приближает Порфирия к его учителю, у которого Душа-Ипостась в своем для-себя-бытии, конечно, вечна, но порождает время в своем творчестве; чтобы мыслить таким образом, нужно освободить по возможности полно Душу Всего - и как Божественную Ипостась, и даже как природу, творящую в дольнем - от привязок к космическим телам, что вообще нелегко давалось древним и даже Плотину, а уж у Порфирия шло совсем туго. Если же такого отделения не происходило, всякое построение в греческой философии легко скатывалось к популярным ближневосточным формам религиозной астрономии, вавилонского, разумеется, происхождения, поползновения к чему весьма ощутимы и у нашего философа.
[207] О воздержании, IV, 2, 2-4.
[208] О воздержании, II, 35, 2.
[209] К Марцелле, 18.
[210] То есть божества как персоны, благодетельствующей своему почитателю.
[211] Комментирующий текст И.М. Дьяконов тут весьма ехидно замечает: «Более существенно, что человек, не имевший детей, лишался посмертных жертвоприношений и тем самым был обречен на голод в подземном мире».
[212] Якобсен Т. Сокровище тьмы. С. 183; см. примеч. 102.
[213] Это, насколько я знаю, заблуждение, характерное для всех древних и средневековых врачей.
[214] Столяров А. А. Стоя и стоицизм. М., 1995. С. 136.
[215] См. с. 26-29 настоящего издания.
[216] Историко-философские фрагменты, 18.
6. Психология и учение Порфирия о Мудреце
Для того чтобы проанализировать и понять в системе имеющиеся у нас психологические суждения мыслителя, нам нужно напомнить читателю стоическую психологию, вне контекста которой мысль Порфирия понять невозможно. Психология занимает у стоиков промежуточное положение между антропологией и гносеологией, потому в тот же контекст мы поставим и наше изложение.
Итак, во дни оны, когда вновь возникли новое небо и новая земля, последняя -по велению всемогущего Промысла - понесла от изначально содержавшихся в ней семенных логосов и родила человека (состояние источников не позволяет как-то уточнить сказанное, но нужно полагать, мыслилось это так: пришло время, и пошли люди, как ягоды или грибы). С возникшим человечеством дело обстоит несколько легче: о том, что есть семя и душа, о том, как передается пневма от одного к другому, уже было сказано. Особо отметим, что, как совершенно справедливо замечает А.А. Столяров[217], стоики были абсолютно равнодушны к смыслообразу микрокосма. В этом нет ничего удивительного, ибо как само понятие "космос", так и теснейшим образом связанное с ним понятие "микрокосм" не семитического происхождения, оба термина апеллируют к образам и языку, весьма отличному от семитских: космос (букв.: "украшение") неотделим от понимания предметности как явления, того, что видят в свете - феномена; сами же семитские слова, называющие вещность - как в аккадском, так и в древнееврейском, - связаны с глаголами говорения[218] и тем самым подразумевают слуховую метафору (слух - музыка - стихия времени - мир-олам - табу на сакральные изображения), отсюда, кстати, и творение словом: сказал, и стало. Вернемся назад. Итак, мы помним, что душа есть охлажденная пневма, питающаяся испарениями крови и воздухом. В этой вот душе стоики находят 8 частей: ведущее начало + 7 чувств, к которым помимо пяти внешних относят также речевую и породительную способности. Ведущее начало (разумность как таковая) имеет 4 способности: воображения (фантазии, представления, впечатления), согласия, раздражительную (гневную) и разумную (логическую); эти способности суть ἔξεις, состояния ведущего начала. Таков ландшафт, всмотримся в детали. Что касается ощущений, то раз сама душа - сгусток пневмы, то они суть потоки пневмы. Зрение, например, описывается так: зрение - это поток пневмы, идущий из сердца к глазам, от глаз - световыми конусами (как фары автомобиля) к предмету, и этот предмет ощупывающий, т. е. сгусток пневмы - душа - выкидывает протуберанец и касается им предмета. Затем материал чувственного восприятия доставляется пневмой к ведущему началу, в котором возникает впечатление (представление, фантазия). Дальнейшая драма познания разворачивается уже внутри ведущего начала. Эта возникающая под воздействием материала ощущения фантазия есть претерпевание (πότθος) ведущего начала, отпечаток, оттиск (τύπος) предмета на нем, появляющийся с необходимостью в силу самого факта восприятия. Ощущение оказывается буквально гвоздем, как называет его Порфирий[219], прибивающим ведущее начало, а для Порфирия - саму душу к органам чувств (телу), а посредством них - и к чувственному миру в целом. Особо отметим совершенный отказ стоиков говорить о том, как качества предмета становятся материалом ощущения и как материал ощущения становится фантазией, т.е. содержанием уже разума, а не чувств. (Из принципиальной необъяснимости этих моментов в концепции стоиков родится у Порфирия учение о симпатической гармонии; неоговариваемая непосредственность этих переходов вызовет у Порфирия напряженнейшее переживание связанного с процессом чувственного восприятия колдовства.) Следует упомянуть и важнейшие из корролариев этого стоического сенсуализма: 1. Душа[220] - чистый лист, всякое мышление возникает из чувственного восприятия или не без чувственного восприятия. 2. Ощущения всегда истинны, лгут лишь суждения о них (в этой вот необходимой истинности и усматривал не без причин нечто зловещее Порфирий). Теперь, превратившись в фантазию (впечатление), чувственное восприятие подвергается аксиологическому анализу посредством способности, называемой стоиками согласием (συγκαταθεσις), причем различают теоретическое согласие, приводящее к постижению (κατάληψις): это согласие, скорее, не оценка, но анализ первичных впечатлений,-и согласие, "запускающее механизм целенаправленного стремления"[221]. Само стремление (όρμή) - а мы бы сказали, "страсть", "страстный порыв" - понимается как движение рассуждающего рассудка (διανοίας); даже душевные влечения (πάθη) есть не что иное, как суждения. Итак, ощущение →впечатление (фантазия) → согласие → постижение, отсюда стоический критерий истины: постигающее впечатление (каталиптиче-ская фантазия, как его нередко называют), занимающее в стоицизме место самосознания в новоевропейской традиции. "Я мыслю, значит, я существую" здесь звучит как "я представляю, следовательно есть предмет". Бесплотный разум, мыслящий себя же бесплотного, здесь предстает как одно тело, соприкасающееся с другим телом в акте представления; на месте мышления, обнаруживающего себя как мыслящего и мыслимого, стоит представление, обнаруживающее себя как исходящее из предмета и направляющееся к предмету, ибо не будем забывать, что все эти фантазии, согласия, понимания суть не что иное, как состояние пневмы, тонкого тела, и следовательно, сами телесны, и даже сами суть тела. Далее, постигнутое откладывается в памяти, ряд подобных постигнутых впечатлений создает опыт. Из опыта посредством индукции или аналогии образуются общие понятия φαντασίαι λογικαί, ἔννοκα. πρόληψις, причем если последние естественны, смутны и образуются сами собой, то предпоследние возникают в результате обучения и воспитания в возрасте от 7 до 14 лет. Для анализа Порфирьевых текстов сказанного достаточно.
Центральный текст для нашего понимания психологии Порфирия -это Сентенции 23 (29):
Как то, что душа есть на земле, не значит, что душа вступила на землю, что верно относительно тела, но значит, что она стала возглавлять тело, которое вступило на землю, так и то, что "душа в Аиде", значит только то, что она возглавляет эйдол, которому естественно находиться в месте и иметь темную ипостась[222].
С первых же слов мы видим, что учение Порфирия не является в строгом смысле стоическим: стоики, как мы помним, говорили о возникновении на земле и души, и тела. Порфирий, как платоник, возникновения души на земле допустить не может. Каждая единичная душа для Порфирия есть энергия Души Всего (Сентенции, 39) и - как энергия - не может быть оторвана от своей сущности. Однако эта Душа Всего отнюдь не есть некое отвлеченное от всякой космичности божество; в трактате О воздержании (II, 37, 1-2) Порфирий пишет: "Первый Бог бестелесен, неподвижен и неделим, Он не содержится ни в чем-либо, ни в Себе, Он не нуждается ни в чем извне. Не иначе дело обстоит и с душой космоса, имеющей три измерения и самодвижной по природе, движущей тело космоса согласно наилучшему логосу. Душа содержит тело в себе и охватывает его, поскольку бестелесна и непричастна никакой страсти-претерпеванию". Нам трудно понять, как объект, "имеющий три измерения и самодвижный", может быть бестелесным, между тем это принципиально важно - как в случае Души Всего, так и в случае всякой единичной души. Здесь нужно принять во внимание, что весь древний Ближний Восток никогда не мыслил какой-то одной души при одном теле, и в Вавилоне, и в Египте мыслилось сразу несколько существующих вне тела душ, при этом некоторые из них были как раз вполне пространственны и самодвижны. А. Оппенхейм таким образом реконструировал древневавилонскую религиозную психологию[223]: древний вавилонянин выделял 4 аспекта имманентной человеку божественности, или "личного бога": илу - дарующий и олицетворяющий успех, удачу и спасение личный бог, и его женская испостась - иштару, олицетворяющая чью-либо судьбу (шимту), т.е. то, что вызывает человека к бытию и должно быть реализовано в его жизни от рождения до смерти (мы бы сказали: логос, божий замысел о человеке). Эта пара божественна, следующая - демонична. Это шеду - воплощение жизненной силы индивида, не в последнюю очередь сексуальной потенции; это латинский genius в сходной функции внешнего воплощения души, в ветхозаветной литературе -идол. Его женская половина - ламассу - аналог греческого эйдола и египетского ка, душа - как образ, дух, призрак. Сходным образом дело обстояло и в Египте, где различалась душа ка - точная копия тела, переходившая по смерти тела в статую покойного или остававшаяся в самом теле, душа ба - душа-птица, взлетающая на небеса и, наконец, душа имя - последнее мылилось чем-то вроде ангела-хранителя, обитающего отдельно от человека и защищающего его от опасностей; отсюда и в древнем Египте, и по сей день повсюду на Переднем и Среднем Востоке употребляют благопожелания перед или после имени уважаемых лиц; отсюда, воспевая гимн, православные, "блажат" Богородицу и т. д. и т. п. На всем Переднем Востоке - в точности, как и у стоиков - средоточие личности полагалось в сердце[224]. Египтяне, например, "считали, что душа - это нечто живое, что дышит через нос. Потому "сохранить жизнь" по-египетски значит "дать дыхание носу". Сердце, по их мнению, было вместилищем ума"[225] (совсем недавно мы говорили о том, что у стоиков душа подает из груди голос). Я полагаю, что в основании Порфирьевой психологии лежит, скорее всего, все-таки вавилонская метафора: эйдол, нисходящий в Аид, - это определенно ка или ламассу, но сама душа - это, скорее, не ба - в этом образе чересчур много субстанциальной статичности, ба- души благих демонов и богов, но душа человека в куда большей мере шеду; в порфирьевской концепции единичной души столь много семитического динамизма, что она не имеет никаких аналогов в Египте. Единичная душа -это именно порыв, она там, где ее желание, где ее внимание, этому у Порфирия посвящено солидное рассуждение в трактате О воздержании (I, 39-40), где мыслитель настолько горячо и убедительно доказывает, что душа пребывает там и в том, где и на чем она концентрирует внимание, что, казалось бы, Порфирия отделяет лишь шаг от того, чтобы признать, что не тело есть причина чувственного восприятия, но определенная деятельность души, что открыло бы ему путь Патанджали и других восточных аскетов... Итак, солидная, вменяемая, рассудительная ба, вкушающая награды за заслуги и наказания за провинности, мне кажется, не очень близка Порфирию, хотя в порывистой идольности шеду определенно не хватает того оттенка субстанциальной вечности, который мыслит в связи с душой Порфирий. И вместе с тем общая картина души и ее демонического окружения у Порфирия, скорее, египетская[226]. Но, возможно, следует вовсе отказаться как от стоических аналогий, так и от построений древнего Востока. Прочитаем текст до конца:
Так что, если подземный Аид есть темное место, душа, поскольку она не отторгнута от сущего, оказывается в Аиде, будучи увлечена туда эйдолом. Ибо душа исходит из объемного тела в сопровождении духа (τὸ πνεῦμα), который получила из [небесных] сфер. Поскольку из-за своего пристрастия к телу душа обрела некий частичный логос, благодаря которому в течение жизни в отношении к телу такого вот качества обрела свое особое состояние, то благодаря [вышеупомянутому] пристрастию она напечатлевает свой воображаемый образ на духе и таким образом увлекается эйдолом. О душе говорится, что она в Аиде, потому что дух имеет безобразную и темную природу. Поскольку же тяжелый и влажный дух идет вплоть до подземного места, то и о самой душе говорится, что она оказывается под землей. Так говорится не потому, что ее сущность сменила место или возникла в месте, но потому что она восприняла состояние тела, которому выпало иметь место и естественно менять его. Качеством ее внутреннего расположения [к тому или иному] определяется и ее готовность воспринимать именно это вот тело. Ибо чин и пространственная определенность тела, в которое входит душа, зависят от этого ее расположения.
Потому душа, имеющая более чистое расположение, срастается с телом, родственным нематериальному, т.е. с эфирным телом; когда же выступает из крепости Логоса в сферу Фантазии, то наслаждается вместе с солнцевидным телом; если она становится женоподобной и страстно настаивает на эйдосе, то ей предстоит луновидное тело. Падение же в тело, кое душа получает соответственно своей аморфности, [восприятие] эйдоса, состоящего из испарений влаги, заканчивается для души совершенным незнанием сущего, помрачением и детством. Исходя [с небес на землю], душа обладает духом, который еще затуманен влажными испарениями; исходя, она влечется тенью и тяжестью, ибо этот [смятенный] дух, естественно, стремится достичь внутренности Земли, если только не влеком обратно некой иной причиной. И как земляная раковина, окружающая душу, необходимо удерживает душу на земле, так и влажный дух заставляет душу влечь за собой эйдол и окружать себя им; душа пропитывается влагой, когда старается пребывать в непрерывной связи с природой, чье дело во влаге и под землей. Когда же душа старается отделиться от природы, [вокруг нее] возникает сухое сияние, безоблачное и не отбрасывающее тени. Ибо именно влага, находящаяся в воздухе, образует облака, сухость же испарения производит ясность и сухость [атмосферы].
Я думаю, множественность существующих вне тела душ, которая мыслилась в Египте и Месопотамии, превратилась сначала у стоиков, а затем и у Порфирия в множественность существующих вне души тел. Эта мысль, мне кажется, должна послужить регулятивом при чтении и этого, и других непростых психологических текстов философа. Мысля все существующее телесным, а душу пневматическим телом, стоики открыли в пределах греческой философии возможность для построения сколь угодно сложных иерархий и пирамид тел, кои все суть состояния, тоносы пневмы. Все это очень похоже на детскую игрушку с нанизывающимися на стержень, постепенно уменьшающимися в диаметре колечками и увенчивающую стержень звездой или головой какого-нибудь снеговика. Так вот, поскольку у стоиков все было телом, то, поставленные одно на другое, они были скреплены лишь единством субстрата. Добавив к этим стоическим телам бестелесную душу, словно стержень к кольцам, Порфирий получает весьма устойчивую модель, а увенчав конструкцию чем-то совершенно нематериальным, он смысловым образом завершает построение.
Что мы, таким образом, получаем в данном тексте? Сначала смоделируем картину в статике. Есть пребывающая душа: как нечто бестелесное, не локализованное в каком-либо месте, она присутствует сразу во всяком месте и, так сказать, пронизывает Вселенную сверху вниз -как ось, вокруг которой осуществляется космическое вращение. Вокруг этой души в собственном смысле слова концентрическими, нисходящими к земле кругами располагаются тела, столь разнородные, что высшие из них, будучи взяты относительно низших, сами могут называться душами и духами. В сфере звездного огня душа обретает свое высшее пневматическое тело, в сфере огня солнечного - некое солнцевидное тело, в сфере воздуха -демоническое, в подлунной, вероятно, сфере обретает влажное, таким образом она привходит в семя, и затем, в процессе созревания плода в утробе, обретает тело земное - животное или человеческое. Влага, находящаяся и над землей, и под землей, - отличная метафора, чтобы показать неустойчивость и срединность земного положения души, спустившейся свыше, но могущей упасть, если будет двигаться в том же направлении, и ниже. Картина несравненно более сложна в динамике: есть некий эйдол, который провоцирует и соблазняет душу на каждом из этапов ее нисхождения; в конечном счете он есть целевая причина ее падения. Что такое этот эйдол? Мы не встретим его ни в Древнем Востоке, ни у стоиков. Я думаю, это Плотинова материя из трактата О бесстрастии бестелесных. Без Плотинова учения об онтологической иллюзии, о котором я писал в свое время в статье к III Эннеаде Плотина[227], понять этот эйдол невозможно. Этот эйдол - призрак, то, чего нет, но что выступает целью стремления, то, что заставляет волю ухватить себя за глотку, а не за хвост,- есть некий смысловой предел зла; с другой стороны, средоточием блага и добра является сама душа, для которой лучше всего сосредоточиться на себе, чтобы прийти к чему-то большему, чем она. Но душа, особенно если речь идет о душе, чье сознание настолько помутилось, что она обрела уже и земляное тело, сосредоточиваться на себе не спешит, а потому странствует по Вселенной, собираясь духовно то вокруг одной, то вокруг другой ее телесной части, подбирая то ту, то эту кроху мудрости со своего же стола.
У Порфирия, к слову сказать, помимо магическо-теургического, жреческого, восточного представления о мире широко представлено и вполне арийское, героико-аскетическое настроение: так происходит с ним всякий раз, когда он сосредоточивается на излюбленных мыслях своего учителя об умопостигаемости души и ее неуязвимости для дольнего, когда восхождение осмысляется им не как движение внутри космической иерархии, но как путь в умопостигаемое, не к каким-то богам или богу, но к себе, истинному себе. Об этом он говорит в трактате О воздержании (I, 29, 4; I, 30); и там, где он вдохновенно говорит об уподоблении Богу (III, 26, 13 и III, 27). (Вообще, почти везде, где речь Порфирия становится взволнованной и можно предположить душевный подъем, он почти всегда излагает мысли Плотина.)
Это сосредоточение души вокруг той или иной части, которое неправильно называть воплощением, Порфирий описывает как напечатление некоего внутреннего образа (а это может быть только мысленный образ) на пневме, т.е., по сути, речь идет о создании душой своих астральных тел. Но вот если уж душа впадает в полнейшую бессознательность, то тут природа сама ей готовит тело: так происходит в случае земных тел. При этом если душа начинает ослабевать и созданное ею тело выходит из-под контроля, то ситуация складывается так, как это описывает Порфирий в II, 38, 2: "Души, которые не властвуют над удерживаемой ими пневмой, но оказываются в большинстве случаев ей подвластны, подвергаясь в силу этого чрезмерным волнениям и порывам, когда вспыхивают гневы и желания пневмы,- так вот, эти души тоже демоны, и вот их-то можно с полным правом назвать злодейскими".
Так бы вот мы, на свой страх и риск, пояснили данный пассаж.
От этой общей картины мы перейдем к уже упоминавшемуся прежде учению о симпатической гармонии. В собственном смысле это и не отдельное учение, но ряд мест, которые такое учение предполагают. А нужно оно Порфирию для того, чтобы, с одной стороны, постулировать интенсивнейшее движение всевозможных душ-тел, духов, демонов, космических богов в их взаимовлиянии, а с другой - неаффицируемую, определяющую себя и свое поведение из себя душу. Все аффицируемое Порфирий в рамках этого учения называет просто телом. В трактате О воздержании (I, 43, 1) Порфирий пишет, что "между телом и силами души существует соответствие, подобное настроенности музыкального инструмента". Разумеется, образ двух точнейших часов был бы Порфирию совершенно чужд. Речь идет, скорее, не о двух совершенно не связанных друг с другом субстанциях, но о двух субстанциях, связанных друг с другом непосредственно, симпатически или магически. Там же (II, 46, 2) Порфирий говорит: "Там, где есть нечистота плоти, присутствует также соответствующая и дружественная этой нечистоте [духовная] сила, благодаря подобию и родственности одного другому". Эти вот подобие и родственность - пустые слова, призванные скрыть то, что можно было бы назвать сферой магической действительности, т.е. сферой, где чувственный предмет есть сразу же и духовная сила, и наоборот. Вот, например, в трактате О воздержании (III, 3, 7) философ пишет: "Один из наших друзей (ἑταῖρος) рассказывал, что ему случилось иметь в слугах мальчика, понимавшего все крики птиц -это почти всегда были оракулы, предсказывавшие грядущее. Он лишился этого понимания, поскольку его мать, боясь, как бы его не преподнесли в дар царю, помочилась ему в уши, когда он спал". Чудесная способность, оказывается, прямо связана с обычными ушами. И чуть ниже он пишет: "Все люди были бы способны понимать всех животных, если бы нам прочистила уши змея". То же самое. Это магический мир, теорию коего разрабатывали в процессе иконоборческих споров иконопочитатели: речь шла не только о пользе назидательных картинок, но о присутствии или отсутствии таких предметов, которые есть сразу же и предметы из камня, краски и дерева, и реальности духовные, что полностью отвергал Ветхий Завет. Речь шла о том, что вещественный образ есть именно этот образ (например, Николая Угодника) не в силу акциденций восприятия, т.е. не потому, что он таковым мне или тебе кажется, нарисован с определенными атрибутами и проч., но в силу того, что этот образ объективно есть первообраз, и значит, в силу того, что первообраз реально присутствует в нем: иными словами, утверждалось, что только реальное присутствие святого в иконе делает икону этой вот иконой и иконой вообще. Порфирию было, несомненно, легче: еще не знавшие иудейского искусa современники Порфирия едва ли всерьез сомневались в том, что Бог воплощен во всем и может быть спровоцирован к общению посредством определенных предметов. Отсюда, например, обоснование теургических практик (О воздержании, II, 48, 1): "То, что природа родственного тела притягивает душу, стало им [египтянам] известно благодаря опыту из многого. В самом деле, те, кто хочет овладеть душами животных, способных к прорицанию, поглощают главнейшие органы этих животных: например, сердце ворона, крота или сокола, - таким образом они залучают присутствие душ этих животных, и те пророчествуют в них как бог; при этом душа животного входит в них одновременно с поглощением тела". Особо ревностные иконопочитатели, со слов их врагов, добавляли краску с икон Спасителя в причастие, считая без этого Святые Дары недействительными. Пусть это явный, осуждаемый самими иконопочитателями перебор, но логика абсолютно та же.
Внутри этой парадигмы логические акценты совершенно переставляются: душа как-то незаметно лишается своего деятельного характера, а тело из послушного инструмента превращается в то, что провоцирует пассивную душу к тем или иным действиям. Вслушаемся, например, в следующие слова (О воздержании III, 8, 9): "Если же душа только сопереживает телу и пользуется им как инструментом, то, возможно, посредством тела, организованного иначе, чем наше, она выполняет многие действия для нас невозможные и сопереживает в связи с ним многие состояния [для нас в этом теле недоступные], не имея возможности, однако, выступить за пределы своей природы". Здесь все перевернуто: тело, хотя и называется инструментом, есть причина тех или иных действий души, душа-"сопереживает", "не имеет возможности выступить" - ни одного настоящего, деятельного глагола. То же самое и в следующем, например, пассаже (I, 43, 1): "Если бы опасность состояла только в загрязнении, то, вероятно, можно было бы быть беспечным, пренебрегал ею, но все наше чувственное тело несет истечения материальных демонов <...>". Здесь чисто азиатская концепция зла как истечения (вспомним о козле отпущения), в данном случае - демонического истечения, локализована в теле, тело в самом прямом смысле этого слова оказывается на месте вавилонско-иудейского козла отпущения, в пустыню его, однако, не отпускают, да и не закалывают, а держат при себе, моря голодом. Нет ничего удивительного в том, что он при этом весьма активен: брыкается и бодается, скажем. Такая же взаимосвязь между различного рода душами-телами видится нам и в следующем высказывании (III, 19,1): "Тот, кто запрещает нам употреблять в пищу говядину, расточать пневму и растлевать жизнь, чтобы усладить насыщение и украсить трапезу, - что необходимое для нашего спасения, что прекрасное для нашей добродетели отнимает у нашей жизни?" Употребляющий в пищу говядину расточает пневму, потому что, вкушая нечистое, питая земляное тело, он ослабляет тело пневматическое; соответственно, ослабляя тело земляное, он усиливает свое начало духовное (о чем Порфирий пишет в III, 23, 16), которое, опять же, может представляться пневматическим телом. Здесь уже не связь двух разных субстанций, но разные состояния одной, словно бы речь шла о сообщающихся сосудах; это представление опирается, с одной стороны, на стоическое представление о пневме-огне, лежащей в основании всех вещей, а с другой - на азиатский магический и теургический опыт.
Итак, учение о симпатической гармонии у Порфирия есть психологическое обоснование любой вообще теургии.
Наконец, завершим мы свои "восточные" штудии рассмотрением порфирьевского учения о мудреце. Нет никакого сомнения в преемственности этого образа от стоиков. Мудрец Порфирия, подобно стоическому, бесстрастен[228] и наделен могучим самообладанием[229], мужественно принимает предначертанное[230], аполитичен и озабочен по преимуществу собой, о чем мы уже говорили; он находится под покровительством богов и наделен даром наставничества; это "старец", как сказали бы на Востоке, способный указать человеку "путь". Правда, стоический мудрец живет при этом в согласии с космосом и воля космоса = воле бога; для Порфирия это, конечно, не так, но в остальном я не вижу никаких серьезных различий. Вообще, нужно сказать, что концепция "пути" и наставления в нем настолько роднит и стоиков, и Порфирия с мудрецами Востока, что на фоне этого монументального совпадения различия этих философов друг с другом кажутся незначительными. В самом деле, у стоиков, как и у всех на Востоке, основной целью философии понималось "искусство жизни": преуспеяние в добродетели, богоугодное поведение и проч. - все остальное понималось исключительно средством к этому. Мудрость - практическое знание и предвидение - более всего ценилась и в стоической среде, и в среде тогдашнего иудаизма, ваявшего в то же приблизительно время свою "литературу премудрости". Назвать такую "мудрость" задачей максимум эллинской философии в классический период можно едва ли. Свободные олимпийские боги, свободные "мужи афинские" держали себя в соответствующей форме - как относительно животного в себе (палестра у афинян, а у спартанцев кроме нее и сисситии считались лучшей школой, умиряющей страсти[231]), так и относительно божественного, где форма созерцания была, пожалуй, единственной уважаемой философами формой богообщения, ибо в созерцании свободный соотносится со Свободным. У Порфирия этот момент созерцания, позаимствованный у Плотина, тоже присутствует, но он для него совершенно неестествен. Созерцание пронизывает всю философию Плотина, ибо всякое творчество, согласно Плотину, есть созерцание. У Порфирия созерцание замкнуто строго в богословской сфере, и, уж конечно, не есть творчество[232]. Сами тексты Плотина полны замечательнейшими описаниями, свидетельствующими о способности этого человека быстрее видеть, чем анализировать. Мысль Порфирия этого лишена, речь его весьма часто экспрессивна, но совершенно лишена монументальных образов, какие мы встречаем порой у его учителя. С мудрецом же в библейском смысле у Порфирия есть как минимум два родовых сходства: во-первых, иудейский мудрец -это судья, различающий добро и зло, например, 3 Цар. 3, 9 (ср.: Порфирий. О воздержании, I, 8, 1-2); во-вторых, мудр тот, кто исполняет закон Бога (Втор. 4, 5-6; ср.: О воздержании, I, 28, 3). Понятно, что совпадение в столь фундаментальных положениях приводит к схожести во многих следствиях из них и в конечном счете к единому тону, настроению, эстетике умозрения.
[217] Столяров А. А. Указ. соч. С. 135.
[218] См.: Дьяконов И. М. Указ. соч. С. 25.
[219] Например: О воздержании I, 38, 3.
[220] Обратите внимание, что в стоических текстах душой сплошь и рядом называют «ведущее начало». Так происходит потому, что душа для стоиков всецело рациональна и в ней нет ничего иррационального вообще.
[221] Столяров А. А. Указ. соч. С. 52.
[222] Здесь: существование.
[223] Оппенхейм А. Указ. соч. С. 159-162.
[224] И. С. Клочков со ссылкой на текст Gudea (А VII: 4; IX: 2) говорит: «Шумеры считали сердце вместилищем разума» (Клочков И. С. Указ. соч. С. 187, примеч. 289).
[225] Силаев Ю.М. Древний Восток. М., 1996. С.49. — Потому нет ничего удивительного в том, что египетские монахи, не задумываясь, стали воспроизводить это же учение; прежде я полагал, что определяющим здесь являлось стоическое влияние, но сейчас прибегать к этой гипотезе нет нужды, ибо для такого рода утверждений в Египте существовал куда более древний, нежели стоицизм и тем более христианство, восточный ungrund.
[226] Прокл пишет (Комментарий на Тимей, I, 152, 12-28): «Что до философа Порфирия, то он полагает следующее. Жрецы аналогичны архангелам на небе, которые обращены к богам и являются их вестниками. Воинственные же аналогичны демонам, которые нисходят в тела. Со своей стороны, пастухи аналогичны тем, которые поставлены над стадами животных, и являются, как говорится в тайных учениях, душами, потерявшими человеческий разум и имеющими расположение к животным. Ведь о человеческом стаде кто-то заботится, а есть и некоторые такие, что надзирают одни за народами, другие за государствами, третьи за отдельными [людьми]. Охотники же аналогичны тем, которые охотятся за душами и заключают их в тела; ведь есть и такие, кто находит удовольствие в охоте на животных, как [по их мнению] Артемида и все множество сопутствующих ей охотящихся демонов. А земледельцы аналогичны тем, кто поставлен надзирать за урожаем. И вся эта совокупность подлунных демонов, разделенных на многие [разряды], у Платона именуется демиургической, ибо направлена на то, что существует [уже] в завершенном виде или находится в процессе становления» (цит. по: Лосев А. Ф. История античной этетики. Последние века. М., 1988. С. 63). Здесь мы имеем типически ближневосточную картину: полития небесная — как прообраз политии земной; в точности так мыслили это и египтяне, и вавилоняне, единственная разница между двумя древними парадигмами состояла в статичности египетской и хаотичности вавилонской; в нарисованном Порфирием образе ничто вроде не выдает напряжения и возможности конфликта между богами.
[227] 227 Сидаш Т. Р. Натурфилософия Плотина. 4.2 // Плотин. Третья Эннеада. СПб., 2004. С. 46 и далее.
[228] К Марцелле, 9 и 31.
[229] Например, К Марцелле, 26.
[230] Там же. Гл. 5, 7, 30.
[231] Забавнейшую перцепцию эллинской палестры встретил я у одного из современных иудейских писателей (Валенсен Ж. Кошерный секс. Евреи и секс. М., 2000): «После завоевания Палестины Александром Македонским еврейские юноши переняли нравы и обычаи греков и стали посещать гимнасии, где нагота и педерастия были в порядке вещей. Правоверные евреи с болью смотрели, как молодежь приобретает новые привычки, столь далекие от иудаизма» (С. 94). Вот уж поистине, с больной головы на здоровую. А как же распространенная еще в период разделения царств мужская проституция при святилищах Яхве, которую признает и сам автор на с. 96, в то время как гомосексуализм у эллинов назывался «персидской любовью» и получил распространение никак не раньше Греко-персидских войн, т. е. должен быть лет на 200-300 младше иудейского? Это далеко не единственный пример откровенной клеветы на греко-римский мир в этой книге: например, на с. 30 Валенсен пишет: «Римляне, чтобы подорвать их [иудеев) нравственность, издали указ о том, что мужья обязаны иметь сношения с женами во время менструаций». Не было у римлян, наверное, в I в. до н. э. других забот, только нравственность иудеев! На самом деле озабоченный упадком рождаемости Август издал не только этот, но целый пакет законов с тем, чтобы поправить положение; конкретно этот законодательный акт основывался на традиционном римском представлении о том, что время регул — наилучшее для зачатия (см.: Гуревич Д., Рапсат-Шарльс М.-Т. Повседневная жизнь женщины в Древнем Риме. М., 2006. С. 82). В свете того, что мы говорили об антиэллинской полемике в I части нашей работы, рассуждения Валенсена более чем понятны. Но нас здесь интересуют не сами эти суждения: чрезвычайно интересна перцепция иудейством гимнасия и наготы. Если иудейские юноши, обнажившись, действовали по поговорке: «Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб разобьет», то это их недомыслие, несомненно, имело глубокие основания в культуре. Здесь нужно всерьез говорить о культуре сокрытости, прикровенности у иудеев и вообще на Востоке и культуре непотаенности, наготы на Западе, а не баловаться дешевым резонерством. Если мы, например, читаем, что «нагота приравнивалась ими [древними иудеями] к половому акту; предстать в чем мать родила перед близкими родственниками было равносильно инцесту» (С. 117), что они настолько стыдились своего обрезания, что «еврейские атлеты, участвующие в Олимпийских играх <...>, носили фальшивую крайнюю плоть — словно маленький паричок» (С. 132), если сам автор, получивший европейское образование, воспринимает нудистские пляжи не иначе как в перспективе соития (С. 117), то мы, разумеется, должны предполагать в евреях (и отнюдь не только в них) не излишний ригоризм или стыдливость, а сознание, находящееся в состоянии крайнего диссонанса с эллинским и европейским.
[232] Здесь же нужно сказать и о совершенно разных психологических представлениях учителя и ученика: «Мы были умными сущностями», говорит Порфирий в трактате О воздержании (I, 30, 6-7). Это, безусловно, слова Плотина, но что вкладывают тот и другой в это понятие? В отличие от Плотина Порфирий совершенно не признает трех платоновских начал в человеке, поэтому различия начинаются уже на уровне антропологии. Если, согласно Плотину, человек суть реализация страдательного, яростного и умного начала, причем и сам человек и его душа, то, по Порфирию, таких начал два: собственно ум, и здесь не стоит обольщаться — он полностью равен у Порфирия рассудку, т.е. νοῦς, λόγος и λογισμός у него в психологическом контексте всегда синонимы, итак, рассудок + то, что философ называет то τὄ ἄλογον, то τὄ ποθητικόν, то «пневмой, то «охэмой», т. е. средством передвижения и выражения. Из этих вот двух начал — разумного и неразумного — состоят, повторюсь, и человек, и душа. Вот из этого-то, казалось бы, незначительного различия вытекает принципиально разное понимание человека, его души и ее судьбы у этих по-видимому близких мыслителей. «Я» у Порфирия —это рассудок, у Плотина — высшая часть души, имеющая такой же тройственный состав, как и сам человек, при этом «я» у Порфирия страдательно, у Плотина бесстрастно, соответственно, у Порфирия бессмертен рассудок, у Плотина все живое, что жило в человеке; соответственно, у Порфирия нет метемпсихоза в животных, и вообще мало о метемпсихозе, и душа мудреца его может избегнуть, а у Плотина есть и метемпсихоз в животных, и много о нем, а иногда и с радостью от созерцаемого, ибо, как войско, идущее в бой, входят души в единичные тела, взирая на своего императора, повинуясь ему и блаженствуя в битве и самой смерти. Вполне ясно, что будущая эпоха сполна востребует именно Порфириеву антропологию, а равно и демонологию, теснейшим образом с антропологией связанную. У самого Порфирия мы встречаем учение о некоем главе демонов, в Философии из Оракулов он отводит эту роль Серапису-Плутону на пару с Гекатой, материальные духи, упоминаемые Порифрием (например, О воздержании, II, 46, 2) затем будут встречаться и у Григория Назианзина, и у Мефодия Олимпского.
Заключение
Исходя из всего сказанного выше, - а прошли мы немалый путь, поставив в связь с Востоком представления философа о человеке и его душе, обществе, времени, истории, мире как одушевленном и изменяющемся целом, - дерзнем изложить некоторые промежуточные выводы, которые хотя и не могут претендовать на окончательность (ввиду отсутствия анализа взаимосвязи умозрений с эллинской философской традицией), однако же ценны и сами по себе, и как части возможного целого.
Резюмируя значительнейшее на русском языке исследование о Порфирии, А. Ф. Лосев чрезвычайно ясно и выразительно характеризует мыслителя:
Наставительная сущность "Письма [к Марцелле]" тоже производит, скорее, впечатление какой-то безвыходности и бессилия выйти из жизненного тупика. Эта его больная и бедная жена с семью детьми, эта его проповедь воздержания от брачных отношений, эти его постоянные и настойчивые ссылки на умозрение - все это производит на нас какое-то, мы бы сказали, слабое, трогательное, но прежде всего беспомощное впечатление <...>. К этому приводит, собственно говоря, изучение и всех других произведений Порфирия, небывало разнообразных по тематике, не очень решительно базирующихся на триипостасной диалектике Плотина и мечущихся от философского умозрения к магической демонологии и обратно <...>. Эта трагическая эстетика Порфирия была у него, конечно, результатом переживания всемирно-исторических катастроф его времени <...>. Весь этот мрачный и величественный результат философской эстетики Порфирия явно взывал к новым формам неоплатонизма <... >[233].
Этот вот взгляд на Порфирия как на представителя уходящей эпохи кажется мне в корне неправильным. Неправильным от первого до последнего слова: "наставительная сущность" - обычный тон для малоазийской литературы премудрости; проповедь воздержания - общее место, но как раз не в сходящей на нет античной философии, но в современных Порфирию ближневосточных харизматических движениях. Ссылки на умозрение, эпизодически встречающиеся у Порфирия в основном в связи с воспоминаниями об учителе и его учении, на фоне его собственной концепции теургии имеют столь малый вес, что должны, мне кажется, пониматься как приправа к основному блюду. Кроме того, они настолько задорны, что ни о какой беспомощности в связи с ними не может быть и речи. "Бедная, больная жена", добровольно взятая, так сказать, на воспитание, исключительно хорошо оттеняет величие этого сильного, отлично понимающего, что он делает, восточного человека. Разнообразие сочинений Порфирия - нагляднейшее свидетельство его универсализма, способности действовать по принципу "я возьму свое там, где я увижу свое"; этот универсализм, а равно и, прямо скажем, некоторая экзистенциально окрашенная хаотичность его сочинений отнюдь не предполагают никаких "метаний", но свидетельствуют об интуитивном нащупывании и самим философом, и его читателями новых, не эллинских оснований философствования. С величайшим дерзновением мыслитель погружает отвлеченные нравственные максимы в историю и религию, превращая их в теургические, ритуальные императивы. Он смотрит на эллинское, да и на всякое другое наследие как на доставшуюся ему по праву добычу[234]. Никаких всемирно-исторических катастроф его мир - мир нарождающихся "святых обществ" - не претерпевает; я совершенно не вижу у Порфирия сознания причастности к Империи, Риму или Элладе, об эллинах он прямо говорит как о "народе наиболее родственном нам"[235]. Но кому "нам"? Очевидно, не-римлянам, да и сирийцам вряд ли. В Порфирии, в самом деле, чувствуется будущее, но это будущее неэллинское, и потому, даже если и философское, то не относящееся к собственно эллинской философии. Одним словом, я думаю, что Порфирия нужно понимать как одного из "отцов" нарождавшейся ближневосточной цивилизации, уже расцветшей в III в. н. э. в Персии и имевшей в ближайшее же время захлестнуть Средиземноморье, превращая, если мне будет позволено чуть-чуть развлечься словесной игрой, немногочисленных оставшихся римлян сначала в роме-ев, а затем в румын и ромалов. Само собой ясно, что собственно эллинское прошлое, которым жил еще Плутарх Херонейский, оказалось совершенно не нужным ни Порфирию, ни более поздним философствовавшим от имени Платона азиатам. Именно начиная с Порфирия мы перестаем иметь возможность не обращать внимание на явление "псевдоморфоза", т. е. существования новых смыслов в мысленных формах, унаследованных от ставших чуждыми учителей; это явление богато представлено также и в византийском христианстве, во многом параллельном философски оформленному семитическому язычеству, которое по недоразумению называют иногда неоплатонизмом.
Итак, нам остается лишь окинуть единым взглядом пройденный нами путь. Всю первую часть мы посвятили описанию и выявлению основных черт того противостояния эллинов и варваров, которое было системообразующим для формирования европейской ментальности в рамках коей существуют и эта работа, и ее автор. Не без скорби вынуждены мы были говорить об антагонизме эллинов и персов, ибо последним европейский мир обязан не только существенными чертами монотеистической и мессианской идей, воcпринятых европейцахми через христианство, само, в свою очередь, бывшее сплавом послепленного, претерпевшего персидское влияние иудаизма и религии эллинистической, т.е. религии, уже вступившей во взаимодействие с месопотамским и персидским миром[236], но, что весьма и весьма показательно, как первым памятником Платону[237], так и заступничеством за последних его диадохов[238]. Мы подчеркнули также огромное различие, существовавшее между эллинами и македонянами-факт чрезвычайно важный в перспективе корректного использования термина "эллинизм" и понимания того, что, собственно, для эллинов участие в македонской экспансии в Азию означало не что иное, как варваризацию. Затем мы перешли к обозрению тех форм идеологической борьбы, которые были распространены на Ближнем Востоке (чтобы в перспективе увидеть, как эта вавилонско-иудейско-финикийская идеология станет потом официальной идеологией Византии), и показали совершенно иной римский путь (чтобы в перспективе увидеть контекст, в котором суждено будет родиться новоевропейскому, "готическому" сознанию). Эта картина интеллектуальных движений и культурных настроений задала нам ту систему координат, пользуясь которой мы стали определять место Порфирия в интеллектуальной истории Цивилизации, посвятив эту часть работы характеристике этого мыслителя по одной из осей. Здесь мы начали с простейших форм самопрезентации, с "мы" и "они" у Порфирия, и сразу наткнулись не просто на восточное влияние, но на азиатскую целину, невозделанную мистериями Деметры и духом афинской политии. С первых же шагов мы начали констатировать внешний для мыслителя характер эллинской образованности. Взяв эти "мы" и "они" как принципы, как дух и природу, мы нашли опять же неэллинское отношение их друг к другу. Свойственное Порфирию отчуждение от природы и ее демонизация обратили наш взгляд и на сопутствующие духовные феномены, в первую очередь - на семитическое представление о ритуальной чистоте, фактически без купюр воспроизводимое в своей философии Порфирием. Это привело нас к возможности выйти к пониманию тех предельно общих моделей, которые формируют более частные моменты мировоззрения. В этой связи мы говорили о вавилонском времени, "оанитстве", мире-"оламе" и других реалиях, связанных со способами представлять мир и его историю. Затем мы обратили внимание на то, как Порфирий средствами эллинской философской традиции пытается реформировать эллинскую религию (в приватном масштабе, разумеется); мы показали как в имена и образы эллинских богов под видом рационального их истолкования вчитываются содержания семитской религии, причем одни из самых архаичных ее содержаний. Здесь мы показывали, как личные формы позднейшей религиозности перетекают у Порфирия в магические, и наоборот: интеллектуальные боги неотличимы от астральных, божественное как умопостигаемое неотделимо от божественного-в-вещах, учители и наставники сливаются с "отцами", носившими Бога в своем теле, и вообще все эллинское становится не только неотделимым и неотличимым от семитического, но и понятым благодаря ему и через него; здесь же мы показали, что Порфириевы представления о времени и вечности находятся в связи именно с восточной, а не с греческой традицией.
В заключении мы говорили о психологии мыслителя и опять наблюдали неразрывную связь его представлений о душе со стоическими и, шире, ближневосточными. Таким образом, оказалось, что буквально все касающееся "философии духа" у нашего мыслителя либо прямо неэллинского происхождения, либо хотя и могло быть почерпнуто из эллинской философии, но находится в теснейшей связи с Азией.
В следующей части нашей работы (а мы не оставляем надежды издать Порфирия полностью), характеризуя мысль Малха по "оси эллинства", нам предстоит помимо анализа его лого-теологии говорить также и об эллинской религии с ее содержательной стороны; предстоит увидеть, как отвлеченнейшая из наук связана с конкретнейшим и древнейшим из знаний.
[233] История античной эстетики: Последние века. Кн. 1. М., 1988. С. 118-119.
[234] Несколько утрирую, чтобы подчеркнуть принцип.
[235] О воздержании, IV, 2, 1.
[236] О религии македонско-эллинской элиты на Востоке, деяниях великого Тимофея Элевсинского и вообще религии эллинизма как предшественнице христианства следует говорить отдельно.
[237] Его воздвиг в Академии сразу по смерти великого мыслителя некий перс Митридат, посвятив музам. См.: Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Указ. соч. С. 154.
[238] Напомню, что пункт о возможности для неоплатоников преподавать философию на территории Византии, не подвергаясь уголовным преследованиям (которым они подвергались после закрытия в 529 г. Академии), был одним из условий Хосрова при заключения мира 532 г. между персидской монархией, давшей приют Дамаскию и его ученикам, и незадачливым Юстинианом, жестокости и интеллектуальным амбициям которого мы обязаны как бессмысленными юридическими забавами вроде сборника латинских законов в греко- и арамеоязычной империи или осуждением умерших в мире с церковью богословов, так и бедами пострашнее, вроде кровавых расправ с несторианами, ставших в недалеком будущем одной из решающих причин триумфального шествия ислама по всему Востоку.