ТОМ I. ЭПОС, ЛИРИКА, ДРАМА КЛАССИЧЕСКОГО ПЕРИОДА
ОТ РЕДАКЦИИ
Коллективный труд "История греческой литературы" имеет своей целью дать систематическое изложение истории древнегреческой и византийской литературы в свете марксистско-ленинской теории. "История греческой литературы" должна дать полную картину исторического развития этой литературы с древнейших времен до конца Византийской империи. Подробное изложение важнейших историко-литературных проблем сопровождается необходимым научным аппаратом (обзор рукописей, схолиев, изданий, переводов, главнейшая научная литература, библиография библиографий). По техническим причинам этот научно-библиографический аппарат пришлось отнести в последний том.
Хотя развитие древнегреческой литературы отличает последнюю от многих других литератур тем, что в ней господство отдельных жанров сменяет друг друга в хронологическом порядке, - тем не менее придерживаться строго хронологического принципа в изложении редакция считала неправильным. Первый том содержит в себе, помимо вводных глав, историю развития эпоса, лирики и драмы классического периода (т. е. до последней трети IV века до н. э ). Вся же прозаическая литература этого периода (история, философия, ораторское искусство) отнесена во второй том, где изложение, таким образом, вновь начнется с литературных фактов VI-V веков до н. э. Коллектив авторов "Истории греческой литературы" поставил себе целью дать, насколько это было возможно, доступное изложение, не загроможденное деталями и частными гипотезами (как это обычно бывает в западноевропейских трудах такого типа). При этой установке целесообразнее всего было бы давать по всем без исключения вопросам вполне определенное решение их. Однако это все-таки не всегда оказывалось возможным: в истории античной литературы, где мы от огромного количества произведений имеем лишь ничтожные отрывки, где иногда о существовании целых жанров мы знаем лишь из косвенных свидетельств, - до сих пор остается еще не мало нерешенных проблем. Сюда относятся иногда вопросы датировки, принадлежности целого произведения или фрагмента тому или иному автору, вопросы реконструкции первичной редакции, конъектуральной критики и т. д. В этих случаях приходилось ограничиваться сводкой отдельных гипотез. В известной степени это относится также к запутанным вопросам происхождения древнегреческой трагедии и комедии.
Художественная литература рассматривается в книге в ее связи с другими видами письменности, не являющимися в ней предметом специального исследования (научная литература, исторические документы, эпиграфические памятники и т. д.). Однако в применении к античности само понятие "художественная литература" должно пониматься значительно шире, чем в применении к новым литературам. История, ораторское искусство, эпистолография, а отчасти и философская и научная литература были для греков (как и для римлян) особыми литературными жанрами, к которым, в противоположность новому времени, предъявлялись такие же высокие эстетические требования, как и к художественной литературе в собственном смысле.
Особое внимание в этой книге уделяется судьбе античного литературного наследия и его влиянию в последующие эпохи, причем наибольшее место отводится роли древнегреческой и византийской литературы в русской и других литературах народов СССР.
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин проявляют особый интерес к античности. "В многообразных формах греческой философии имеются в зародыше, в возникновении, почти все позднейшие типы мировоззрения".[1] Поэтому "... мы вынуждены будем в философии, как и во многих других областях, возвращаться постоянно к подвигам того маленького народа, универсальная одаренность и деятельность которого обеспечила ему такое место в истории развития человечества, на которое не может претендовать ни один другой народ".[2]
Эту оценку Энгельсом греческой философии можно полностью отнести и к греческой художественной литературе.
Литературные жанры, вопросы поэтики, проблема художественного реализма впервые в истории возникают в античной литературе. В новое время они, конечно, видоизменяются в тесной зависимости от изменения социально экономических условий развития литературы. В сочинении "К критике политической экономии" Маркс указывает на историческое своеобразие греческого искусства" ... Греческая мифология составляет не только арсенал греческого искусства, но и его почву". "Разве, - спрашивает Маркс, - тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого [искусства], возможен при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа?"[3] "Предпосылкою греческого искусства является греческая мифология..., но ие любая мифология...
Египетская мифология никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства".[4] Почему же это примитивное искусство, неразрывно связанное с той неразвитой общественной ступенью, из которой оно выросло, обладает таким обаянием и для нас? -спрашивает Маркс. "Трудность состоит в понимании того, что они [греческое искусство и эпос. - Ред.] еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца". [5] Маркс помогает нам разрешить проблему. "Обаяние" греческого искусства состоит в том, что оно отражает "детство человеческого общества": "И почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень?..
Обаяние, которым обладает для нас их искусство, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные отношения, при которых оно возникло, и только могло возникнуть, никогда не могут повториться снова".[6] Сравнивая современное ему буржуазное искусство с греческим искусством, Маркс приходит к положению о неравномерности развития материального и художественного производства: "...определенные периоды его расцвета не находятся ни в каком соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации".[7]
Надо иметь в виду, что древнегреческая литература развивалась в обществе античного рабовладельческого строя на базе рабского труда. Энгельс показал, что в свое время рабство было исторически необходимым этапом и являлось прогрессом в сравнении с родовым строем. "Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Рима. А без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы. Мы не должны забывать, что все наше экономическое, политическое и умственное развитие вытекло из такого предварительного состояния, при котором рабство было настолько же необходимо, как и общепризнанно. В этом смысле мы имеем право сказать, что без античного рабства не было бы и современного социализма".[8] Следует также помнить, что то же рабство было и причиной конца рабовладельческого общества. "Революция рабов ликвидировала рабовладельцев и отменила рабовладельческую форму эксплуатации трудящихся".[9] Высокая оценка греческой литературы Марксом и Энгельсом естественно побуждает авторов обратить сугубое внимание на художественную сторону этой литературы.
Что касается византийской художественной литературы, то она не только не изучалась литературоведами-марксистами, но и вообще почти не была предметом изучения в дореволюционной России, несмотря на то, что русское византиноведение шло впереди Западной Европы. Русские византинисты ограничивались по преимуществу изучением специфических вопросов политической истории, истории права, и т. д.
Византия играла выдающуюся роль в развитии Западной и особенно Восточной Европы. Следует помнить, что "религия и цивилизация России- византийского происхождения"...[10] и что было время, когда Грузия, Армения, Киевская и Московская Русь находились под длительным воздействием византийской культуры. Совершенно естественно, что важнейшие вопросы византийской литературы подлежат нашему детальному изучению. Буржуазные византинисты сознательно затуманивают вопрос об исторической роли Византии. Если Вольтер, Монтескье и Гиббон говорили о Византии как о стране варварства и гниения, то многие современные буржуазные ученые идеализируют Византию как страну закона, порядка и культуры. Следует, конечно, учитывать, что Византия в период перенесения христианства в славянские страны, особенно в Киевское государство, являлась носительницей передовой по тому времени греческой культуры и просвещения, но нельзя забывать и о том, что Византия являлась цитаделью деспотизм и эксплуатации.
Основоположники марксизма-ленинизма, признавая крупную роль Византии и ее культуры в эпоху раннего средневековья, в то же время обращали внимание на ужасные и насильственные формы губительного могущества Византии. "Константинополь, это - вечный город, это - Рим Востока. Западная цивилизация и восточное варварство при греческих императорах, восточное варварство и западная цивилизация при господстве турок так тесно переплелись между собой, что этот центр теократической империи стал настоящей преградой для распространения европейского прогресса".[11] Византия с Константинополем являлись оплотом "средневековья", феодализма.
При изучении литературы Византии обращается серьезное внимание на роль славян, армян и грузин в создании византийской культуры.
Вопрос о "начале" Византии является трудным и почти неразрешимым для тех буржуазных ученых, которые заполняют свои сочинения рассуждениями о непрерывном "мирном" эволюционном развитии "без катастроф" и считают, что грандиозная катастрофа, которою кончилась история античного мира, является в значительной степени преувеличенной. Эти же авторы договариваются до отсутствия переворотов и поворотов и живучести старых, выработавшихся еще в античной среде укладов и форм, и, таким образом, стремятся доказать исконность форм византинизма.
Современное византиноведение неизбежно приходит к выводу, что историческая грань проходит около начала IV века, т. е. принимает высказывание Энгельса о различии " ...между положением мира в конце древности, около 300 года, и в конце средневековья -1453 г." [12] и указывает, что "вместе с возвышением Константинополя и падением Рима заканчивается древность"[13]
В связи с этим в настоящем груде греческая литература IV-V веков н. э. рассматривается как "переходный период" от рабовладельческого общества к феодальному, которое оформляется только в империи Юстиниана (527-565 гг.) и достигает расцвета только к XI веку. С эпохи крестовых походов начинается упадок Византийской империи. Известное отставание развития идеологии от социально-экономического процесса привело к тому, что в IV-VI веках античные литературные традиции находятся еще в полной силе, а в XI-XII веках, несмотря на политический упадок Византии, можно говорить о литературном ренессансе, который был подготовлен предыдущим развитием.
В настоящем томе главы I -III и § 6 главы IV написаны старшим научным сотрудником Б. В. Горнунгом, остальная часть главы IV - чл. - корр. АН СССР С. П. Шестаковым.
Над разделом "Эпос" (главы V-XI) работали акад. М. М. Покровский (глава VII), Б. В. Горнунг (глава V, § 1, 3, 7, дополнение к главе VI и § 1 главы X) и проф. С. И. Радциг (глава V, § 9 и 10, глава VIII). Вся остальная часть этого раздела принадлежит С. П. Шестакову.
Раздел "Лирика" (главы XII-XVIII) написан чл. - корр. АН СССР, заслуженным деятелем науки Н. И. Новосадским.
В разделе "Драма" главы XIX-XX и XXII-XXIV являются редакционной обработкой материала разных авторов; глава XXI написана проф. С. И. Радцигом, главы XXV-XXVII - чл. - корр. АН СССР И. И. Толстым.
Иллюстрации подобраны сотрудниками Сектора художественной иллюстрации Института И. М. Айзенштадт и Е. К. Крупениной под руководством М. Э. Голосовкер, при консультации проф. В. Д. Блаватского, Ф. А. Петровского и проф. С. И. Радцига.
Книга редактировалась коллегией в составе акад. M. M. Покровского, чл. - корр. АН СССР С. И. Соболевского, проф. С. И. Радцига, 3. Г. Гринберга, доц. Ф. А. Петровского и Б. В. Горнунга.
По поручению редакционной коллегии весь текст книги подготовлен к печати Ф. А. Петровским.
[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 340.
[2] Там же.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 203.
[4] Там же.
[5] Там же (курсив наш. — Ред.).
[6] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч.. т. XII, ч. I, стр. 203—204.
[7] Там же, стр. 200.
[8] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 183.
[9] И. Сталин, Вопросы ленинизма, 11–е изд., стр. 412.
[10] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IX, стр. 439.
[11] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IX, стр. 440.
[12] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т, XIV, стр. 440.
[13] Там же.
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ГРЕЦИЯ И КЛАССИЧЕСКАЯ ЭЛЛАДА
Исторический период, т. е. период, события которого засвидетельствованы современными им письменными источниками, до недавнего времени начинался для Греции с VIII века до н. э. Этим столетием мы можем датировать древнейшие надписи на греческом языке, написанные понятным для нас письмом; к этому же времени мы относим древнейшие литературные произведения Греции, за которыми твердо закреплено их индивидуальное авторство, - "Труды и Дни" и "Феогонию" Гесиода Аскрейского. Лишь в последние 15-20 лет начались попытки выяснить более ранние исторические судьбы южной части Балканского полуострова, островов Эгейского моря и западного побережья Малой Азии вплоть до XIII века до н. э. привлечением недавно открытых и расшифрованных хеттских источников. Но эти попытки пока еще не дали никаких бесспорных результатов и не вышли за пределы полемики вокруг нескольких довольно разноречивых гипотез.
Однако отсутствие письменных документов, современных событиям, отнюдь не может явиться причиной для ограничения современного исследования указанными выше хронологическими рамками. Оно не может не заглядывать в те периоды, которые принято называть условно "доисторическими". Нет ни одной страны, история культуры которой была бы понятна при подобном самоограничении, как бы ни были бедны в применении к этой стране источники, из которых можно делать косвенные заключения о периодах, не засвидетельствованных письменностью. Для истории же Греции такое самоограничение исследователя является уже абсолютно недопустимым, так как косвенные свидетельства о "доисторических" эпохах в жизни греков отличаются, по сравнению с исторической жизнью многих других народов, исключительным богатством и разнообразием.
За гранями VIII века до н. а. в истории Греции и ее культуры лежат:
во-первых, все те исторические события, которые нашли себе фантастически преломленное отражение в неисчерпаемой сокровищнице греческих мифов, саг и легенд;
во-вторых, все развитие греческого героического эпоса, завершенное дошедшими до нас под именем Гомера "Илиадой" и "Одиссеей", которые, стоя (в том виде, в каком мы их знаем) на пороге истории в собственном смысле, многими своими чертами отражают блестящий в истории Греции "микенский" период, датируемый на основании последних археологических исследований временем с XIV по XI век до н. э.;
в-третьих, вся материальная культура и искусство этого "микенского" периода, ставшие нам известными с 70-х годов прошлого столетия в результате открытий Генриха Шлимана и изучаемые нами с каждым годом все глубже и в более тесной связи с последующим культурным развитием Греции;
в-четвертых, образование тех племенных наречий, которые, с одной стороны, легли в основу литературных языков, развившихся в "историческую" эпоху, а с другой, отражают "доисторические" судьбы самих племен с большей полнотой и четкостью, чем в иных случаях (например, в Италии);[1] в-пятых, начало колонизационного движения.
Колонизационное движение древних греков за пределы Греции сыграло огромную культурную роль в тот период, когда греки были уже относительно прочным этническим образованием с установившимися характерными чертами в языке, быте, религии и т. п.
Оно подготовило почву для культурной гегемонии эллинства во всем Средиземноморье, наступившей в IV-II веках до н. э. и послужившей исходным пунктом дальнейшего развития европейской культуры, начиная с Рима.[2] Но корни этого движения следует искать в очень отдаленной эпохе, быть может, в XIV-XIII веках до н. э., когда отдельные ахейские разбойничьи дружины, оседая в далеких от родины местах, продолжали сохранять связь с нею. Это делало возможным приток новых поселенцев из Греции. Так, вероятно, обстояло дело на Кипре (см. гл. IX, стр. 156) и в Памфилии. В других случаях связь с родиной терялась, и колонисты постепенно утрачивали свои национальные черты и родной язык. Эту последнюю гипотезу некоторые ученые (Кречмер и др.) применяют к Ликии и Киликии, а более смелые исследователи допускают даже ахейское происхождение библейских филистимлян.
Все эти комплексы исторических явлений, лежащих в пределах дописьменного периода, представляют собою исключительное явление для историков. Но буржуазная наука XIX века, располагавшая, правда, значительно меньшим количеством фактических данных, чем располагаем мы сейчас, ярко демонстрировала свою беспомощность для подлинного исторического обобщения. Не находя для Греции аналогий в начальных периодах исторической жизни других народов, не видя моста между культурами древнего Востока и Грецией и не имея средств проникнуть в тайны греческой "доистории", эта наука не нашла ничего лучшего, как объяснить зарождение древнегреческой (эллинской) культуры "историческим чудом".
Под гипнозом этой ложной идеи находились крупнейшие умы конца XVIII и начала XIX века. В той или иной степени это относится ко всем выдающимся историкам, филологам, искусствоведам и философам.
И Винкельман и Гегель не только не избежали этого гипноза, но даже сыграли решающую роль в утверждении этого превратного представления.
Конечно, когда Гегель писал в конце 20-х годов XIX века свои "Элементы греческого духа",[3] источниковедение греческой истории стояло еще на очень низком уровне. Эллинская культура, как и в эпоху Возрождения, почти целиком оставалась и тогда предметом изучения классической филологии, достигшей за три предыдущих столетия исключительных успехов. Еще почти не существовало археологии, эпиграфики, научной истории искусства и литературы; сравнительно-историческое изучение языка, мифологии и религии только-только начиналось. Ни один памятник материальной культуры "доисторической" Греции не был открыт, за исключением известных еще самим грекам "киклопических" построек. Касаясь "доисторических" эпох, Гегель высказывал о них соображения, которые теперь могут вызвать только улыбку. Но, несмотря на все это, мы можем считать заслугой Гегеля и его выдающегося младшего современника К. - О. Мюллера (1797-1840) их попытки вывести изучение древней Греции из узко-филологических рамок и дать первые культурно-исторические обобщения, которые, кстати сказать, в целом (если мы не будем обращать внимание на частности) оказываются сейчас совсем уж не такими далекими от истины, как это представлялось ученым конца XIX и начала XX века - историкам типа Белоха или Эд. Мейера.[4]
На протяжении ста лет после Гегеля и К. - О. Мюллера фактическое исследование древнегреческого мира развивалось гигантскими шагами. Но накапливаемые наукою новые факты, освещающие "доисторическое" прошлое Греции, почти не использовались для новых обобщений. Дж. Грот, Герцберг и Э. Курциус провели резкую грань между периодом, отзвуки которого сохранились в мифах, и "исторической" эпохой, а после них проблемы генезиса греческой культуры, ее элементов, были вообще исключены буржуазной, академической наукой из числа проблем, имеющих право на место в научном исследовании. Историк Греции, историк ее литературы и искусства мог уже делать в конце XIX века довольно широкие обобщения. Но господство так называемого гиперкритицизма второй половины XIX века не позволяло академическому ученому идти далее VIII-VII веков до н. э.
Правда, в этих хронологических рамках синтетические построения таких ученых, как Эд. Мейер, Белох или Виламовиц-Меллендорф, представляют и для нас исключительный интерес и заслуживают до сих пор серьезного критического отношения к себе, несмотря на полную неприемлемость их методологических позиций с точки зрения советской науки. Но все эти концепции, продолжающие оказывать влияние на подавляющее большинство новейших научных исследований, в корне отрицают постановку основной генетической проблемы истории Греции и ее культуры. Для всех них эллинство оставалось и остается "историческим чудом", и любого буржуазного историка коробят слова Маркса о том, что "сквозь греческий род явственно проглядывает дикарь (например, ирокез)", к которым Энгельс добавляет: "Его [дикаря] можно будет разглядеть еще лучше, если мы продолжим наше исследование".[5] Для нас же, стремящихся именно "продолжить исследование", а не останавливать его на произвольно и тенденциозно выбранной точке, эти господствующие до сих пор концепции остаются продуктом "чистого вымысла и поэтического творчества", достойным "... только "идеальных", т. е. чисто кабинетных ученых".[6]
Более ста лет назад К. - О. Мюллер считал, что "отбросить миф : как нечто непригодное для науки - это значит отрезать корни не только внешней, но и внутренней истории греческого народа". Однако в буржуазной академической науке новейшего времени мифология, как источник для истории, начисто отметалась, показания гомеровского эпоса использовались с сотнями оговорок, материальная культура и искусство "микенского" периода изучались совершенно независимо от "классической" Греции. И рядом с этим продолжало жить представление о том, что зарождение эллинской культуры необъяснимо наукой. Самое большее, что позволялось историкам литературы, искусства и религии, - это ставить вопрос о финикийском влиянии в так называемый "архаический период".[7] Вопрос о генезисе эллинства стал достоянием легкомысленных дилетантов вроде Освальда Шпенглера или писателей-эстетов. И те и другие не только ставили, но и разрешали его в последовательном идеалистическом плане, переносясь порою в мир чистой фантастики и возводя генезис эллинства даже к мифической Атлантиде.[8] Отзвуки таких "философских" построений в серьезных академических сочинениях были, конечно, редким исключением, но в некоторых работах начала XX века нельзя не заметить влияния этого эстетизма конца XIX века, в принципе враждебного всякому положительному построению исторической науки.
Открытие Шлиманом в 70-80-х годах XIX века Трои и "микенской" эпохи в истории континентальной Греции, а также последовавшие через четверть века не менее блестящие открытия Эванса на острове Крита, хотя и были сразу приняты в научный обиход, но не оказали воздействия в направлении коренной перестройки исторической концепции, господствовавшей в середине XIX века. Можно даже сказать, что целый ряд ученых - и в их числе ряд очень крупных имен - приложил много усилий для полного изолирования "крито-микенской", или "эгейской", эпохи от последующей истории Греции. Эту эпоху рассматривали преимущественно с тех сторон, которые позволяли установить ее отношение к современным ей культурам Египта и Месопотамии, а на связи ее с так называемой "классической" Грецией, даже на бьющую в глаза и ясную уже самому Шлиману связь с гомеровским эпосом, как бы нарочно почти не обращали внимания. Всю "крито-микенскую", или "эгейскую", культуру, вплоть до периода XIII-XII веков до н. э., a priori считали "догреческой", созданной другим, отличным от греков народом, а по мнению некоторых-даже отличною от всех европейцев "расою". Утверждали также, что создатели и носители этой культуры говорили на ином и даже не родственном греческому языке.
Особняком в литературе конца XIX века стоит мнение П. Кречмера, высказанное им на последних страницах его "Введения в историю греческого языка" (Геттинген, 1896), согласно которому греческая народность образовалась на Балканском полуострове постепенно, в результате последовательных вторжений индоевропейских племен, смешивавшихся с коренным населением; поэтому Кречмер считает, что невозможно определить точно, с какого момента племена, занимавшие Грецию в доисторический период, "стали греками". Эту трактовку вопроса следует считать в общем наиболее правильно ι, но в настоящее время в концепцию Кречмера нужно внести ряд существенных изменений, связанных с тем пониманием проблемы "индоевропеизации", которое выдвигается советскими лингвистами в результате развития и углубления "нового учения о языке" академика Н. Я. Марра в новейших работах советских ученых (Мещанинова, Жирмунского, Удальцова, Кацнельсона и др.) и отчасти в работах передовых французских и польских лингвистов (Банвенист, Шантрен, Курылович и Др.). критикующих традиционные методы сравнительной грамматики.
В первое время после открытий Шлимана вопрос о связи "догреческой" материальной культуры с эпосом вызвал несомненный интерес;, свидетельством этого является, например, книга В. Гельбига "Гомеровский эпос, истолкованный памятниками материальной культуры" (Лейпциг, 1884). Однако позже эта постановка вопроса, несмотря на успешное продолжение изысканий Гельбига Рейхелем и Карлом Робертом,[9] была объявлена такою же наивностью, как и "вера" Шлимана в то, что он открыл "клад Приама" или "гробницы Эгисфа и Клитеместры".
Перелом в развитии культуры на территории Греции между XII и VIII веками до н. э., - перелом, резкость которого старательно подчеркивалась, - объясняли исключительно вторжением в Грецию с севера этнически отличного от древнего населения индоевропейского народа (греков), покинувшего свою "прародину" и завоевавшего для себя новую территорию. В том, что сами греки противопоставляли себя "пеласгам"· (Фукидид I, 1), видели обоснование этому объяснению.
Можем ли мы, однако, при тех условиях изучения так называемой "доисторической" Греции, какие были приведены выше, отказаться от своей несомненной обязанности вскрыть по мере возможности то, что таится либо за мертвым археологическим инвентарем, либо за фантастическими построениями мифа, легенды и саги и что бесспорно представляет собою историческую реальность? Мы, может быть, не должны были бы отваживаться на это, если бы материал, указывающий на время старше VII века до н. э., был ничтожен и носил случайный характер, не допускающий сопоставления и систематизации. Но материал этот обширен, и с каждым годом он продолжает расти. Конечно, он фрагментарен и навсегда останется фрагментарным, какие бы новые неожиданные открытия ни ждали нас впереди. Но ведь фрагментарными являются и все наши источники для истории греческой культуры в последующее время. В частности, весь литературный материал, на основании которого· строят ту или иную концепцию истории древнегреческой литературы не только в "классический", но и в эллинистический период), представляет собою тоже только фрагменты, иногда совершенно случайные,, так как подавляющее большинство памятников греческой письменности до нас не дошло. Однако никто не думает отказываться от таких концепций, так как вековое развитие классической филологии, указывавшей, почти всегда путь исследования другим, более молодым филологиям, нашло тончайшие методы критики, истолкования и сопоставления источников, которые позволяют производить надежные реконструкции утерянных фактов и затемненного хода развития событий.
В настоящее время установление связи между фактами древнегреческой культуры так называемого "исторического периода" и более ранними эпохами есть научная реконструкция (как всякая реконструкция, всего лишь приблизительно верная), а не досужий вымысел. Поэтому мы не можем считать методологически допустимыми господствующие и сейчас еще в науке об истории древнегреческой литературы взгляды, согласно которым историк литературы не обязан принимать во внимание "микенскую" эпоху и может целиком уступить ее археологу для изолированного изучения, как эпоху "догреческую", отделенную от "эллинства" почти полным перерывом идейных и художественных традиций.
Создание основных комплексов греческой мифологии, которые составляют, по словам Маркса, "не только арсенал греческого искусства, но и его почву",[10] нужно относить ко времени задолго до появления известной нам греческой письменности. Это отнюдь не значит, что оно никак не было связано с письменностью. Письмо "микенской" эпохи существовало еще в XI веке до н. э. Наиболее поздняя его форма (так называемое линейное письмо Б) существовала до XI века до н. э. и, как показывает частичная расшифровка Асинской надписи, датируемой временем около 1200 г., применялась и для греческого языка.[11] "Микенские" памятники, найденные Шлиманом в Микенах, Тиринфе и беотийском Орхомене, теперь широко известны и во многих других областях Греции, начиная от юга Пелопоннеса (Пилос, Амиклы) и кончая на севере южной Фессалией (Иолк).[12] Время расцвета этой культуры раньше приурочивалось к XV-XIII векам до н. э., но новейшие археологические исследования показали неправильность выводов ученых конца XIX и начала XX века: теперь время существования этой культуры придвинуто ближе к нам, вплоть до XI-X веков до н. э., а в тех древних ("микенских") центрах, которые не подверглись запустению в результате последних по времени племенных передвижений, археологические слои "микенского" характера непосредственно примыкают к тем слоям остатков материальной культуры, которые считаются, без всякого сомнения, греческими (так называемая "эпоха геометрического орнамента" X-VIII веков до н. э.).
Не говоря уже о том, что фрески, открытые, например, в Тиринфе, очень точно соответствуют военному быту, описанному в "Илиаде" (например, бой на колесницах), мы находим на предметах кустарно-художественного ремесла изображение отдельных эпизодов греко-троянской войны, странствований Одиссея или мифологического цикла об Эдипе. Еще важнее тот общий вывод, который можно сделать из сопоставления главнейших мифологических комплексов с распределением центров "микенской" культуры на территории Греции. Так, Арголида, которая в историческую эпоху по своему политическому значению далеко уступает другим областям (Аттике, Лаконии, Беотии), в мифах стоит безусловно на первом месте. Город Микены еще у трагиков V века до н. э. [13] называется "златообильным" (πoλύχουσος), что вполне соответствует богатейшим археологическим находкам Шлимана, но никак не вяжется со значением этого пункта в V веке, когда он был почти деревушкой.
А ведь в "Илиаде" микенскому царю Агамемнону принадлежит верховная роль в общегреческом (ахейском) войске. Микены фигурируют и в мифе о Персее. В такой же степени запустел в историческую эпоху и Тиринф, играющий большую роль в мифах о Геракле и о Беллерофонте. В беотийских мифах на ряду с Фивами многое происходит в Орхомене, бывшем также крупным центром только в "микенскую" эпоху: племя минийцев, создавшее этот центр и фигурирующее в мифе об Аргонавтах, в результате позднейших передвижений и скрещений исчезло как самостоятельная единица, и сам Орхомен также захирел, полностью подчинившись Фивам. С тем же походом Аргонавтов связан другой древнейший центр - Иолк (в южной Фессалии). Такое же полное соответствие мы находим и в подавляющем большинстве других случаев (Пилос - родина старейшего героя "Илиады" Нестора; Калидон в Этолии - место охоты на калидонского вепря, коллективного предприятия главнейших мифических героев, и т. д.).
Выводом из всего этого должно явиться положение, что греческая мифология, как "почва" греческой литературы и искусства, сложилась в своих основных чертах в эпоху, предшествующую той, в которую созданы наиболее ранние дошедшие до нас литературные произведения древней Греции. Однако эта эпоха не является чем-то совершенно неизвестным: мы знаем ее с каждым годом все лучше и лучше по памятникам материальной культуры и изобразительного искусства, и Виламовиц-Меллендорф был совершенно прав, когда в 1930 году писал в своем последнем труде, что в области изучения древнейшей истории Греции "каждая итоговая работа устаревает раньше, чем она увидит свет" ("Der Glaube der Hellenen", т. I, стр. 48).
Это основное положение, подкрепляемое теперь все новым и новым археологическим материалом, было более 55 лет назад гениально предугадано Энгельсом, указавшим, что " ... гомеровский эпос и вся мифология - вот главное наследство, которое греки перенесли из варварства в цивилизацию".[14]
[1] Племена, из которых сложились греки, мы не можем понимать как нечто достаточно устойчивое: они возникали и распадались, скрещивались и смешивались, объединялись временно в союзы, переселяясь из области в область и сливаясь с первоначальным населением той территории, куда они приходили (Ср. Фукидид I, 1).
[2] „… без основания, заложенного Грецией и Римом, не было бы также и современной Европы“ (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 183).
[3] Так называется отдел I части 2–й его „Философии истории“ (Гегель, Соч., т. VIlI, стр. 213—226, изд. Комм. Акад., М—Л., 1935).
[4] Ср. у Гегеля в назв. соч., стр. 216—219; К. — О. Müller, Orchomenos und die Minyer (1820) и Prolegomena zu einer wissenschaftlichen Mythologie (1825) с критикой Велъкера на нее (Rh. Mus. т. 13, стр. 605).
[5] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 80 (курсив наш. — Ред.).
[6] Там же, стр. 82 (Энгельс имеет здесь в виду Грота и Нибура).
[7] См. ниже, стр. 23, прим. 1.
[8] Статья В. Брюсова „Учителя учителей“ (Летопись, 1916) и ряд аналогичных высказываний Вяч. Иванова.
[9] W. Reichel, Homerische Waffen. 2–е изд., 1901; С. Robert, Studien zur Ilias. Берлин, 190], стр. 1—73; ср. также D. Joseph, Die Paläste des homerischen Epos. Берлин, 1893.
[10] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. 1, стр. 203. Ср. там же: „Предпосылкою греческого искусства является греческая мифология, т. е. природа и общественные формы, уже переработанные бессознательно–художественным образом народной фантазией“. В греческое искусство мы, конечно, должны включить и всю греческую литературу, которая также целиком выросла на той же мифологической почве и была у греков связана с другими видами искусства, может быть, теснее, чем у любого иного народа.
[11] Расшифровка сделана в 1929—1931 гг. шведскими учеными Линдквистом и Персоной при помощи подстановки знаков кипрского слогового письма. В „линейном письмо Б“ из общего количества 70 знаков 33 знака совпадают с известными нам кипрскими.
[12] Отдельные находки „купольных“ гробниц позднемикенского типа встречаются и в более северных районах.
[13] Софокл, Электра, ст. 9.
[14] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 13.
2. ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ ИСТОРИИ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Поэтическое творчество у каждого народа начинается задолго до появления у него письменности. Это творчество имеет устный характер и таким же устным путем передается из поколения в поколение. Такова вся народная поэзия доклассового общества. С возникновением письменности, которая в большинстве случаев появляется уже в эпоху становления классового общества, устное народное творчество не прекращает своего существования. Оно является первоистоком письменной литературы и в дальнейшем продолжает влиять на нее, иногда, правда, испытывая на себе и обратное влияние. Чем больше письменная литература носит народный характер, тем сильнее чувствуется в ней живая струя устного (фольклорного) творчества. Это положение, имеющее первостепенное значение для науки о литературе, было особенно подчеркнуто и блестяще развито А. М. Горьким в его докладе на I Всесоюзном съезде советских писателей.
Так возникла поэзия и у греков. Начало ее теряется в глубине тысячелетий, но ее исключительная самобытность (в противоположность, например, подражательному характеру значительной части римской литературы) говорит о том, что вся она вышла из истоков устного народного творчества и долгое время - даже уже в рамках классового общества - не порывала с ним самой тесной связи.
Хотя, как было указано выше, расшифровка Асинской надписи начала XI века до н. э. отодвигает зарождение греческой письменности далеко вглубь, - тем не менее всё, что нам пока известно о письменных памятниках даже IX века (надписи с острова Феры), носит случайный единичный характер. Непрерывное развитие письменности известно нам все-таки только с VIII века до н. э. С этого периода известно и развитие греческого языка. Более ранние периоды его жизни мы можем только восстановить предположительно на основании сопоставления с ним генетически родственных фактов в других языках. Поэтому, если греческой литературой мы будем называть всю ту литературу, которая написана на известном нам греческом языке, непрерывное развитие которого мы знаем в продолжение более 2700 лет, то и история греческой литературы будет охватывать такой же огромный период, - может быть, даже несколько больший, так как древнейшие части известного нам греческого героического эпоса могли сложиться в своих основных чертах несколько ранее VIII века до н. э.
За этот почти трехтысячелетний срок на территории Греции сменилось несколько общественно-экономических формаций. В результате этой смены коренным образом изменялись исторические условия жизни греческих племен и постепенно образовавшегося из них греческого народа. С усложнением общественных отношений росло, изменялось и усложнялось сознании людей. Все эти изменения самым существенным образом сказывались и на развитии литературы, на ее классовом характере, на возникновении и упадке отдельных литературных жанров и т. д. На ряду с этим. непрерывно изменялся и язык. Сперва это были, как мы увидим далее, отдельные племенные языки, которые скрещивались между собою, сближались и расходились в процессе образования и распадения племенных союзов; затем - один общий язык, распадавшийся на ряд наречий, наконец, единый литературный язык, существующий, как всегда, одновременно с живыми народными говорами, оказывающий влияние на стирание в них различий, но и впитывающий в себя их новообразования. И тем не менее, несмотря на все это, несмотря на то, что социальные и политические сдвиги в жизни греческого народа носили подчас революционный характер, мы можем рассматривать всю историю литературы, написанной на греческом языке, - с начала первого тысячелетия до нашей эры и до наших дней, - как в известной степени единое целое.
В истории самого греческого языка, больше чем в истории какого-либо другого языка, мы наблюдаем явления исключительного консерватизма литературной речи и ее стиля. Этот консерватизм должен быть объяснен влиянием традиций блестящего литературного прошлого - "классической" древнегреческой литературы VII-lV веков до н. э., создавшей культурные ценности, которые, по выражению Маркса, " ... в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца".[1] Эти традиции прошлого нельзя, однако, ограничить одною только областью литературно-художественного творчества. Их надо брать шире, в связи со всей той ролью, какую древняя Греция сыграла в мировой истории. Эта роль охарактеризована Энгельсом в "Старом предисловии к "Анти-Дюрингу"", где он говорит о древних греках как о народе "... универсальная одаренность и деятельность которого обеспечила ему такое место в истории развития человечества, на которое не может претендовать ни один другой народ".[2] Сила этих традиций привела к тому, что у греков всегда сохранялось представление о единстве истории своего народа. Даже в эпоху феодализма господствующая церковная идеология, всеми средствами подчеркивавшая разрыв между "христианской" и "языческой" культурой, не могла заглушить этого представления. Оно жило в народе и под гнетом турецкого владычества (1453-1824), а после национальной борьбы за восстановление греческой независимости (1824-1829) стало значительно яснее.
Поэтому единство истории греческой литературы на протяжении почти трех тысяч лет есть неоспоримый факт. Этому факту вполне соответствует то, что и в быте и в фольклоре современных греков (а в отдельных случаях и в народных говорах) вскрываются некоторые пережитки далеких эпох истории Греции.
В истории греческой литературы в таком широком понимании можно выделить пять больших периодов. Следует, однако, помнить, что при изучении всякого надстроечного явления - каким является и литература - периодизация истории еще более условна, чем при изучении социально-экономического базиса. Причина этого лежит в том, что развитие идеологии всегда несколько отстает от развития производительных сил, которым оно определяется. В свою очередь это явление объясняется тем, что для идеологии "...даже традиции, живущие в головах людей, играют известную роль, хоть и не решающую".[3]
Этими пятью основными периодами истории греческой литературы (не считая развития поэтического творчества в доклассовый период) являются следующие.
1. Античный период, совпадающий со временем существования античного рабовладельческого общества (с конца VIII-VII веков до н. э. по начало IV века н. э.), причем первые 150-200 лет этого периода являются временем становления рабовладельческого способа производства в обстановке разложения старых родовых отношений, т. е. периодом перехода от доклассового общества к первой классовой формации.
2. Переходный период "поздней античности" (с начала IV по начало VI века н. э.), совпадающей по времени с периодом феодализации античного общества, основа которого уже разрушена "революцией рабов" в союзе с наступлением варварских племен; несмотря на победу христианства над язычеством и превращение христианства в государственную религию, античные литературные традиции в этот период еще находятся в полной силе.
3. Византийский период - от оформления феодальной Византийской империи при Юстиниане (527-565) до завоевания Константинополя турками (1453).[4]
4. Период турецкого владычества (1453-1829).
5. Период политической независимости Греции (с 1829 г.).
Древнегреческой литературой мы условно называем два первых периода и условной гранью между нею и византийской литературой считаем 529 год, когда императором Юстинианом была закрыта Платоновская Академия в Афинах, а последние языческие философы эмигрировали в Персию.
В свою очередь внутри античной греческой литературы мы можем выделить несколько самостоятельных историко-литературных периодов, грани между которыми обусловливаются, с одной стороны, этапами внутреннего развития рабовладельческого общества, а с другой - внешними политическими изменениями, происходившими на территории Греции и тех стран Ближнего Востока, которые восприняли, после завоевательных походов Александра Македонского, греческую образованность и культуру.
1. Период, который можно условно назвать архаическим[5] (кончая первой четвертью VII века до н. э.), от которого до нас дошли только поэмы "Илиада" и "Одиссея" (возникшие в основных своих чертах еще в доклассовую эпоху и отражающие в этих частях тот этап в жизни греческих племен, который Энгельс охарактеризовал как "высшую ступень варварства"), а также произведения дидактического (поучительного) эпоса, приписываемые беотийскому поэту Гесиоду; в этот период старые органы родового строя перерождаются в органы господства замкнутой родовой знати и окончательно- отмирает строй, называемый Энгельсом "военной демократией" и предшествующий возникновению государства; все поэтические жанры, кроме эпоса, еще развиваются как устное народное творчество, и личность поэта еще не играет существенной роли.
2. Так называемый классический период (кончая третьей четвертью IV века до н. э.), когда, с упадком эпических жанров и выступлением на арену литературы поэта как личности, в Греции пышно расцветают сперва различные виды лирики, а затем трагедия и политическая комедия; это период, когда патриархальное рабство, зародившееся в недрах родового строя, превращается в основу всего общественного строя, а рабовладельческий способ производства становится господствующим и достигает своего расцвета, несмотря на напряженную борьбу внутри господствующего класса между различными группами рабовладельцев; рост общественного сознания, обусловленный прогрессивным развитием античной общественно-экономической формации, приводит к тому, что на ряду с поэзией возникают и прозаические жанры - философия, история, ораторское искусство.
3. Эллинистический период (кончая третьей четвертью I века до н. э.), в течение которого на ряду с ростом рабства и дальнейшим развитием рабовладельческого способа производства основное противоречие античного общества-противоречие между рабовладельцами и рабами- уже резко обостряется; на грани между предшествующим и этим периодами походы Александра Македонского (336-323 дон. э.) разносят греческую культуру по странам Ближнего Востока, и она сама начинает проникаться восточными влияниями; коренному изменению подвергается политический строй: образование монархических государств ведет к приобретению некоторой частью литературы придворного характера и к утере почти всей литературой непосредственной связи с народным творчеством; в прозе в этот период начинают развиваться и чисто научные жанры, так как отдельные науки начинают выделяться из общего лона философии.
Внутри эллинистического периода мы обычно различаем:
а) период полунезависимого существования Греции под македонской гегемонией до завоевания ее римлянами в 146 г. до н. э. В этот период главным центром греческой образованности становится столица птолемеевского Египта Александрия, почему весь эллинистический период в истории литературы (но не в истории вообще) иногда называют александрийским;
б) период существования Греции и Македонии как провинций Римской республики, на ряду с самостоятельным существованием постепенно падающих эллинистических монархий на Ближнем Востоке (птолемеевский Египет, монархия Селеькидов, Пергамское царство и др.), до окончательного включения этих монархий в состав римской мировой державы; для греческой литературы это период несомненного упадка.
Условным концом эллинистического периода мы считаем установление единовластия Августа (принципат) и подчинение Египта Риму в 31-30 гг. до н. э., хотя иногда называют "эллинистической" также и всю греческую литературу первых столетий нашей эры - вплоть до падения язычества и торжества христианства.
4. Римский период истории античной греческой литературы - до начала IV века н. э., когда, как мы уже видели, начинается первый этап феодализации рабовладельческого общества; все противоречия рабовладельческого строя в этот период уже выявились, начинается "революция рабов", появляется (уже со )1 века) новая идеология - христианская, но до окончательного падения рабовладельческого общества еще далеко, и новые формы его, родившиеся в Римской империи (колонат), некоторое время играют прогрессивную роль, что сказывается и на развитии греческой литературы,· переживающей новый подъем и создающей даже новые жанры (роман).
[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т, XII, ч. I, стр. 203. Цитата дана полностью ниже, на стр. 56 сл.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 340.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVIII, стр. 245 (Письма Ф. Энгельса к И. Блоху от 21—22/IX 1890 г.).
[4] Советские историки совершенно правильно считают „началом самостоятельного существования Восточно–римской или Византийской империи“ 395 год — год разделения единой империи после смерти Феодосия I (Ср. М. В. Левченко, История Византин, М. — Л. 1940, стр. 10). Но то, что легко и просто сделать в области политической истории, оказывается совершенно невозможным в истории идеологии: резко оторвать всю литературу IV и V веков с Квинтом Смирнским и школою Нонна, Ямвлихом и Проклом, Либанием и Гимерием от античной литературы было бы абсолютно неверно. Проведение же грани на рубеже IV и V веков было бы совершенно искусственно. Только после Юстиниана новая (феодальная) идеология окончательна торжествует в литературе, и в дальнейшем античная культура становится „наследием“, которое то почти игнорируется, то вновь приобретает большое значение, но уже в качестве объекта изучения и сознательного подражания ей, как чему то отошедшему в прошлое.
[5] Он, однако, совсем не будет соответствовать тому, что называется „греческой архаикой“ в истории искусства. Нашему условно „архаическому“ периоду в истории литературы будет соответствовать в истории искусства „эпоха геометрического орнамента“.
3. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА И РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
Вся древнегреческая литература развивается в рамках рабовладельческого общества, которое следующим образом характеризуется в "Истории ВКП(б)":[1]
"При рабовладельческом строе основой производственных отношений является собственность рабовладельца на средства производства, а также на работника производства - раба, которого может рабовладелец продать, купить, убить, как скотину. Такие производственные отношения в основном соответствуют состоянию производительных сил в этот период. Вместо каменных орудий теперь люди имели в своем распоряжении металлические орудия, вместо нищенского и примитивного охотничьего хозяйства, не знавшего ни скотоводства, ни земледелия, появились скотоводство, земледелие, ремесла, разделение труда между этими отраслями производства, появилась возможность обмена продуктов между отдельными лицами и обществами, возможность накопления богатства в руках немногих, действительное накопление средств производства в руках меньшинства, возможность подчинения большинства меньшинством и превращения их в рабов. Здесь нет уже общего и свободного труда всех членов общества в процессе производства - здесь господствует принудительный труд рабов, эксплуатируемых нетрудящимися рабовладельцами. Нет поэтому и общей собственности на средства производства, равно как на продукты производства. Ее заменяет частная собственность. Здесь рабовладелец является первым и основным полноценным собственником.
Богатые и бедные, эксплуататоры и эксплуатируемые, полноправные и бесправные, жестокая классовая борьба между ними - такова картина рабовладельческого строя".
Рабовладение наложило отпечаток на все развитие древнегреческой литературы, и непонимание или нежелание понять этот факт неминуемо ведет к искажению исторической перспективы, к неверному пониманию самих литературных явлений, к стиранию их коренных отличий от явлений новых европейских литератур. В буржуазной науке XIX и начала XX века это игнорирование специфичности социально-экономического базиса привело к господству модернизаторских концепций. Историю древней Греции рассматривали с точки зрения капиталистического общества (Пельман, Эд. Мейер и др.), а в результате и античную литературу стали трактовать с точки зрения восприятия ее человеком этого общества. В истории древнегреческой литературы модернизаторство получило самое крайнее выражение в многочисленных статьях Ф. Ф. Зелинского, собранных воедино в его сборниках "Из жизни идей", а также в его очерках по истории греческой литературы и греческой религии (1918 -1919 гг.) Тщательно продуманная и по-своему последовательная концепция Зелинского, в противоположность многим эклектическим построениям западноевропейских ученых, является образцом концепции, сознательно противопоставляющей себя подлинно научному историческому изучению древнегреческой литературы.[2]
Каждое явление этой литературы, взятое под углом зрения его возникновения в рабовладельческом обществе, его обусловленности господствующим способом производства, характеризованном выше, - получает сразу совершенно иное освещение, которое нисколько не умалит его значения, не снизит его художественной ценности, но, наоборот, позволит понять его в контексте своего времени. Такое освещение, являющееся задачей настоящего издания, возможно только в случае правильного понимания высказываний классиков марксизма-ленинизма об античной литературе, только в том случае, если историко-литературное построение не будет упрощенным, если оно не будет стремиться вывести каждое надстроечное явление непосредственно из базиса, если оно будет учитывать, что идеологическое развитие нередко может довольно сильно отстать от развития социально-экономического и находиться во власти идейных традиций предшествующего периода.
Все указанные моменты, являющиеся программой изучения истории античных литератур советскими учеными, можно иллюстрировать на ряде примеров. При этом не надо забывать, что Греция и Рим во многом отличаются друг от друга теми определенными формами, которые принял в них рабовладельческий способ производства и покоящийся на нем социальный и политический строй.
Два момента в истории древнегреческой литературы особенно характерны по различию своего освещения в буржуазной и нашей науке: 1) вопрос о характере "расцвета" литературы, театра и изобразительного искусства в Афинах в период между греко-персидскими войнами и Пелопоннесской войной и 2) вопрос о резком противопоставлении "классического" периода эллинистическому. Оба эти момента надо исследовать с учетом специфических явлений в развитии античного общества, как общества рабовладельческого.
Все освещение деятельности Софокла и Эврипида, Аристофана и софистов, Геродота и Фукидида будет одним, если мы будем рассматривать Афинское государство их времени как "демократию" par excellence, и другим, если мы будем понимать эту "демократию" как весьма совершенное орудие для того, чтобы афинские свободные рабовладельцы держали в повиновении рабов и извлекали из рабского труда максимальную пользу, возможную при низком уровне развития производительных сил. При втором случае фигуры Эсхила, Аристофана, Фукидида будут стоять не "над классами", как это хотят представить западноевропейские ученые, а в самой гуще классовой борьбы. Художественное значение их произведений предстанет тогда более выпукло и ярко, но рассмотрение их творчества в свете классовой борьбы своего времени отнюдь не должно сводиться к отыскиванию в каждом их слове ее непосредственного отражения.
Эллинистическая литература, при всех своих отличиях от литературы VII-IV веков до н. э., не покажется нам чем-то совершенно иным, если мы будем помнить, что она развивается в рамках того же строя, хотя и при иных политических условиях. Но и в этих новых условиях рабство так же глубоко коренилось во всей жизни античного общества. И в этих условиях грек эпохи эллинизма - так же как и грек V века до н. э. - не мог сделать ни одного шага без раба, без того, "кто трудился и доставлял труд другим".[3] Падение полисного строя не создало и не могло создать новой формации, так как рабовладельческий способ производства к III веку до н. э. далеко еще не изжил себя, его основное противоречие далеко еще не достигло своего апогея. Поэтому и греческая литература эллинистического и римского периодов не может быть понята вне отношения к рабовладельческому строю. Но традиции литературы, созданной этим строем, оказались настолько сильны, что и после IV века н. э., когда "революция рабов" уже победила, они продолжали господствовать. Литература V и начала VI веков н. э. - это еще не средневековая феодальная литература, хотя феодализация общества в полном разгаре. Поэтому, учитывая отставание идеологического развития, необходимо и литературу этого "переходного" периода рассматривать в связи с развитием рабовладельческого общества.
[1] История ВКП(б), Краткий курс, стр. 119—120.
[2] Близок к Зелинскому в своей трактовке явлений древнегреческой литературы был также Вяч. Иванов. Модернизацию греческой трагедии мы найдем во всех статьях· И. Ф. Анненского об Эврипиде.
[3] В. И. Ленин, Соч., т. XXIV, сгр. 366.
Глава II ГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК
1. ПРОБЛЕМА ГЕНЕЗИСА ГРЕЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Для суждения о доисторических эпохах в жизни народа нашими основными источниками являются, с одной стороны, памятники его материальной культуры (которыми доисторическая Греция чрезвычайно богата), с другой - его язык. В языке каждого народа путем сравнения между собою отдельных его наречий мы можем реконструировать отдельные языковые формы дописьменного периода, а путем сравнения с другими языками - открывать общие контуры тех отношений, в которых данный народ находился с другими народами и племенами.
Анализ древнейших памятников греческого языка (надписей, гомеровского эпоса, ранней лирики) показывает нам, что в исторической жизни греков, несмотря на всю близость их диалектов друг к другу, у них никогда не было полного языкового единства.[1] Это вполне соответствует и историческим условиям жизни греческих племен. В обстановке разложения родового быта и становления первой формы классового - общества - общества рабовладельческого - нельзя говорить и о едином греческом народе. Ранняя жизнь греческих государств (полисов) развивалась на старой племенной основе, и в рамках этих же племенных отношений развивалось колонизационное движение VIII-VII веков до н., сыгравшее очень большую роль в истории Греции как основоположницы европейской культуры.
Переоценивая возможности реконструкции языка дописьменных периодов, сравнительное языковедение XIX века реконструировало и на греческой почве некий "общегреческий праязык", считая, что греки некогда появились на Балканском полуострове в виде единой этнической массы, из которой выделились впоследствии отдельные греческие племена (ахейцы, ионийцы, дорийцы и т. д.) со своими наречиями. Такое представление в корне противоречит марксистско-ленинской теории развития человеческого общества, согласно которой высшей формой объединения в доклассовый период был "союз племен" -объединение временное я непрочное, вызывавшее только сближение племенных языков, но не полное их слияние. Кроме того, это представление не оправдывается и современным состоянием науки о языке, и потому даже само буржуазное сравнительное языковедение, в лице своих передовых представителей, начинает решительно отходить от теории "праязыков", "пранародов" и "прародин".
Изучение многообразия диалектов древнегреческого языка на основе сравнительно-исторического метода, длящееся уже более ста лет, установило три бесспорных положения, остающихся непоколебимыми среди ряда то возникающих, то опровергаемых частных гипотез, на которых мы не имеем возможности остановиться специально.
Первое из этих положений состоит в том, что все греческие диалекты находятся по отношению друг к другу в такой близости, которой мы не можем найти ни у одного из них по отношению к какому-либо другому языку или диалекту. Это положение нисколько не колеблется бесспорным фактом существования смешанных греко-иллирийских (в Эпире и на островах западного побережья) или греко-фракийских говоров. Ввиду полного отсутствия письменных памятников македонского языка неясным для нас остается (и, может быть, останется навсегда) вопрос о том, входил ли в это единство язык македонских племен до их эллинизации в V веке до н. э., или же он составлял особую группу.[2] Сейчас можно считать установленным, что греческие понятия "эллина" и "варвара" имели в виду не одни только языковые различия, а весь комплекс культурного облика племени.
Второе положение заключается в том, что общие черты всех древнегреческих диалектов в ряде случаев указывают на бесспорную· связь с другими группами так называемых индоевропейских языков и при этом на более тесную связь так называемой группы kentom,[3] Постулировать существование общего "праязыка" для всей группы kentom у нас йет никаких оснований, но мы можем при современном состоянии науки формулировать следующее положение: при. образовании относительного этнического единства доисторических греков (а такое единство могло образоваться в доклассовый период только в форме более или менее длительного союза племен) в состав их вошел ряд племен, которые раньше входили в другие племенные союзы вместе с племенами, впоследствии вошедшими в состав италиков, кельтов и прочих групп. К этому положению необходимо сделать существенную· оговорку: само "племя" никогда не могло быть стабильной этнической единицей; напротив, с одной стороны, племена непрерывно дробились, а, с другой, из их частей непрерывно создавались новые племена. В сфере языка этому соответствовало как дробление племенных языков, так и создание новых языков путем скрещивания. Сравнительное языковедение XIX века видело только одну сторону этого процесса - дробление - и создало, в лице Шлейхера, Лотара, Фикка и др., одностороннюю теорию происхождения индоевропейских языков (Spaltungstheorie). Эта ложная теория до сих пор еще не изжита в лингвистике в применении к изучению истории древнегреческих диалектов: к этому изучению до сих пор почти не применялась выдвинутая еще в 1872 г. в противовес Шлейхеру "теория волн" (Wellentheorie) немецкого лингвиста Иоганна Шмидта.[4]
Близость древнегреческих диалектов к племенным языкам Средней Европы делала относительно вероятным предположение, что в состав греческих племен вошли этнические влементы, появившиеся на Балканском полуострове с севера. Вероятность этого предположения подчеркивалась еще тем обстоятельством, что ближайшие "индоевропейские" соседи греков, фракийцы и фригийцы, бесспорно принадлежали к иной группе (группа satǝm), а иллирийцы, повидимому, представляли собою скрещенное племенное образование с элементами обеих групп (kentom и satǝm). Из этого предположения исходил и П. Кречмер в своем классическом исследовании.[5] Кречмер позже детализировал гипотезу последовательного появления на Балканском полуострове "индоевропейских" племен, из которых образовались греки.[6] Сама по себе эта гипотеза, если ее формулировать правильно (т. е. не постулировать "общегреческого праязыка" как исторической реальности) и если не выводить ее за строго очерченные рамки лингвистического исследования, ничего невероятного в себе не заключала. Однако она всегда оставалась только гипотезой, построе гной на основании второго из приведенных нами бесспорных положений, являющихся достижением лингвистической науки XIX века. Считать ее самоё таким же бесспорным положением никогда оснований не было. Но дело в том, что целый ряд ученых конца XIX и начала XX века (однако далеко не все поголовно представители сравнительного языковедения, как это иногда думают) неправомерно расширил содержание этой гипотезы, вложив в нее не лингвистическое, а антропологическое "расовое" содержание. А это дало повод всякого рода "лжеученым" делать ничего общего с наукой не имеющие выводы об участии "северной расы" в создании греческой культуры, об "индогерманских викингах героического века", завоевавших Грецию в середине второго тысячелетия до нашей эры и сидевших в своих "микенских замках" среди покоренного "догреческого" населения, подобно франкам, остготам и лангобардам на территории покоренной Римской империи. Кречмер, правда, стоял на ложных позициях в том отношении, что a priori допускал последовательное появление "племенных волн" из какой-то географически неопределимой территории, где все эти племена когда-то составляли языковое единство. После империалистической войны такая антинаучная концепция стала проникать в работы крупнейших исследователей.[7] Это окончательно опорочило гипотезу, которая в своей первоначальной форме ничего методологически неприемлемого в себе не заключала.
Однако эта "северная" гипотеза получила в недавнее время сильнейший удар с другой стороны, в результате которого отпала и та степень вероятности, которая у нее раньше была. Этим ударом явилось открытие индоевропейского характера хеттского языка, первоначально сделанное Фридрихом Грозным, а затем разработанное в трудах немцев Форрера и Зоммера, француза Делапорта и, главным образом, американца Стуртеванта (Sturtevant). Принадлежность хеттского языка к группе kentom, а с другой стороны, все увеличивающееся число намеков хеттских источников на связь хеттов с Грецией XIII и XII веков до н. э., - все это спутало карты исследователей доисторических судеб греческих диалектов и сделало вопрос о путях появления "индоевропейских" этнических элементов в Греции совершенно открытым.[8]
Наконец, третьим бесспорным положением, добытым изучением древнегреческого языка на протяжении последних десятилетий, является положение, что в состав греческих диалектов вошло значительное количество элементов языка древнейшего населения Греции, имевшего тесные связи с древними языками Малой Азии - карийским, ликийским, лидийским. В словарном составе древнегреческого языка до 30% корней не могут быть объяснены из сопоставления с другими индоевропейскими языками. Много неясного остается и в фонетике, и отчасти в морфологии. Это показывает, что греческие диалекты, а следовательно, и известные в начале исторической эпохи греческие племена, являются результатом не только скрещения между собой появлявшихся на территории Греции новых племен в процессе создания и распадения союзов этих племен, но и скрещения этих новых этнических элементов с древнейшим туземным населением. Этот факт представлялся раньше в упрощенном и, следовательно, искаженном виде.[9] Считалось, что вторгавшиеся в Грецию последовательные волны "греков-индоевропейцев" (языковое единство которых постулировалось a priori) навязывали покоряемому населению свою речь, а у него заимствовали лишь отдельные слова для обозначения неизвестных завоевателям понятий (οἶνος, ἔλαιον, χρυσός, ἄργυρος, βασιλεύς, ψυχή и т. п.) и топонимические названия.[10] Эта точка зрения сейчас не может быть принята. Нужно считать, что язык древнейшего населения Греции, сохранившегося в памяти греков под именем "пеласгов", явился одним из составных элементов в создании древнегреческих диалектов, которые оформились как языковые единицы только на территории соответствующих областей Греции, но ниоткуда извне в готовом виде принесены не были. Вместе с тем, строй этих диалектов показывает, что· в процессе скрещения полную победу одержала морфология индоевропейского типа. Это опять-таки не значит, что она была принесена "индоевропейцами" готовой и одержала победу благодаря тому, что была "более совершенной", как это хотят представить некоторые исследователи. Эта морфология выковывалась тоже уже на территории Греции; некоторые ее элементы, не являющиеся специфическими для греческого языка (личные и падежные окончания, например), а также некоторые общие тенденции системы (но отнюдь не вся система) бесспорно восходят генетически к общим с другими индоевропейскими, языками корням. Специфичность же всей системы греческого языка есть результат приспособления языка к удовлетворению тех новых форм потребности в общении людей, которые создались в Греции в условиях ускоренного разложения родового быта, бывшего главной причиной и племенных передвижений. Отличия строя греческого языка от строя других индоевропейских языков коренятся в специфичности местных условий исторического процесса, а некоторые элементы морфологической системы всех индоевропейских языков, которые раньше относились только за счет генетической общности, следует отнести за счет общих черт социального процесса, протекавшего в сходных (но· не тождественных) формах в разных местах.
[1] Ср. приведенное ниже (стр. 33) высказывание Ф. Энгельса о древнегреческих. диалектах (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 83).
[2] В недавнее время Хаджидакис снова выступил в защиту принадлежности македонского языка к греческим диалектам и его близости к наречию Этолии и Акарнании (G. N. Hatzidakis, l’Hellénisme de la Macédoine. Revue des études gr., т. 41, 1928, стр. 390—415). Противником такой возможности остается А. Дебруннер (статья „Griechen“ в Reallexikon'e М. Эберта, т. А, 1926, стр. 508 сл., § 21), считающий, что язык народной массы Македонии представляет собою смесь фракийских и иллирийских элементов с доиндоевропейским субстратом, и только с началом эллинизации господствующего македонского слоя (V век до н. э.) в него проникли греческие элементы..
[3] К этой группе относят, кроме греческого, языки кельтские и италийские, затем хеттский и тохарский и, наконец, находящиеся в особом положении германские языки.
[4] Ср. J. Schmidt, Die Verwandschaftsverhältnisse der indogermanischen Sprachen. Веймар, 1872. Согласно этой теории, возникновение новообразований в любой области языка (в фонетике, морфологии, лексике, синтаксисе) представляет аналогию кругам на воде от брошенного камня. Поэтому некоторые факты языка могли распространиться не во всей группе kentom, а в части ее, а с другой стороны, захватить языки группы satǝm: например, есть факты, общие германским, балтийским и славянским языкам, другие, наоборот, — германским, кельтским и италийским, третьи — славянским и иранским и т. д.
[5] Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache, 1896.
[6] Ср. его статью „Zur Geschichte der griech. Dialekte“, Glotia, 1909. стр. 9—34.
[7] Ср., например, в посмертном труде Виламовица–Меллендорфа, Der Glaube der Hellenen (Берлин, 1931—1932) вводную главу „Die Wanderungen der hellenischen Stämme“, особенно стр. 59—61.
[8] Новейшую литературу вопроса см. в журн. Gnomon, т. 16 (1940), стр. 52—54. Некоторые современные лингвисты считают, что наиболее близким к хеттскому языку из всех индоевропейских языков является именно греческий.
[9] Не так еще давно имело место и категорическое отрицание какого либо существенного влияния языка автохтонов на греческий (Вакернагель).
[10] Такова в общем точка зрения Авг. Фикка, О. Гофманна, А. Мейе, П. Шантрена и целого ряда других ученых первой трети нашего века.
2. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЕ ДИАЛЕКТЫ
До III века до н. э. Греция не имела единого языка. Политически раздробленная страна не имела потребности в едином государственном языке, но близость наречий друг к другу не представляла затруднений в сношениях между отдельными полисами. Что касается литературного языка, то и он, как будет показано в следующем параграфе, не был единым: почти каждый литературный жанр обладал своим особым языком, развивавшимся на основе какого-либо одного или нескольких диалектов.
Сами греки ясно сознавали свою языковую общность. Термин "иноязычный" (βαρβαρόφωνος) мы встречаем в применении к жителям Карий уже у Гомера (Ил. II, 867). Слово βάρβαρος у него еще не встречается, равно как нет и единого этнического термина для всех греков, которые обозначаются то Ἀχαιοί ("ахейцы") или Παναχαιοί, то Δαναοί ("данайцы"), то Άργεῖοι ("аргивяне"). Это отмечается Фукидидом (I, 3). У Геродота (VIII, 20; IX, 43) слово βαρβαρόφωνος означает уже то же, что βάρβαρος, т. е. "не-грек", но несомненно, что одна только речь греческого типа не была для греков достаточным основанием к тому, чтобы племя не было отнесено к числу "варваров". Так, дикие племена Этолии, Акарнании и отчасти Эпира, называвшиеся иногда (даже у Страбона, ср. VII, 7, 1) "варварами", по языку безусловно были греками. Напротив, македоняне, которые, возможно, были носителями говора, не входившего в состав греческой "ветви" индоевропейских языков (см. выше, стр. 28), никогда не относились греками к числу "варваров". Следовательно, как уже указывалось выше (стр. 28), противопоставление "эллинов" и "варваров" делалось на основании всей совокупности признаков языка, религии, быта и т. д.[1] Тот же Страбон (там же) говорит, ссылаясь на Гекатея, о "варварах, населявших Пелопоннес до греков", и добавляет от себя, что это можно распространить на всю Грецию; к этим "варварам" он относит дриопов, пеласгов, лелегов и другие "догреческие" племена, а также финикийских поселенцев и фракийцев. Вопрос о финикийцах, однако, является сейчас очень спорным. Некоторые ученые полагают, что под Φοίνικες (краснокожие) следует понимать для древнейшей эпохи не финикийцев, но колонистов с Крита и что Фукидид был введен в заблуждение этим словом и смешал более древнее и более позднее его значение. Несомненно, что отдельные фракийские поселения были в Греции и в историческую эпоху, но, очевидно, столкновения с ними и иллирийцами Эпира, как с двумя типами племен группы satǝm, породили сознание языковой противоположности их еще в эпоху тех древнейших племенных передвижений, в процессе которых и создалась этническая обособленность самих греческих племен. Это заключение приходится сделать потому, что с другими племенами группы satǝm этнические образования, из которых впоследствии развились греческие племена, потеряли связь значительно раньше.
По свидетельству самих греческих писателей, греки делились на три племени: ионийцев (Ἲωνες), дорийцев (Δωριεῖς), и эолинцев (Αιολεῖς)[2], но греческий язык они делили, на четыре диалекта: ионийский, аттический, дорийский и эолийский. Так как малоазиатские ионийцы считались происходящими из Аттики (по традиции, двенадцать ионийских колоний были выведены Нелеем, сыном афинского царя Кодра, в конце XI века до н. э.), то ионийский диалект считали древним аттическим, а аттический - более поздней его стадией. Пятым наречием считалось позже ἡ κοινὴ διάλεκτος - "общее" наречие, или просто κοινή, т. е. общегреческий литературный прозаический язык, образовавшийся в III-II веках до н. э.
Эта трехчленная классификация (ионийский, дорийский и эолийский диалекты) древнегреческих племен несомненно возникла не позже VIII-VII веков до н. э., так как этиологический миф о потомстве Эллина, сына Девкалиона, засвидетельствован уже одним из фрагментов Гесиода. По Гесиоду, у Эллина были сыновья Эол, Дор и Ксуф, а у последнего - Ахей и Ион. Таким образом, здесь видна попытка связать трехчленное деление с гомеровскими ахейцами, из чего некоторые исследователи делают вывод, что ионийцы вообще являются древнейшим слоем греческого населения, вытесненного в Пелопоннесе дорийцами, а в остальных частях Греции - другими племенами (смешение с которыми имело последствием образование эолийцев) и сохранившегося только в Аттике. Эта гипотеза, особенно отстаиваемая Кречмером, а в последнее время греческим ученым Милонасом,[3] не может считаться окончательно обоснованной, ибо современное языковедение вообще не считает, что традиционное деление отражало действительную картину древнегреческой диалектологии. Однако несомненно, что группы, на которые делились древнегреческие диалекты в историческое время, были результатом последовательных скрещений новых волн переселенцев с осевшими ранее племенами. При этом, повторяем, исконная близость диалектов друг к другу сохранялась у греков в силу ограниченности территории их размещения. Их диалекты не могли потерять черты исключительного сходства друг с другом, как потеряли его диалекты славянских и германских племен, расселившихся по огромному пространству. Это положение особенно подчеркивает Энгельс в "Происхождении семьи, частной собственности и государства": "Различия в диалектах у греков, тесно расположившихся на сравнительно небольшой территории, развились гораздо меньше, чем в обширных американских лесах; однако и здесь мы видим, что в одно большое целое соединились лишь племена с одинаковым основным наречием, и даже в маленькой'Атгике встречаем особый диалект, который впоследствии! приобрел господство в качестве общего языка для всей греческой прозы".[4]
Изучение древнегреческих диалектов, начатое в 30-х годах XIX века Г. Л. Аренсом и продолженное затем А. Кирхгофом, Густавом Мейером, Р. Мейстером, О. Гофманном, А. Тумбом, К. - Д. Бекон (С. D. Buck), А. Мейе, Ф. Бехтелем и многими другими лингвистами дает в настоящее время картину значительно более сложную, чем она представлялась самим грекам. Е-ли отвлечься от несущественных моментов, которыми классификации различных ученых отличаются одна от другой, то картина эта представляется в следующем виде.
1. Ионийско-аттическая группа, характеризуемая прежде всего переходов ā в ē окончанием - si вместо ti в 3-м лице множественного числа и некоторыми другими чертами. Сюда относятся говоры малоазиатской Ионии, Киклад и Эвбел и оропский говор в северо-восточной Аттике. Особое место в этой группе занимает наречие всей остальной Аттики, которое и называется "аттическим". Оно отличается, главным образом, сохранением старого ā после e, i, r, переходом ss и rs в tt и rr, контракцией гласных и сохранением двойственного числа. Переход ā в ē ни в каких других группах греческих диалектов не встречается.
2. Аркадско-кипрско-памфмийская группа, представляющая собою остатки того языкового единства, которое было обусловлено существованием больших племенных союзов так называемого "героического века", начало которого следует связывать с падением критской морской державы (около 1400 г. до н. э.). В истории материальной культуры это время обозначатся обычно как "позднемикенский период". Отзвуки пиратских набегов пелопоннесских греков этой эпохи мы находим как в египетских, так и в хеттских источниках. Так как эти источники дают нам этнические названия Aẖẖijawa (хеттские) и Aqaiwaša (египетские), то предполагают, что гомеровское Ἁχαιοί (ахейцы) было названием, означающим принадлежность к этому племенному союзу, который стал восточно-средиземноморской "талассократией" в XIV веке и удерживал свою власть до XI века, когда континентальная Греция оказалась захваченной новыми племенами (преимущественно дорийцами), а господами морей сделались воспользовавшиеся падением ахейского могущества финикийцы. Заняв прибрежные области Пелопоннеса, в первую очередь Арголиду и Лаконию, дорийцы оттеснили прежнее население в центральную горную местность Аркадию. Памфилия же и Кипр, колонизованные греками чрезвычайно рано (не позже XIII века до н. э.), сохранили "ахейский" диалект первоначального греческого населения Пелопоннеса. Целый ряд данных указывает нам, что греческими колонистами были когда-то заняты и Киликия и Ликия. О двух слоях населения в Ликии мы находим указания и в "Илиаде"-в рассказа Главка Диомеду о Беллерофонте (VI, 152-195). Геродот (VII, 92) возводит ликийцев к афинскому поселенцу Лику, дяде Тезея, а древнее население Ликии связывает с Критом и называет его "термилами" (Τερμίλαι), что совпадает с названием Trɱmili, встречающимся более 30 раз в ликийских надписях. Но эти греческие колонисты в Ликии с течением времени подверглись варваризации и забыли свои язык. О киликийцах Геродот (VII, 91) говорит, что они "полуахейцы" (ύπαχαιοί), ликийский же язык признается современными его исследователями, (Калинкой, Зундваллем, Даниэльсоном, Мериджи и др.) типичным смешанным языком, имеющим не только в словаре, но и в составе своей морфологии бесспорные индоевропейские элементы. Таким образом, аркадско-кипрское наречие, следов которого мы не можем найти в гомеровском эпосе, сложившемся позже в эолийской и ионийской среде, - есть язык тех воителей, слава о которых в народной памяти дожила до времени создания песен, лежащих в основе "Илиады", т. е. до времени, когда образы древних героев Аргоса, Микен, Пилоса и додорийского Лакедемона были приспособлены к новой тематике (эолийская колонизация северо-западного угла Малой Азии) и соединены с новыми героическими образами (фессалийскими вождями Ахиллесом, Патроклом, Филоктетом, с локрийскими Аяксами и др.). Это наречие характеризуется рядом новообразований, развившихся только у пелопоннесских племен вне связи с другими греческими наречиями (как, например, дифтонг αῦ в родительном падеже единственного числа; гомеровское ао, Ἀτρειδάο).
3. Эолийская группа, охватывающая говоры малоазиатской Эолии (с особым говором на острове Лесбосе) и говоры Фессалии и Беотии. Образование ее следует связывать с движением племен, предшествовавшим дорийскому, но не поддающиеся даже приблизительному хронологическому определению. Поскольку это движение не проникло до Пелопоннеса и не затронуло Аттики и, следовательно, не сказалось разрушительно на областях древнейшей культуры, у нас нет никаких данных для его датировки. Оно могло совершенно не отразиться в жизни "ахейского" племенного союза. Исходным его Пунктом были какие-то горные области (некоторые данные указывают на Эпир, другие противоречат этому), из которых волна нового населения проникла в плодородную долину Пенея в Фессалии, а затем в среднюю Грецию, именно в Беотию. Движение этих племен не должно было носить характера организованного похода (στόλος), как это было впоследствии у дорийцев; оно, вероятно, растянулось на очень долгий период. Сопротивления (по крайней мере, в Фессалии) это движение не встречало, и новые пришельцы относительно мирно ассимилировались с автохтонами. О таком проникновении в Беотию "фессалийцев из Арны", не повлекшем за собою какой-либо катастрофы, говорят и Фукидид (I, 12). Что касается минийцев, как более древнего населения юго-восточной Фессалии (Иолк) и Беотии (Орхомен), то об их отношении к другим племенным группам греков мы ничего сказать не можем, хотя некоторые исследователи, основываясь исключительно на археологическом материале, настойчиво сближают их с ионийцами. Это вероятно, но пока недоказуемо. Эолийское наречие обладает рядом характерных черт, из которых многие встречаются в языке гомеровского эпоса. Особенно выделяются не отдельные фонетические черты, а специфические морфологические образования.
Все эти три группы (ионийско-аттическая, аркадско-кипрская и золийская) имеют некоторые общие черты, показывающие, что они находились в известной связи друг а другом, после того как связь с другими племенами, оставшимися за пределами Греции, была потеряна. Одной из таких общих черт является переход окончания ti в 3-м лице мн. ч. в si. Кроме того, есть ряд черт, объединяющих каждое из этих трех наречий попарно.
4. Западная группа, противостоящая трем предыдущим группам, известная по диалектам дорийскому и отдельным говорам: этолийскому, локридскому, фокидскому, говору Ахайи и элейскому (в Элиде). Внутри дорического диалекта надписи показывают известные различия говоров лаконского, мессенского, арголидского (включая остров Эгину), коринфского, мегарского, островов Феры и Мелоса, родосского и критского. Для всей западной группы характерно распространение окончания дательного падежа мн. ч. - οις также и на согласные основы и переход ĕ в a перед плавными (r, l), слияние εο в ει, а не в ου (как в аттическом), и некоторые другие черты.
Дорийский диалект отличается от других говоров этой группы лишь очень немногими чертами, из которых наиболее интересны: архаическое окончание 1-го лица множ. числа - mes (вместо обычного - men во всех других диалектах), сохранение старого окончания - nti в 3-м лице мн. ч. (φέροντι), близкое к другим индоевропейским так называемое "дорическое будущее" (futurum doricum), являющееся старым индоевропейским образованием, сохранившимся только в литовском языке; сохранение t в личном местоимении 2-го лица и, наконец, долгое сохранение звука υ (дигамма)· Все эти черты указывают, что дорийский диалект, как язык племени, дольше других остававшихся вне непосредственного соприкосновения с другими этническими группами и на более низкой ступени культурного развития (соответствующей, по-видимому, средней ступени варварства, по Энгельсу), сохранил большее количество архаизмов и, несмотря на позднее появлений дорийцев в Греции, отражает более древнюю стадию в жизни племенных языков греческого типа. Тем не менее, и дорийские говоры в том виде, в каком они нам известны по памятникам письменности, носят до известной степени такой же смешанный характер, как и эолийские. Наибольшим своеобразием обладают эле некий говор, который раньше сближали даже с эолийским, а не с дорийским диалектом,[5] и говор Ахайи.
Таковы четыре типа, к которым мы можем свести разнообразие живой речи отдельных племенных единиц древней Греции на заре классового общества и образования рабовладельческих полисов.
В современном языковедении в области диалектологии и лингвистической географии преобладает течение, отрицающее возможность проведения точных границ между говорами и группировки говоров в строго очерченные группы.[6] В применении к древнегреческим диалектам вопрос осложняется еще и тем, что эти последние известны нам по отрывочным и иногда очень поздним показаниям эпиграфики. Изучать диалекты языка, давно ставшего мертвым, так, как мы изучаем все с большим и большим совершенством живые современные говоры, нельзя. Поэтому приведенная выше классификация должна рассматриваться как построение, в известном смысле условное и схематическое.
[1] О противопоставлении по религии ср. у Аристофана (Птицы, ст. 1520 сл.), где говорится о „богах варваров“, отличных от „олимпийских“ богов, хотя обычно у греков считалось, что „варвары“ находятся во власти тех же богов.
[2] Ср. анонимный трактат Περι διαλέκτων („Античные теории языка и стиля“, под ред. О. Фрейденберг, стр. 142 сл., Л, 1936). Античные грамматики обращали внимание, главным образом, на новообразования аттического наречия, как, например, слитные формы, переход σσ в ττ, ρσ — в ρρ, но не замечали его архаизмов.
[3] P. Kretschmer, Zur Geschichte der grieîhisch:n Dialekte (Glotta, 1909, I стр. 9—34); Μιλύνας в журн, Ἁρχαιολογικὴ έφημερίς, 1930, стр. 8 сл., 15 сл.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 83,
[5] Ср. G. Meyer, Griechische Grammatik, 3–е изд., 1896, стр. 18—19.
[6] Ср. Gaurhet, Giebt es Mundartgrenze? (Archiv für das Studium der neueren Sprachen, 1903, т. III, стр. 365 сл.), а также все работы французской диалектологической школы, возглавляемой Жильероном.
3. ЯЗЫК ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
История большинства языков дает нам примеры развития литературного языка на основе какого-либо одного из диалектов. Нередко диалект этот, в большинстве случаев являющийся говором городским, сам по себе есть результат смешения нескольких наречий. Таков, например, московский говор, лежащий в основе русского литературного языка и соединяющий в себе севернорусские и южнорусские особенности. Таким был, по всей вероятности, и говор города Рима, ибо образование крупных центров обычно связано с притоком населения из разных мест. Совершенно иную картину представляет история языка древнегреческой литературы. До III века до н. э. эта литература, носившая уже в течение ряда столетий общенациональный характер, не была единой по языку. Отдельные литературные жанры имели каждый свой собственный язык, развивавшийся из того или иного древнегреческого диалекта или в результате смешения их. Однако далеко не все диалекты получили литературное развитие.
Каждый из возникающих литературных языков имел до известной степени искусственный характер. В этом отношении полную противоположность им представлял язык эпиграфических памятников, отражавших живые местные говоры со всеми их особенностями, хотя, конечно, некоторая степень нормализации всегда связана с письменной фиксацией языка. Встречаются в надписях и застывшие архаические формулы, но в них нет систематически проведенных принципов, отличающих всякий литературный язык: последовательного консерватизма форм, связанности синтаксических построений, известной приподнятости общего тона и т. п. Для греческих литературных языков, как и для языка древнеиндийского, особенно характерно образование новых слов путем сложения. Из языка устного поэтического творчества вошли украшающие эпитеты, окаменевшие метафоры и сравнения, ритмизация речи и многие элементы, из которых впоследствии развились риторические фигуры (анафоры, параллелизмы, антитезы и т. п.).
Древнейшим литературным языком в древней Греции явился поэтический язык героического эпоса, выработанный певцами этого эпоса (аэдами) в греческих поселениях на малоазиатском побережье. Он развивался в тесной связи с развитием эпического стиха -· дактилического гексаметра. Не только фонетика и морфология диалектов, лежащих в основе этого языка, влияли на особенности метрики, но и обратно, - фонетические и просодические черты его оформлялись, как это показали в конце XIX века В. Шульце, Ф. Зольмсен и отчасти Ван-Льевен, в прямой зависимости от метрических законов напевного стиха. Язык гомеровского эпоса не только стал языком всей греческой героической поэзии на две тысячи лет (его пытался сохранять еще в XII веке византийский поэт Иоанн Цец), но был воспринят также и дидактическим эпосом Гесиода и его последователей (см. ниже, главу X) и эпосом философским (Ксенофан, Парменид, Эмпедокл - см. главу XI). В эллинистический период им писал Аполлоний Родосский (см. ниже, т. II, раздел 5), в IV-V веках н. э. - Квинт Смирнский и Нонн Паннополитанский (см. ниже, т. III), хотя язык последнего окрашен яркими индивидуальными чертами.
Этот эпический язык имеет в основе ионийское наречие, распространенное к югу от города Смирны и на островах Хиосе, Самосе и др. На ряду с этим, мы находим в нем много эолизмов, свойственных наречию северо-западного угла Малой Азии и острова Лесбоса. В настоящее время является общепризнанным, что он создан искусственно аэдами и не отражает никакого конкретного живого говора.[1] Господствовавшее в первой половине XIX века мнение, что гомеровский язык есть древнейшая стадия греческого языка, теперь окончательно оставлено.[2] Выяснено, что аркадско-кипрский, собственно эолийский и аттический диалекты сохранили много отдельных черт, уже утраченных гомеровским языком, хотя в целом этот последний, в силу свойственной всякому искусственному языку архаичности, заключает в себе большое количество древних элементов, чем любое другое наречие, взятое отдельно.
В конце XIX и начале XX века была очень популярна гипотеза, созданная Авг. Фикком, а у нас защищавшаяся Ф. Зелинским, что гомеровский язык, созданный в среде эолийских аэдов, затем перешел в ионийскую среду, где и подвергся "ионизации". В процессе дальнейшего развития эпоса и введения в него новых мотивов наибольшее количество эолизмов сохранилось в древнейших его частях, а более новые части совершенно лишены их. "Эолизмы" стали критерием суждения для датировки напластований в сюжетах "Илиады" и "Одиссеи", и, таким образом, гипотеза, не обоснованная никакими историческими данными, явилась основанием для новых гипотез о последовательности сложения гомеровских поэм.[3] Фикк даже сделал попытку "перевести" обе поэмы на эолийское наречие, а части, не поддающиеся такому переводу, объявил позднейшими вставками. В настоящее время эта гипотеза не может считаться доказанной. Вполне возможно, что ядро героического эпоса троянского цикла, если оно было создано в районе города Смирны, который лежал на границе между Ионией и Эолией и около 800 г. до н. э. перешел от эолийцев к ионийцам, - впитало в себя элементы обоих наречий в результате сознательного языкотворчества аэдов. Кроме того, самая проблема "эолизмов" сейчас считается более спорной, чем раньше. Нет никаких оснований относить за счет эолийского слоя все языковые особенности, не свойственные ионийскому наречию в позднейшее время. Многое из того, что привыкли считать "эолизмом", могло принадлежать и ионийскому диалекту в более древний период (в том числе и сохранение звука υ, обозначаемого дигаммой). Наконец, как показывают некоторые надписи Смирны, островов Хиоса и Самоса и даже Колофона, живой говор этих местностей был гораздо ближе к эолийскому наречию, чем диалект Кикладских островов, а тем более Эвбеи. На этом основании некоторые лингвисты (впервые в 1839 г. Арене, а в новейшее время Мейе) считают, что в основе эпического языка лежит говор ионийский на эолийской основе.[4] Эта теория также не может считаться доказанной, так как гомеровский язык включает в себя и некоторые специфические эолийские новообразования.
Язык Гесиода есть первое восприятие поэтического языка малоазиатских аэдов на континенте. Традиция связывает это с известием о переселении отца Гесиода из Кимы в Беотию (Тр. и дни, 636 сл.), но еще Арене обратил внимание на то, что в "Трудах и днях" встречаются эолизмы, которых нет у Гомера и которые следует относить за счет эолийского диалекта самой Беотии.[5] С другой стороны, у Гесиода встречаются и доризмы, свойственные говору дельфийского района, чего у Гомера уже совершенно нет.[6] На основе эпического языка развилась элегическая и эпиграмматическая поэзия, но с течением времени в эти поэтические жанры все больше начинают проникать местные (новоионийские) особенности живого языка, а некоторые гомеровские черты исчезают.
Эти элементы замечаются уже у древнейших элегиков - Каллина и Архилоха.[7] Однако другие формы лирики вырабатывают свой особый язык. Для монодической мелики Алкея и Сапфо - это чисто эолийский диалект острова Лесбоса, где безусловно существовала раньше VII века до н. э. устная песенная поэзия, в которую уходит своими корнями творчество мелических поэтов. Лирика Мимнерма и Анакреонта и ямбы Гиппонакта написаны на ионийском наречии. Хоровая мелика, первоначальное развитие которой связано со Спартой, использует дорийский диалект, хотя один из первых поэтов этого жанра, Алкман, был уроженцем Сард. Хоровой мелос и в дальнейшем связан с дорийцами (дорийские колонии в Сицилии и южной Италии, где писали свои произведения Стесихор и Ивик), и традиция навсегда закрепляет за ним дорийское наречие. Этим наречием пользуются фиванец Пиндар, ионийцы с острова Кеоса - Симонид и Вакхилид. Это закрепление определенного наречия за поэтическим жанром сохраняется и в эллинистическую эпоху, когда для деловой прозы уже существует один общегреческий язык на основе аттического диалекта (κοινή). Новые, не имеющие традиции жанры, как, например, буколическая поэзия Феокрита, Биона и Мосха, вырабатывают особый смешанный язык, в котором можно найти на ряду с архаическими эолизмами, ионизмами и доризмами формы живой разговорной речи. Отдельные отступления от традиции встречались, однако, и до эллинизма: такова беотийская поэтесса Коринна, писавшая на своем родном, а не на лесбосском наречии.
Совершенно особый язык вырабатывает аттическая трагедия, зарождающаяся тогда, когда этос уже клонился к упадку, а лирика находилась в полном расцвете. Язык трагедии не мог быть создан без влияния языка этих жанров, даже в том случае, если фольклорное творчество первоначальных культовых праздников Диониса в Афинах и развивалось в рамках местного аттического говора. Синтетический характер трагической поэзии повлек за собой и разнохарактерный состав ее языка. Мы не знаем языка древнейших дифирамбов, из которых выросла трагадия, но можем предполагать, что изменение их характера во второй половине VI века до н. э., имевшее место при дворе коринфского тиранна Периандра и связанное с деятельностью Ариона Лесбосского, определило и особенности их языка, известные нам из позднейших трагедий. Когда дифирамб стал литературным произведением определенного поэта, он, как предназначавшийся для хорового исполнения, не мог не подпасть под влияние существовавшей для хоровой поэзии языковой традиции. В эпоху Стесихора и Ивика уже стало традицией писать на дорийском диалекте, а в Коринфе этот диалект был и местным живым языком. Дорийский мелос в лице Симонида Кеосского процветал и при дворе Писистратидов в Афинах, когда там развивалось творчество первых трагиков. Поэтому, хотя трагедии в Афинах (известные нам, начиная с Эсхила) пишутся на древнем аттическом наречии, вероятно соответствовавшем языку населения Афин конца VI века, в их хоровых частях мы находим большее количество доризмов. Однако не следует думать, что хоры написаны на том дорийском диалекте, на котором написаны, например, эпиникия Пиндара:[8] с лексической стороны их язык вовсе не дорийский (ср., например, лексические доризмы в языке спартанца и спартанки в "Лисистрате" Аристофана, ст. 81 сл. и 980 сл., или в языке мегарца в его же "Ахарнянах", ст. 750 сл.) Доризмы в хорах встречаются обычно лишь в определенных случаях (а вместо η в окончаниях и лишь в некоторых корнях, например φάμα вместо φήμη). Эпических форм больше всего в монологах вестников, что следует объяснять зависимостью повествовательных частей трагедии от эпоса. Комедия и мим писались на языке, гораздо более близком к разговорному. Это объясняется прежде всего тем, что комические представления возникли из неофициальной части дионисовых празднеств. Фольклорные корни в них всегда оставались более явными. В еще большей степени это относится к чисто народному представлению, каким был мим. Уже во второй половине VI века до н. э. создатель мима Эпихарм пользовался им для пропаганды своих философских взглядов. Это влекло за собой сугубую прозаичность языка, точность его выражений. В комедии же специфическая особенность этого стиля представления, имевшего своей основной задачей любыми средствами развеселить зрителя, - стиля, который обычно характеризуют современным словом "буффонада", - и большая роль пародии заставляли прибегать весьма часто к созданию искусственных слов и форм. Язык же хоровых партий оставался искусственным, как и в трагедии, но был все-таки ближе к живому языку. Доризмов в них меньше. Лишь упразднение хоров в новоаттической комедии III века до н. э. привело к полному единству языка этого рода произведений, а бытовые сюжеты, заступившие место сатиры, лишили новую комедию пародийного характера. У Аристофана же пародирование приводило к употреблению не только различных местных говоров, но даже и к использованию исковерканного греческого языка чужестранцами, действующими в его комедии (персами, скифами).
Греческая проза возникает в Ионии, где появляются сочинения первых логографов и первых философов, отказавшихся от изложения своих учений в поэтической форме. Язык ее - ионийский диалект, но уже сильно отошедший в своем развитии от диалекта IX-VIII веков, использованного ионийскими аэдами для создания искусственного эпического языка. Этот диалект до применения его в письменных произведениях безусловно применялся уже для целей художественного повествования в устном народном творчестве. Он был языком прозаической саги, жившей на ряду с эпосом, народной сказки и животного эпоса, из которого развилась басня Эзопа (см. главу I § 5). Устная традиция этих ионийских жанров живет еще в V веке до н. э. Первые греческие прозаики имели, следовательно, к своим услугам уже достаточно выработанное наречие. Параллельно ионийскому, но с некоторым отставанием от него во времени, развивалось и аттическое наречие; еще до применения его в литературных целях, что началось только в V веке до н. э. (псевдо-Ксенофонтова "Афинская полигия", Фукидид) аттическое наречие было языком суда и официальных документов, иногда довольно сложных по содержанию.
Есть все основания полагать, что языком первых ионийских прозаиков VI века до н. э. было наречие, общее всему "додекаполису" (т. е. побережью Малой Азии от Смирны до Милета), своего рода ионийская κοινή, в которой уже стерлись местные языковые отличия. Жанр и стиль этой прозы определялся термином ἱστορίη. За пределами этого понятия находились только философские сочинения, часто еще писавшиеся стихами (Ксенофан): история, география, этнография, медицина в него включались, и только в отдельных случаях исторические сочинения продолжали писаться стихами. Язык "исторической", в таком понимании, прозы, как язык жанра, не зависящий (так же как и в поэзии) от места рождения автора, оформился окончательно в произведениях Геродота и Гиппократа, уроженцев дорийских колоний; к их времени он, следовательно, уже вышел за пределы Ионии. Прозаическое литературное творчество перекинулось в V веке до н. э. из Малой Азии и в Афины, получившие после греко-персидских войн гегемонию над всей Грецией. Однако, несмотря на культурное воздействие Ионии, Афины сохранили и для исторической и для философской прозы свое аттическое наречие, выработанное в качестве делового языка: в 403/402 г. до н. э. они приняли только ионийский алфавит, но не язык. Аттические писатели до конца IV века до н. э. ревниво охраняли чистоту своего литературного языка, и в ораторской речи, возникшей как литературный жанр именно в Афинах, проза отличалась особенным пуризмом. На аттический язык переходит отчасти и медицина (Диокл), но на ряду с ним продолжает и в IV веке свое существование ионийская историческая проза (Ктесий), несмотря на то, что главную роль в историографии этого столетия играют ученики аттического оратора Исократа (Эфор и Феопомп), использующие в историческом изложении правила риторики. Аттическая гроза завоевывает и греческие колонии в Сицилии и южной Италии.
Македонское владычество, походы Александра и распространение греческой культуры в странах Востока вносят коренные изменения и в развитие языка. Весь греческий кир от Массилии до Еактрии впервые получает один общий язык "койнэ" (κοινή), образовавшийся на основе языка аттической прозы с проникновением в него некоторых особенностей других диалектов (главным образом, ионийского), с восприятием всего их лексического многообразия и с появлением ряда новообразований. Старые диалекты в III веке до н. э. исчезают, по крайней мере в городских центрах.[9] Надписи показывают нам этот постепенный переход от местных диалектов к койнэ.[10] В дальнейшем своем развитии этот язык переходит, начиная с VI века н. э., в язык, называемый обычно "среднегреческим", из которого в XV-XVI веках вырабатывается современный греческий язык (димотики́).
Однако эллинистическая койнэ не стала единственным языком всей греческой прозаической литературы на протяжении поздних периодов в истории античного мира. Ее исключительное господство продолжалось не более четырехсот лет. С конца I века н. э. начинаются попытки возродить аттическое наречие во всей его чистоте как литературный язык (см. ниже, т. II, раздел 6). Это течение оказывается очень живучим, и целый ряд "аттицистов" (правильнее "аттикистов") мы встречаем не только среди языческих, но и среди христианских писателей. Аттицизм процветает в византийский период (особенно в XI-XII веках) и вновь возрождается в XIX веке, после восстановления греческой независимости (1829). В конце XIX века в Греции начинается борьба демократических писателей (Паламес, Психарис) за права народного языка (γλῶσσα τοῦ λαοῦ) в литературе. Однако верх в этой борьбе одерживает искусственный литературный язык "кафаревуса" (καθαρεύουσα), основанный на языке древнегреческой аттической прозы, с признанием лишь небольшого количества новообразований и современного произношения звуков. С 1911 г. этот язык официально принят в качестве государственного языка и языка школы. Однако выдержать его чистоту греческим писателям и государственным деятелям не удается, и влияние живого языка сказывается за последние тридцать лет все сильнее и сильнее.
[1] Со. К. Meister, Die Homerische Kunstsprache. Лейпциг, 1921.
[2] По непонятным причинам его в начале XX века продолжал отстаивать Дреруп (Drerup, Homer. Die Anfänge der griechischen Kultur, 1908, стр. 108).
[3] Подробнее см. в главе VI, § 4.
[4] Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, 3–е изд., стр. 171.
[5] Ahrens, Kleine Schriften, стр. 174 сл. Например: ἄψειν вместо ἀψῖδα (Тр. и дни, 426), αἴνημι вместо αἰνέω (Тр. и дни, 683) и др.
[6] Главным образом, окончание -ᾰ вместо ᾱς (в винительном падеже множест. числа основ на -α).
[7] О языке Тиртея см. главу XIII, § 3.
[8] Это утверждение можно встретить иногда в историко–литературных работах.
[9] Диалекты новогреческого языка возникают вновь в средние века и восходят не к древнегреческим диалектам, а почти целиком к койнэ эллинистическо–римского периода, эволюция которой в некоторых областях сопровождалась развитием специфических местных особенностей, подобно развитию романских языков из местных особенностей вульгарной латыни. Лить в отдельных случаях в современных греческих говорах вскрываются пережитки древнегреческого диалекта данной территории. [Ср. работы Перно о цаконском наречии в Лаконии (1932) и о хиосских говорах (1907)]. Это показывает, что в глухих сельских местностях койнэ не вытеснила окончательно местного говора. О следах диалектов в эпоху империи см. A. Thumb, Die griechische Sprache im Zeitalter des Hellenismus. Страсбург, 1901, стр. 28.
[10] Общая характеристика образования койнэ будет дана в вводной главе к разделу „Эллинистический период“ (т. II).
Глава III НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ВОПРОС О ЛИТЕРАТУРНОМ НАСЛЕДИИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ ДО АФИНСКОЙ ГЕГЕМОНИИ
Изучение греческой литературы началось уже в самой древней Греции. На протяжении VI века до н. э. эпическая поэзия ионийских аэдов широко распространилась во всей Греции; окончательно сформировался троянский эпический цикл с его жемчужинами "Илиадой" и "Одиссеей", а эпоха греко-персидских войн (493-469), возродившая общегреческий патриотизм, своим острием направленный против Востока, придала тематике этого цикла общегреческое национальное значение. Аттическая литература V века до н. э. в лице триады великих трагических поэтов самым широким образом черпала свои сюжеты из троянского эпического цикла. Эсхил, например, называл свои трагедии "крохами от великих пиров Гомера",[1] подразумевая, очевидно, под этим всю сокровищницу национального героического эпоса.
В качестве источника для трагических сюжетов так называемые киклические поэмы играли значительно большую роль, чем "Илиада" и "Одиссея". Об этом совершенно определенно говорит Аристотелъ (Поэтика, гл. 23): "Из "Илиады" и "Одиссеи" можно составить одну трагедию из каждой или только две, из "Киприй" много, а из "Малой Илиады" больше восьми". На это бо́льшее значение киклических поэм в качестве источника трагедий Аристотель связывает как раз с их гораздо меньшей поэтической значимостью, - с тем, что в них "в непрерывной последов цельности времен иногда происходят одно за другим события, не имеющие общей цели" (Поэтика, гл. 23).[2] Поэтому образцами "классической" национальной поэзии стали только "Илиада" и "Одиссея". Задолго до зарождения в Греции литературоведческой науки в собственном смысле слова (что было делом александрийских ученых III века до н. э.) текст гомеровских поэм и проблема его сохранения в неиспорченном виде привлекали к себе внимание образованных греков и даже представителей власти в греческих полисах, в первую очередь - в Афинах.
О том, однако, что не одни Афины были озабочены этим вопросом, говорит одна из категорий списков Гомера, изготовленных в отдельных городах (διορθώσείς κατὰ πόλεις) И использованных александрийскими учеными. Правда, мы не имеем никаких данных о том, что этот наукообразный интерес к Гомеру в других греческих полисах возник так же рано: списки из разных городов, собранные в Александрии,[3] вполне могли возникнуть только в IV-III веках.
Исключение в этом отношении должна, однако, составлять Спарта, где во второй половине V века Гомер был не только исключительно популярен, но где он также уже являлся предметом внимания политической власти. Традиция связывала появление на континенте ионийского эпоса именно со Спартой и с именем полумифического законодателя Ликурга.[4] Несомненно, что эта легенда была создана в период борьбы Пелопоннесского союза с Афинами, в противовес афинской версии.[5]
Что касается додисистратовских Афин, то есть некоторые свидетельства (Диог.· Лаэрт. I, 2, 9), намекающие на принятие уже в архонтство Солона (594 г.) каких-то мер к упорядочению гомеровского текста. Обычно считают, однако, что эти мероприятия относились только к установлению порядка публичного исполнения рапсодий.
При каких именно обстоятельствах имело место это публичное исполнение в первой половине VI века, - нам неясно, так как, согласно традиции, исполнение поэм Гомера на празднике Великих Панафинея было установлено Писистратом.
Изучение Кречмером гомеровских имен в надписях на вазах и выводы, сделанные из него Группе,[6] установили, что никакой "вульгаты" гомеровского текста на континенте в VI веке до нашей эры еще не могло быть. Поэтому мероприятия солоновского времени могли носить только организационный, но никак не литературоведческий и текстологический характер.
Гораздо более темным и спорным является вопрос о работе над гомеровский текстом во время последней тираннии Писистрата (541-527). Еще в XVIII веке Вуд, а за ним Ф. - А. Вольф в своих знаменитых "Prolegomena ad Homerum" (1795) связывали объединение мелких песен в две большие поэмы именно с деятельностью "редакционной комиссии" из четырех человек, утвержденной Писистратом и возглавлявшейся Ономакритом. Вольф основывал свои соображения, главным образом, на свидетельстве Цицерона (Об ораторе. III, 137) о том, что "он [Писистрат] первый, как говорят, расположил песни [libri] Гомера, ранее спутанные, в том порядке, в каком они нам известны", и на свидетельстве Иоанна Цеца (в его предисловии к "Богатству" Аристофана).[7]
На протяжении XIX века ученые высказывались по вопросу о комиссии Ономакрита в самом разноречивом духе.
К. - О, Мюллер (1825), несмотря на близость своих взглядов на авторство Гомера к позднейшим унитариям (см. ниже главу VI, стр. 128), не только признавал существование такого рода редакторской работы в VI веке, но, основываясь на одном месте у Плутарха (Тезей, 20), считал даже, что тогда занимались и редактированием творений Гесиода, которые к концу VI века тоже стали общегреческим национальным произведением. Мнение К. - О. Мюллера получило затем дальнейшее развитие и обоснование у Лобека.
Такой крупный авторитет, как Фр. Ричль, решительно высказался в 1838 г. в том духе, что эта комиссия не создала гомеровских поэм впервые, как это думал Вольф, а только восстановила их утраченное единство. Во второй половине столетия суждения ученых резко меняются. Первый - Лерс (18S2), затем Нутцгорн, Мадвиг, Фольхманн, Виламовиц-Меллендорф, Флах и многие другие, вплоть до А. Лудвиха (в книге "Аристарховская критика Гомера", 1885), единодушно считают комиссию Ономакрита мифом. Однако прежнее мнение отнюдь не исчезает: его продолжают защищать в 1887 г. А. Фикк, в 1891 г. - русский ученый А. Н. Деревицкий, в 1895 г. - Кауар, точка зрения которого осталась неизменной и в третьем (посмертном) издании его "Grandfragen der Homerkritik" (1923).
Вопрос о так называемой "писистратовской редакции" Гомера должен решаться в связи с анализом самого эпосе, в частности в связи с изучением проникших в него аттицизмов. Нас сейчас эта проблема должна интересовать не специально в связи с гомеровским эпосом. Допустим, что в этом вопросе вся античная традиция, крайнее выражение которой представляет свидетельство Иосифа Флавия (Против Апиона, гл. 3) о том, что гомеровские поэмы были вообще впервые записаны при Писистрате, есть чистый вымысел. Остается несомненным одно: уже в конце VI века до н. э. греки стали интересоваться своей национальной литературой и принимать меры к ее сохранению. Мы не имеем никаких оснований заподозрить правильность имеющегося у нас ряда показаний, что именно при Писистрате появляются в Греции первые библиотеки.[8] О том же Ономакрите как собирателе древних литературных произведений (именно, пророчеств, приписывавшихся Мусею) упоминает и Геродот (VII, 6). Это место Геродота особенно важно для обоснования положения о том, что в конце VI века правильности текста уже придавалась большое значение. Геродот рассказывает, что Ономакрит был изгнан из Афин, будучи обвинен поэтом и первым музыкальным теоретиком Ласом Гермионским в подделке пророчеств Мусея. Ономакрит нашел приют в Фессалии у Алевадов. Август Фикк привел убедительные аргументы в пользу того, что другое лицо, называемое членом комиссии Ономакрита - именно Керкоп Милетский, работал над редактированием произведений Гесиода.
Наконец, схолии к "Илиаде" и писатель II века н. э. Татиан (Против греков, XXI, р. 31, 16 Шварц) упоминают о некоем Феагене, уроженце южноиталийской колонии Регия, жившем также в последней четверти VI века. Феагена обычно считают "первым грамматиком".[9] В схолиях к "Илиаде" (Schol. А XXI, 67) прямо говорится, что Феаген был первым, кто писал о Гомере (ὄς πρῶτος ἔγραψε περί Ὁμήρον). Некоторые думают, что именно он явился основателем "аллегорического" направления в толковании гомеровского эпоса, направления, расцвет которого падает уже на следующее столетие. Это направление теперь обычно связывают с пифагорейством.[10] Писистратиды, Алевады, а также Поликрат Самосский (ср. Афиней, I, р. 3) были, таким образом, до некоторой степени прообразами будущих египетских Птолемеев в роли покровителей не только литературы и искусства, но и литературоведческих изысканий.
Они, так же как потом Птолемей, исходили в этом своем покровительстве из определенных политических целей, но экономическая база их власти была значительно уже, чем у царей эллинистического Египта. Соответственно этому и деятельность окружавших их если не ученых, владеющих методом критического анализа, то во всяком случае начетчиков и собирателей отличалась гораздо более скромными масштабами.
[1] Афиней VIII, 39, 347 е (τὰς αὑτοῦ τραγφδίας τεμάχη εἴναι ἔλεγεν τῶν Όμήρου μεγάλων δείπνων).
[2] Οὔτω καί ἐν τοῖς ἐφεξῆς χρόνοις ἐνίοτε·νίνεται θάτερον μετὰ θάτερον, έξ ὤν ἔν ούδὲν γίνεται τέλος.
[3] Схолии к „Одиссее“ (XIV, 280 и 698) называют списки хиосский, аргосский, Кипрский, критский и эолийский. Евстафий (К „Илиаде“, р. 6) добавляет массалийский и санопский. Это показывает, что наибольший интерес к Гомеру проявляла неконтииентальная Греция.
[4] См. ниже, главу VI, § 1.
[5] Виламовиц–Меллендорф (Homerische Untersuchungen, стр. 268 сл.) связывает возникновение этой легенды с Диэвхидом Мегарским.
[6] P. Kretschmer, Die griechischen Vaseninschriften ihrer Sprache nach untersucht, 1894; O. Gruppe, Griechische Mythologie und Religionswissenschaft, 1909, т. I, стр. 609 сл.
[7] О деятельности Писистрата по упорядочению гомеровского текста упоминают также Павсаний (VII, 6), писатель II века н. э. Элиан (Пестр, ист. ХШ, 14), оратор IV века н. э. Либаний, римский поэт Авсоний, Свида и византийский схолиаст Евстафий Фессалоникский (XII век). Однако Элиан в другом месте (VIII, 2) связывает даже первое появление гомеровских поэм в Афинах с деятельностью сына Писистрата — Гиппарха.
[8] Афиней I, р. 3; Авл Геллий VI, 17; Тертуллиан, Апологетика, 18.
[9] Ср., например, схолии к Дион. Фрак. 164, 3. (См. ниже § 3, стр. 49 о Праксифане).
[10] Ср. Lobeck, Aglaophamus, т. I, стр. 155 сл.; Schmidt Stählin, I, стр. 745; Die1s, Fragmente der Vorsokratiker, 3–е изд., т. II, стр. 510 сл.
2. ИНТЕРЕС К ИЗУЧЕНИЮ ЛИТЕРАТУРЫ В АФИНСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
С установлением в Греции гегемонии афинской демократии собирательская и зачаточно-критическая деятельность не остановилась, но продолжала развиваться и углубляться, о чем у нас есть ряд свидетельств. В центре внимания оставались по прежнему поэмы Гомера. Аристотель (Метафизика XII, р. 450) говорит в общей форме о "древнейших гомеристах" (οί άρχαίοι Ὀμηρικοί) именно этого периода, причисляя к ним, очевидно, и более раннего Феагена. К этим гомеристам V века надо отнести, по видимому и многих известных философов: Анаксагора, Гераклита, Пифагора, Демокрита, а также "младших логографов" - Гелланика, Ферекида Леросского и др. Только по имени известен нам Автодор из Кум, занимавшийся также изучением Гесиода.[1]
Из трудов всех этих писателей, по видимому, наибольший интерес представляли труды Демокрита, отношение которого к Гомеру, в противоположность Ксснофану Колофонскому, было самым восторженным (ср. Дион. Хрисостом, речь 53). Помимо специального сочинения о Гомере, ему приписывается целый ряд трактатов, заглавия которых заставляют предположить, что интересы Демокрита лежали преимущественно в области языка, но возможно, что именно Демокрит был первым теоретиком литературы в древней Греции. На это указывает заглавие его сочинения "О красоте слов".[2] Культурный подъем Афин в так называемое "пятидесятилетие" между греко-персидскими войнами и Пелопоннесской войной способствовал не только расцвету самой художественной литературы, но и дальнейшему усилению интереса к литературе Прошлого. Импорт папируса вызывает развитие книжной торговли (Поллукс IX, 47) и библиофильство. Ввозятся в Афины и книги из других греческих государств. Эмендация текста старых поэтов, и в первую очередь того же Гомера, становится модой. Этим, по свидетельству Афинея, занимается Эврипид, бывший, между прочим, владельцем первой крупной частной библиотеки. Ксенофонт в "Воспоминаниях о Сократе" (IV, 2, 1, 8) рассказывает о библиофиле Эвтидеме. Упоминаются и другие крупные библиофилы: Никекрат Кипрский, Клеарх, тиранн понтийский, и др. Собирателями книг были также Платон, Эвклид (архонт 403/402 г.) и, наконец, Аристотель. Все это, конечно, не могло но содействовать развитию изучения литературы.
Это изучение литературного прошлого безусловно стимулировалось тем, что литературные интересы проникли в это время в самые широкие слои афинского демоса. Что это было так, показывает нам большое количество комедий, посвященных литературной злободневности. По заглавиям таких комедий в конце V и в первой половине IV века нам известно двенадцать,[3] но дошли до нас только "Лягушки" Аристофана, в которых выведены Эсхил и Эврипид. Поставленная вместе с "Лягушками" комедия Фриниха "Музы" была посвящена также вопросу о литературных вкусах и литературной полемике.
Изучение литературы связывается прежде всего с деятельностью софистов-Протагора, Горгия, Продика и Гиппия. Однако не дошедший до нас трактат Протагора "О правильной речи" (Περί ὀρθοεπείας), повторяющий подзаголовок сочинения Демокрита о Гомере, содержал, по видимому, только вопросы грамматики [4] и риторики.[5] Аристотель (Поэтика, гл. 19) даже приводит пример постановки вопроса Протагором и замечает по этому поводу, что "следует оставить этот вопрос, как относящийся не к поэтике, а к другой науке". Платон же (Протагор, 339 с) дает указания на то, что Протагор занимался также истолкованием авторов (τὰ ύπὸ τῶν ποιητῶν λεγόμενα). Платон дает нам здесь довольно ясное представление о том, какой характер имело вообще толкование софистами Гомера, но наши источники о деятельности Протагора слишком недостаточны, чтобы судить о его конкретной роли в развитии изучения литературы. Несомненно, однако, что эта роль была значительна в силу тон популярности, какою пользовался Протагор в Афинах.
Еще меньше мы можем сказать о деятельности Горгия из Леонтин и Продика. Есть указания, что первый написал жизнеописание Гомера,[6] второй в своем трактате о синонимах интересовался, по видимому, текстом авторов только как материалом для иллюстрации своих теоретических положений.
Преимущественно теорией литературы занимался н Гиппий Элидский, как на это указывает Платон (Гиппий Большой 285d; Гиппий Малый 368d): он писал не только о буквах и слогах, но и о ладах и гармониях. Возможно, что именно его учение высмеивает Аристофан в "Облаках" (ст. 638, 656, 851, 1251), приписывая его, как многие другие софистические теории, Сократу. Но у Платона же (Гиппий Малый 363с) находим свидетельство, что Гиппий писал о Гомере и. других поэтах. Это свидетельство повторяется у Цицерона (Об ораторе III, 32, 217), в 6-й биографии Гомера и у Климента Александрийского (Stromata, VI, 2). Наконец, еще один источник (ύπόθεαις к "Эдипу царю" Софокла) говорит, что Гиппий считал Гомера современником Архилоха. Сопоставляя всю совокупность разрозненных данных о Гиппии, находимых в различных источниках (в том числе и в схолиях), немецкий ученый Фридель[7] приходит к выводу, что Гиппий, во-первых, весьма часто брал поэзию Гомера в качестве предмета своих публичных выступлений, а во-вторых, что именно Гиппий в-ддвинул ряд положений, касающихся личности Гомера, которые зател вошли в обращение и стали объектом споров среди античных ученых. Так, он считал Гомера уроженцем города Кимы, живший позже, чем Орфей, Мусея и Гесиод. "Илиаду" он ставил во всех отношениях выше "Одиссеи". Гиппию принадлежало также сочинение об олимпийских состязаниях (Ὀλυμπιονικῶν ὰναγραφή).
Вне круга софистов в V веке нужно отметить Стесимброта Фасосского, современника Кимона и Перикла. Это - первой писатель на литературные темы, о котором мы имеем более определенные сведения. Стесимброт учил в Афинах, куда наверно переселился после завоевания Кимоном острова Фасоса. Главным предметом его занятий в преподавании было толкование Гомера. Среди его учеников был знаменитый впоследствии поэт Антимах Колофонский.[8] По свидетельству древних, он следовал аллегорическому методу Феагена Регийского,[9] хотя сохранившиеся фрагменты не дагог основания судить об этом. Платон упоминает о нем, как о рапсоде, в диалоге "Ион" (550d) вместе с другим известным рапсодом Метродором Лампсакским: очевидно, в начале IV века это были самые известные люди, занимавшиеся Гомером. Стесимброт писал и другие сочинения: в их числе-"О Фемистокле, Фукидиде и Перикле".[10] и "О посвящениях" (Περί τελετῶν); последнее было бы очень важно для изучения мистических культов.
По свидетельству Свиды и Евстафия, исправлением текста Гомера занимался и Эврипид, но это показание многими оспаривается. Аристотель (Поэтика, гл. 25) упоминает еще о некоем Гиппии Фасосском, который занимался расстановкой надстрочных знаков в тексте Гомера.[11] В это же время в недрах логографии зарождается новый вид ее - чисто биографическое и хронологическое изложение истории греческой письменности. Подобно тому как раньше логографы писали о героях (Гекатей) или о жрицах Геры Аргосской (Гелланик), пытаясь установить хронологическую последовательность поколений и жизни отдельных людей, - так теперь начинают писать сперва о поэтах, а затем и о прозаических авторах недавнего времени. Образцами такой литературы были сочинения уроженца Регия Главка, или Главкона (Ἀναγραφή ῦτὲρ τῶν ἀρχαίων ποιητῶν)[12] и ученика Гелланика, Дамаста Сигейского (Περὶ ποιητῶν καὶ σοφιστῶν). Дамаст, по свидетельству Дионисия Галикарнасского, широко использовал материалы других логографов.[13] Сочинения эти до нас не дошли, но они несомненно были широко использованы позднейшими грамматиками и лексикографами.
Много материала для истории поэзии содержали также трактаты по истории музыки (главным образом, Праксидаманта) и по истории празднеств и мусических состязаний, из которых первое, посвященное карнейским состязаниям в Спарте, было написано логографом Геллаником Лесбосским (Καρνεονῖκαι).[14] Ферекид Леросский писал о дионисийских состязаниях. Известны и другие писатели этого рода.
К середине IV века до н. э. объектом изучения, на ряду с Гомером, становится и триада великих трагических поэтов - Эсхила, Софокла и Эврипида, текст которых в актерских экземплярах к этому времени уже - нередко искажался. Поэтому около 368 г. оратор Ликург провел закон об изготовлении "государственного экземпляра" текста этих трех авторов. Этот экземпляр должны были хранить в государственном архиве (ὲν κοινῶ γραψαμένους φυλάττειν). Несомненно, что изготовление такого выверенного экземпляра было связано с тщательным изучением текста. О "сличении" (παρανγώσκειν) говорит и основной источник наших сведений Псевдо-Плутарх (Vita, X, p. 841e).
На ряду с филологической критикой продолжала развиваться и эстетическая, первыми представителями которой были те же. софисты V века. Софисту младшего поколения Критию приписывался стихотворный (написанный гексаметром) трактат о поэтах, отрывки которого сохранены нам Афинеем (XIII, p. 600e), и Элиана (Пестр, ист. X, 13). Уже было упомянуто, что в диалоге Платона "Протагор" (339 с) собеседники анализируют стихотворение Семонида. Традицию софистов продолжал и сам Платон в "Ионе", где Сократ (в самом конце диалога, 542) проводит грань между "ученым толкованием" Гомера и субъективным эстетическим, которое дает, не будучи ученым, Ион. Сократ говорит Иону:
"... Вот я и говорю: если ты обманываешь меня, не сдержав обещания показать свою ученость относительно Гомера, то ты несправедлив; если же, как я сказал о тебе, ты не учен, а ничего не зная из Гомера, по божественному указанию, будучи одержимым, говоришь об этом поэте много прекрасного, то ты ни в чем не поступаешь несправедливо... ты - божественный, а не ученый хвалитель Гомера".[15] Много мест, касающихся эстетической критики литературных произведении, мы можем найти и в "Государстве".[16]
Образы всех прочих деятелей IV века в области изучения литературного прошлого бледнеют при сопоставлении с образом величайшего ученого античного мира - Аристотеля, взгляды которого в области поэзии будут систематически изложены в своем месте (см. ниже, т. II, глава XXXIV). Значение его "Поэтики" и "Риторики" для последующего развития литературы настолько велико, что останавливаться на нем вскользь нет никакого смысла. Нужно отметить, что, кроме названных двух произведений, Аристотелю принадлежал сборник так называемых "дидаскалий", от которых до нас дошли только небольшие отрывки.[17] Эти дидаскалии,[18] которые первоначально являлись эпиграфическими памятниками, хранившимися в театре, были впервые собраны Аристотелем и послужили основанием для его трактата о драме, каким является дошедшая до нас часть его "Поэтики". После Аристотеля систематизацией и литературной обработкой дидаскалий занимался его ученик Дикеарх, написавший сочинение "О мусических состязаниях" (Περὶ μουσικών ἀγώνων), а затем в эллинистическую эпоху Каллимах и ряд грамматиков (Аристофан Византийский, Аристарх и др.).
Аристотелю принадлежали также и другие не дошедшие до нас сочинения, посвященные изучению литературы, так называемые "Спорные поэтические вопросы" (Ἀποροήματα ποιητικά), У нас есть сведения, что они были посвящены творчеству Гесиода, Архилоха, Эврипида, Херила, а может быть, и других поэтов.
Наконец, Аристотелю приписывается новая рецензия текста Гомера. Предание говорит, что Александр возил эту рукопись с собою в походы в "ларчике".[19] Гомеровские схолии около 30 раз ссылаются на это "нарфековое" издание, но другим авторам (например, Евстафию)[20] оно остается неизвестным, и потому подлинность предания некоторыми учеными оспаривается.
[1] Ср. Anecdota Graeca e codicibus Oxoniensibus, изд. Каамера, т. IV, стр. 310.
[2] Ср. Mullach, Fragm. Democriti, стр. 147 сл.
[3] Таковы „Поэт“ Платона–комика, „Поэты“ и „Любитель трагедии“ Алексида, „Поэзия“ Антифана, „Поклонник Эврипида“ Фллиппида и др. Кроме двенадцати комедий, известных по заглавиям, есть указания, что в такой же духе сочиняли комедии Амфид, (ср. Meineke, F. С. G., т. II, стр. 301 сл.), Аксионик, Никострат, Телеклид и др.
[4] Аристотель, Риторика, 5, 1407b.
[5] Квинтилиан, III, 4.
[6] Ср. Müller, FHG, II, p. 66.
[7] Friedel, De sophistarum studiis Homericis, стр. 160.
[8] Ср. Die1s, 2–е изд., т. II, ч. 1, стр. 54.
[9] Свида (ср. под словом „Антимах“).
[10] Müller, FHG, т. II, стр. 52—58; F. Jakoby, Die Fragm. der griech. Hist., т. II, № 107.
[11] См. схолии к „Илиаде“ I, 1.
[12] Ύπόθισις к „Персам“ Эсхила упоминает также специальный трактат Главка об Эсхиле
[13] Ср. Müller, FHG, стр. 66, 69.
[14] Ср. схолии к „Птицам“ Аристофана, 1403; Афиней XIV, р. 635 е.
[15] Перев. Я. М. Боровского (Полн. собр. творений Платона, изд. „Academia“ т. IX, стр. 93—94). Если „Ион“ на самом деле и не принадлежит Платону, как это полагали многие исследователи, в данном случае это не имеет значения, так как сейчас нам важно лишь проследить развитие идей и учений в Афинах V IV веков.
[16] Подробное изложение эстетического учения Платона см. во втором томе настоящего издания.
[17] См. издание сочинений Аристотеля Прусской академией наук, т. V, № 575— 587.
[18] Дидаскалий содержали сведения о времени и месте представления трагедий и комедий, имена состязавшихся авторов, имена хорегов и актеров и сведения о наградах.
[19] „Ларчиком“ служил футляр из тростникового растения „нарфек“ (νάρθηξ. Плутарх, Александр, гл. 8.
[20] Ср. также Плиний, Ест. ист. VII, 29.
3. ОЦЕНКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПОСЛЕ АРИСТОТЕЛЯ
Аристотель имел огромное влияние на дальнейшее развитие греческой науки вообще, а в частности - и на дальнейшие пути изучения литературы. Это научение во второй половине IV и в начале III века до н. э. сосредоточивается почти исключительно в руках его непосредственных учеников и их последователей - так называемой "перипатетической школы". Философы других направлений, возникающих в это время, целиком погружаются в вопросы этики (киническая школа, стоики), физики или учения о мироздании (Эпикур) и диалектики в античном понимании этого слова (скептики и так называемая "Средняя Академия" в лице Аркесилая). Стоическая школа на первых порах (Зенон, Хрисипп) не занимается ни поэзией, ни мифологией, ни другими искусствами, ни даже риторикой; эти вопросы входят в круг ее интересов значительно позже.[1] Только у перипатетиков поодолжаются традиции филологической и эстетической критики, зародившейся в конце V века, и собирания литературного материала. Продолжают разрабатываться и смежные области: "геортология" или учение о праздниках, "агонистика" (учение о состязаниях в "мусических" искусствах), музыка. Много трудов учеников Аристотеля ходило в древности под именем самого учителя.[2] Крупнейшими же фигурами среди перипатетиков, оставившими собственные сочинения по интересующим нас вопросам, были соученик Аристотеля по школе Платона и впоследствии его ученик Гераклид Понтийский, его сверстник Хамелеонт, знаменитый Феофраст, уже упомянутый выше Дикеарх, затем Деметрий Фалерский, бывший также крупным оратором и государственным деятелем, и, наконец, Праксифан, которого нужно считать связующим звеном между перипатетиками и александрийской а пергамской школами, так как он был учителем Каллимаха и Арата.
Афины, потеряв с окончательным подчинением их македонскому владычеству в лице Антипатра (322 г. до в. э.) свое политическое значение, продолжают оставаться центром эллинской мысли и литературного творчества, примерно до середины III века до н. э. Но и затем, уступив первенство в этом отношении птолемеевской Александрии, они сохраняют за собою до конца античного мира второе место. Здесь и развертывается плодотворнейшая деятельность перипатетической школы, без которой не была бы возможна и та александрийская ученость, которая передала все наследие классической Греции сперва Риму и Византии, а затем через них и народам новой Европы. Ничтожность дошедшего до нас подлинного наследия перипатетиков ни в какой мере не должна служить основанием к недооценке его в развитии греческой мысли. Это был решающий этап и в развитии изучения греческой литературы самими греками, так как он создал почти все то, что мы знаем о греческой литература VII-IV веков до н. э. через александрийских, римских и византийских ученых и схолиастов. В отличие же от последующих периодов, когда многие деятели литературы ограничивались компиляциями, ученые конца IV и начала III века подводили первый итог идейному развитию древней Греции путем творческого и критического обобщения, а не механической регистрации.
В общем обзоре приходится ограничиваться лишь самыми крупными явлениями.
Гераклид Понтийский (из Синопы), которого Цицерон (Тускул. бес. 5, 3) называл "ученейшим прежде всего" (vir doctus in primis), написал в число прочих сочинений целый ряд литературоведческих работ, посвященных отдельным писателям (в том числе Эврипиду). Он положил основание методу сравнительных характеристик в трактатах "О Гомере и Архилохе" и "О возрасте (ἡλικία) Гомера и Гесиода", признавая во втором сочинении бесспорное старшинство Гомера.[3] Гераклид занимался также критикой текста и аллегорическим толкованием [4] и объяснением Гераклита Эфесского и Демокрита.
Еще большее, может быть, значение имели труды Хамелеонта из Гераклеи, по преданию, обвинявшего Гераклида Понтийского в плагиате из его сочинения "О Гомере" и "О Гесиоде".[5] Первый из этих трудов был очень обширен, так как одна только часть, посвященная "Илиаде", состояла не менее чем из пяти книг. Не менее чем в шести книгах было фундаментальное сочинение "О древней комедии", на ряду с которым Хамелеонт написал и "О драме сатиров" (Περί σατύρων). Восемь монографий (συγγράμματα) было посвящено отдельным поэтам: Стесихору, Сапфо, Анакреонту, Ласу Гермионскому, Симониду, Пиндару, Феспиду и Эсхилу. Они упоминаются в разных местах у Афинея, но возможно, что их было гораздо больше. Характер этих монографии для нас не вполне ясен, но они безусловно включали в себя биографию поэта (Βioς). Почти наверное можно сказать, что эти биография Хамелеонта являются первоисточниками большинства наших сведений о жизни греческих поэтов.
Феофраст из Эреса (372-287), создавший себе мировую славу своими "Характерами" и считающийся основателем психологии, писал также об Эсхиле и о комедии. Предполагают, что все его труды, посвященныг литературе, были объединены в один трактат под названием " Поэтика" (Περί ποιητικῆς). Его определения отдельных поэтических жанров сохранены грамматиками.
Дикеарх из Мессены, получивший у римских писателей (Варрон, Цицерон, Плиний), как и Гераклид, эпитет "ученейшего". Расцвет его деятельности относится к последнему десятилетию IV века до н. э. Он был в качестве историка автором важнейшего сочинения "Жизнь Греции" (Βίος Ἑλλάδος), в котором содержалось немало историко-литературного материала; в него наверное входила и история мусических состязаний.[6] Он составил также "Жизнеописания философов", к которым, помимо Пифагора, Ксенофана, Платона и др., у него отнесены такие и семь полулегендарных греческих мудрецов. Одна из его монографий была посвящена Алкею, а сочинение "О Гомере" явилось, как можно думать, первоисточником для вопроса о комиссии Писистрата, находимого у более поздних авторов (см. выше, стр. 43), Выше уже говорилось и о его сборнике дидасхалиев, которым он продолжил работу своего учителя. Кроме этого, ему принадлежали очень важные "Объяснения сюжетов у Софокла и Эврипида" (Ὑποθέσεις τῶν Βὐριπίδου καὶ Σοφοκλέονς μύθων). Предполагают, что именно здесь были введены добавления в заглавия для различения одноименных трагедий (например "Эдип царь" и "Эдип в Колоне", "Ифлгения в Авлиде" и "Ифигения в Тавриде" и т. п,).
Лишь в нескольких словах приходится упомянуть о Деметрии Фалерском (около 350-280), список трудов которого приводится Диогеном Лаэртскнм (V, 80). Литературой он стал, по видимому, заниматься лишь тогда, когда, оставив политическую деятельность, переселился (после 297 г.) из Афин в Александрию, ко двору Птолемея I. Предание говорит, что именно он подал Птолемею мысль об основании "Музея" и библиотеки при нем. Главные его труды относятся к области истории Афин и их государственного устройства, затем следует его "Ритмика", положившая основание теории так называемого "азианского красноречия".[7] Но и в нашей области он оставил два специальных труда об "Илиаде" и об "Одиссее", а также сочинение о комике Антифане. Он составил также сборники Эзоповых басен и изречений "семи мудрецов". О нем самом была написана книга каким-то Асклепиадом Арейским, упоминаемым у Афинея (XIII, 567d).
Последним из старшего поколения перипатетиков надо считать Праксифана Родосского, ученика и друга Феофраста и, как уже было указано, учителя первых александрийцев. Его собственные произведения были посвящены как филологической критике (Гесиода, Софокла, Платона), так и вопросам эстетики и теории литературы. Эти последние были темою двух диалогов Праксифана; "О поэтах",[8] где беседуют Платон и Исократ, и "О поэзии и истории". Действие второго диалога происходит в Пелле в конце IV века, при дворе македонского царя Архелая, у которого жил последние годы своей жизни Эврипид. В качестве собеседников Эврипида были выведены трагик Агафон, комик Платон, эпический поэт Никекрат, лирик Меланиппид и, наконец, противостоящий им всем Фукидид. Нет никакого сомнения в том, что развитые в этих диалогах взгляды оказали сильнейшее влияние на формирование поэтической доктрины александрийской школы, слившей воедино поэзию и науку.
Климент Александрийский (Stromata, I, 16, 79, 3) называет ,,первым грамматиком (в античном смысле слова) именно Праксифана. Безусловно, этот титул подходит к нему гораздо больше, чем к Феагену Регийскому - писателю конца VI века до н. э. (ср. выше, стр. 46). "Грамматик" - первостепенная и характернейшая фигура эллинистической науки и литературы, грань между которыми после III века до н. э. нередко стирается. Для круга идей и мировоззрения просвещенного афинянина V века такое слияние еще чуждо и непривычно. Там философы писали стихами или тогда, когда проза еще не была развита (Ксенофан, Эмпедокл), или же позднее, для заполнения досуга версификаторскими развлечениями. Платон, как полагают, был поэтом, еще не став философом. У учеников Праксифана, Каллимаха и Арата, слияние науки и поэзии (дидактика) становится органичным. Александрийская школа начинает с того места, где кончилась теоретико-литературная мысль перипатетиков. В теоретическом отношении придворные поэты-дидактики дальше и не пошли, но широкое применение этого положения в литературной практике сообщило новый характер всей литературе эллинизма. Такой же новый характер получило в эллинизме и отношение к литературному наследию и его изучению. При этом качество оценки литературного наследия в основном не изменялось до эпохи Возрождения, а характер изучения остался почти таким же и иного позже - вплоть до зарождения подлинного исторического изучения античной литературы. Но это последнее имело место только в начале XIX века.
Из перипатетиков младшего поколения нужно отметить только Антигона Каристийского и афинянина Филохора [9] (оба жили в середине III века). Антигон Каристийский занимался биографиями философов (явившись главным источником Диогена Лаартского) и художников. У него были, кроме того, труды по агонистике и в области изучения трагедии, а также сочинение об Алкмане.
К этой же эпохе относится составление так называемой "Паросской хроники" (Marmor Parium). Она была открыта в неполном виде в 1627 г. на острове Паросе и перевезена в Англию. Недавно найдены новые ее фрагменты. Хроника эта представляет собою эпиграфический памятник, излагающий события от легендарных времен основателя Афинского акрополя Кекропа, при котором Афина и Посейдон спорили за обладание Аттикой, до архонтства Диогнета (264/263 г. до н. э.). На ряду с политическими событиями этот памятник приводит даты из жизни поэтов и сведения о мусических состязаниях.
[1] Ср. в I веке н. э. трактат Корнута „О природе богов“.
[2] Об этих „Pseudoaristotelica“, в числе которых, правда, нет ничего замечательного, относящегося к литературе, см. F. Susemihl, Geschichte der griechischen Literatur in der Alexandrinerzeit, т. I, стр. 155—167. Лейпциг, 1891.
[3] Ложность сохраненного Диогеном Лаэртским (V, 92) известия, будто бы Гераклид подделал трагедии Феспида, доказана в 1696 г. Бентли в его диссертация о письмах Фаларида (гл. XI, стр. 254—324 англ. издания).
[4] Ср. Цицерон, О природе богов I, 13.
[5] Это находит себе подтверждение в том, что одна и та же цитата приводится у Афинея (XII, р. 533) как принадлежащая Хамелеонту, а у Плутарха (Перикл, 27) — как гераклидовская.
[6] Последняя часто цитируется под отдельными заглавиями: Περί μονσικῶν ἀγώνων и Περί Διονυσιακῶν ἀγώνων.
[7] Ср. Цицерон, Оратор, гл. 92. Принадлежность Демегрию Фалерскому другого риторического трактата Περὶ ἑρμενείας теперь отрицается; его приписывают александрийскому софисту Деметрию, жившему много позже.
[8] Некоторые источники дают диалогу заглавие „О поэтических произведениях“— Περὶ ποιημάτων (например, отрывок из Филодема, найденный в Геркулане).
[9] О Филохоре как историке–аттидографе см. т. II.
4. ОТ АЛЕКСАНДРИЙСКИХ И ПЕРГАМСКИХ УЧЕНЫХ К. ЕВРОПЕЙСКИМ ГУМАНИСТАМ
Из всех эллинистических и пергамских государств наибольшего процветания достигло царство Птолемеев в Египте, начиная с Птолемея I Сотера (320 -285), при котором началась ученая деятельность первого библиотекаря Александрийской библиотеки Зенодота и деятельность косского литературного кружка (см. ниже, т. II, раздел VII), -и кончая Птолемеем VI Филометором (181-146). при котором во главе Александрийской библиотеки и научной школы стоял самый знаменитый из "грамматиков" Аристарх Самофракийский. Между Зенодотом и Аристархом стоят фигуры блестящих ученых - Каллимаха, Аполлония Родосского, Эратосфена, Аристофана Византийского. Некоторые из них были также и поэтами. Менее крупными фигурами этого периода являются Гермипп Смирнский, Деметрий из Скепсиса и др.
Известный упадок эллинистического Египта со второй половины II века до н. э. не вызвал сильного ослабления этой научно-литературной деятельности. После Аристарха действуют Аполлодор Афинский, Аммоний, Дионисий Фракийский и др. На ряду с александрийской школой возникает аналогичная деятельность ученых при дворе пергамских Атталидов. Связующим звеном между александрийской и пергамской школой был Аполлодор Афинский. Таковы ученые и поэты Арат, Эвфорион Халкидский. Кратет Малосский. Последний переносит науку, созданную в эллинистических государствах, в Рим.
Подробный обзор александрийской и пергамской филологии будет дан во втором томе, в особой, посвященной этому вопросу главе, вследствие чего здесь можно не останавливаться ни на содержании александрийской доктрины, ни на деятельности отдельных грамматиков. Эта доктрина усваивается Римом, и в момент падения Западной империи (V век н. а.) она там находится уже в состоянии большого упадка (ср. "Свадьбу Филологии и Меркурия" Марциана Капелы); в Византии, напротив, подобного упадка не замечается (к VI веку относится деятельность такого энциклопедиста, как Гесихий).
На Западе греческий язык уже в VI веке совершенно забывается. В Византии даже в эпоху культурного упадка VII-X веков классическая греческая литература не совсем исчезает из школьного преподавания. Однако несомненно, что многое было утеряно именно в VII-VIII веках.[1] Это ясно сознают наиболее просвещенные люди периода Македонской династии (867-1056), и именно в это время вновь начинается усиленное собирание материала. В IX веке наибольшее значение имеет деятельность константинопольского патриарха Фотия, составившего в 50-х годах свою "Библиотеку" - перечень 280 сочинений с аннотациями и иногда довольно большими выдержками из самых сочинений. У Фотия были в руках еще такие авторы, как, например, историки Ктесий, Феопомп, Эфор, от которых до нас дошли только фрагменты. В первой половине X века по поручению императора Константина Багрянородного делаются обширные извлечения из древних историков, классифицируемые по темам в соответствии с интересами византийского двора. На рубеже X и XI веков составляется огромный "Лексикон" Свиды, использовавший множество источников, теперь нам не известных (более ранние глоссарии, схолии и комментарии, тексты историков, философов и т. д.). Если бы у нас не было Свиды, наше представление о развитии древнегреческой литературы было бы еще менее полно, чем сейчас.·[2]
В XI веке начинается так называемый "византийский Ренессанс" (см. т. III). В богатой литературе этого времени возрождаются с особой силой классические традиции в языке, писатели стремятся к возрождению аттицизма. В XII веке Евстафий, епископ Фессалоникский, и Иоанн Цец усердно занимаются комментированием Гомера. Евстафий комментирует также Пиндара, Цец - Гесиода и Ликофрона. Цец пишет сам компилятивные поэмы, стилизуя древний эпический язык. В конце XII и в начале XIV века Максим Плануд составляет свою "Антологию", переводит с латинского языка Катона, Цицерона, Цезаря, Овидия и других латинских авторов. Деятельность Плануда по собиранию античного литературного наследия во многом предвосхищает деятельность итальянских ученых конца XV и начала XVI века. Для него уже ясно понимание культурного единства античного мира: греческие и римские авторы представляются для него почти одинаково интересными. Но эллинство у него и у его продолжателей до падения Византийской империи остается на первом месте: у итальянцев оно уступит свое первое место, и европейское "возрождение" будет проходить целиком под знаком латинской культуры.
Ученик Плануда Мануил Мосхопул (Μοσχοποῦλος) составил на основе Дионисия Фракийского греческую учебную грамматику Ἐρωτήματα γραμματικά. Ее привезли с собою в Италию греческие ученые, бежавшие туда от турок. Она послужила образцом для составления грамматик Хрисолоры и Димитрия Халкондилы, по которым Западная Европа вновь начала учиться греческому языку. Мосхопул составлял также комментарии к первым двум песням "Илиады", к "Войне мышей и лягушек", к Пиндару, Эврипиду, Феокриту и другим авторам. Его старший современник Фома Магистр составил на основании Свиды и других лексикографов компилятивную энциклопедию аттицизма (Ἐκλογή ὀνομάτων καὶ ῥημάτων Ἀττικῶν, издана Ричлем в 1832 г.) и комментировал трагиков и Аристофана.
Еще большее значение имеет деятельность третьего филолога начала XIV столетия, Димитрия Триклиния, которого Виламовиц-Меллендорф называет "первым текстологом в нашем смысле слова" ("der erste moderne Textkritiker").[3] В противоположность более ранним схолиастам он не следовал слепо традициям, но самостоятельно изучал текст Гесиода, Эсхила,[4] Софокла, Эврипида и Пиндара. О метрике Софокла и Пиндара он составил по два специальных трактата. Продолжателями трех великих византийских филологов начала XIV века были Каллиэрг, Марулл и другие, которые и передали древнегреческое литературное наследство новой Европе.
[1] Ср. Krumbacher. Die Geschichte der byzantinischen Literatur. 2–е изд., 1897, стр. 507 сл.
[2] О Фотии и Свиде см. ниже, т. II.
[3] Ср. Wilamowitz Moellendorf, Einleitung in die griechische Tragödie, стр. 194—196.
[4] Комментарий к пяти трагедиям Эсхила дошел до нас в виде автографа самого Триклиния.
5. НАЧАЛО ИЗУЧЕНИЯ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ
Выше было указано, что с точки зрения метода исследования изучение древнегреческой литературы оставалось до начала XIX века на том уровне, который был достигнут школой перипатетиков и александрийскими и пергамскими грамматиками и антикварами. Коренное изменение отношения образованного общества к культурному наследству античного мира, наступившее в Европе в XIV-XVI веках, не внесло здесь ничего нового: изучать процесс литературного развития античности европейские гуманисты еще не могли. Но, тем не менее, эпоха Возрождения чрезвычайно важна возобновлением в Западной Европе занятий древнегреческим языком и широкой деятельностью гуманистов по собиранию древних рукописей и их переписыванию. Со второй половины XV века начинается печатание текстов античных авторов, в том числе и греческих.
Италия в средние века была единственной во всей Западной Европе страной, где знание греческого языка не исчезло совершенно. На юге Италии он продолжал существовать как живой язык, а с другой стороны,.сношения итальянских государств с Византией никогда не прекращались. Но вместе с тем чтение древнегреческих авторов было совершенно недоступно первым гуманистам (Петрарка, Боккаччо). Знакомство с греческой литературой начинается, однако, уже в конце XIV века.
Первые византийские ученые попадают в Италию еще задолго до падения Константинополя. Ученик Плануда Мануил Хрисолора (ум. 1415) был послом империи в Венеции и по дороге задержался во Флоренции, Флорентинец Якопо да Скарперия едет с ним в Константинополь. Но интерес к греческому языку во Флоренции вспыхнул с такой силой, что Хрисолору приглашают обратно в Италию уже специально для преподавания (1397). Во Флоренцию к нему съезжаются гуманисты из разных городов: шестидесятилетний Колуччо Салутати, Леонардо Бруни, Роберто де-Росси, Корбинелли, Никколи, Траверсяри, Верджерио и др. Богач Строцци посылает в Византию за рукописями. За три года, проведенных Хрисолорой во Флоренции, закладывается прочный фундамент для создания кадров собственных эллинистов. Начинаются их поездки и Константинополь (Гварино - с 1403 по 1408 г., Ауриспа-с 1421 по 1423 г., Филельфо - с 1420 по 1427 г.). Все итальянцы возвращаются на родину с большими грузами книг. Ауриспа перед отъездом продает для покупки книг весь свой гардероб. Грамматика Хрисолоры (Ἐρωτήματα τῆς Ἐλληνικῆς) переписывается в огромном количестве экземпляров.
Флорентийский собор 1439 г. и прибытие императора Иоанна VII Палеолога еще более укрепляют связи с Византией. Греческие авторы переводятся теперь на латинский язык и становятся доступными даже людям, не знающим греческого языка.[1] Папа-гуманист Николай V (1447-1455) придает этой переводческой деятельности планомерный характер.[2] По его стопам идет и меценатствующий неаполитанский король Альфонс. Федериго Монтефельтра князь Урбино, тратит колоссальные средства на покупку греческих рукописей. Через его библиотеку в Италии становятся впервые известны Софокл, Пиндар, Павсаний, Полибий, Демосфен, Эсхил и др.[3]
Поэтому, когда в Италии появляются греческие ученые, эмигрировавшие после турецкого завоевания, почва уже вполне готова.[4] Кардинал Бессарион в Болонье основывает нечто вроде академии эллинизма.[5] Преподавание языка, однако, принимает более широкий характер: в Падуе ему учит Димитрий Халкондила, в Неаполе - Феодор Газа, в Мессине - Константин Ласкарис, но в других городах уже не греки, а сами итальянцы (Витторино в Мантуе, Филельфо в Милане, Гварино в Ферраре). Более массовый характер придает распространению греческих авторов и книгопечатание. Печатают, однако, сперва только латинских авторов и переводы с греческого на латинский. В то время как первое издание Цицерона "Об ораторе" вышло в Субиако в 1465 г., первый греческий автор в подлиннике выходит в 1438 г. (Гомер в издании Халкондилы во Флоренции).[6] На двенадцать лет раньше была напечатана в Милане греческая грамматика Константина Ласкариса (1476).[7] Тем не менее, впоследствии число изданных греческих текстов превышает число латинских: за первые сто лет книгопечатания издано полностью 92 греческих автора (латинских 66).[8] Новых первоизданий не будет уже до конца XVIII века.
Вместе с тем, о настоящем изучении древнегреческих (равно как и латинских) авторов в XV веке говорить еще нельзя. Все дело ограничивается собиранием, изданием и переводами. К своим переводам Гомера и Гесиода Анжело Полициано (1451- 1494) пишет изящные стихотворные предисловия на латинском языке, названные их "Сильвами".[9] Критикой же текста и он и Валла занимаются только по отношению к латинским авторам. Валла разоблачает ряд фальсификаций, и его работы закладывают фундамент для филологической науки.
В области критики текста Полициано оставил после себя только "Miscellanea" - разрозненные заметки, обработанные по образцу "Аттических ночей" Авла Геллия и разделенные на 100 глав. Следующие поколения филологов не ценили их, но они свидетельствуют об острейшем критическом чутье их автора.
В издании авторов не имеет соперников венецианская фирма Мануциев, основанная Альдом Мануцием в 1489 г. Альд Мануций сам был хорошим филологом, для греческих изданий его помощником был критский грек Музурос. Эта фирма выпустила 28 первоизданий греческих авторов. Благодаря ей к 1520 г. важнейшие греческие писатели были уже напечатаны.
В XVI веке зарождается классическая филология как наука, созданная трудами не только итальянцев, но и французов. Из немецких гуманистов греческой филологией занимались Меланхтон, написавший греческую грамматику (1518), которая за сто лет выдержала свыше 40 изданий, и Рейхлин, занимавший кафедру в Базельском университете. Эразм Роттердамский имел отношение к эллинистике только своей защитой правильного древнегреческого произношения, "этацизма", против "итацизма" Рейхлина "De recta latini graecique sermonis pronuntiatione dialogus").[10] К изучению греческой литературы все эти три гуманиста интереса не имели, хотя Рейхлин перевел "Батрахомиомахию" на латинский язык, Эразм переводил Эврипида и Плутарха, а Меланхтон издал нескольких авторов. Греческих писателей издавал также Иоахим Камерарий (1500-1574).
Крупнейшими фигурами этого периода в области изучения греческой литературы являются Пьетро Веттори (1499-1505) и Анр и Этьенн (1531-1598). Первый, занимавший с 1538 г. кафедру во Флоренции, известен, главным образом, своими критическими изданиями Эсхила (1557) и "Поэтики" Аристотеля (1560 и 1573), его же "Никомаховой этики" (1547) и комментарием к Софоклу (1547).[11] Второй издал 74 греческих автора и составил пятитомный "Thesaurus Graecae linguae" (1572), переизданный в 1831 -1855 гг. в восьми томах (изд. Дидо) и до сих пор остающийся самым полным словарем греческого языка, Веттори заключает собою ряд выдающихся итальянских филологов-классиков. В середине XVI века роль Италии в изучении античных авторов резко уменьшается. Большой интерес представляют только сочинения о "Поэтике" Аристотеля, ибо на них и иногда на их неправильном понимании мыслей Аристотеля основывалась теория новой классической драмы; таковы труды Кастельветро (1570) и др.
Мы видим, далее, во Франции филологов Гильома Бюде (1468-1540), основателя Collège de France,[12] и Адриена Тюрнеба (1512-1565), уделяющих большое внимание и греческим авторам; но римская литература во Франции занимает бесспорно первое место: корифеи французской науки Роберт Этьенн, Ламбин, Мюре (Муретус), Юлий Цезарь Скалигер, Сомез (Салмазий) занимаются исключительно ею.
Работы Скалигера, пионера дивинаторской критики, исходящей от эстетического подхода к произведениям античной литературы (например, к римским элегикам), имели, однако, методологическое значение, частью отрицательное, и для последующего развития эллинистики. Особое же значение для развития классического направления во французской литературе имела его "Поэтика" (1561), в которой он брал отправным пунктом Аристотеля, но подходил к нему сквозь призму Сенеки. Комментарии к греческим писателям (Аристотелю, Феофрасту, Феокриту, Афинею и Полибию) составляет во Франции после Этьенна только Исаак Казобон (Казаубонус, 1559-1614). Своим "Введением" к Полибию (1609) Казобон выяснил картину развития греческой историографии, подготовив этим почву для исследования Фосса (см. ниже). Еще большее значение для изучения литературы имел его трактат "De satyrica Graecorum poesi et Romanorum satira" (1605). В XVII веке Дюканж (1610-1688) кладет основание изучению византийской литературы, а Бернар де-Монфокон выпускает в 1708 г. свою монументальную "Греческую палеографию". Таким образом, XVI и XVII столетия подготовили достаточною почву для научного изучения греческой литературы, хотя в общем критика текста греческих писателей до конца XVIII века сильно отставала от того, что было достигнуто в применении к текстам римской литературы.
Однако еще значительно раньше (1545) появляется первый сводный обзор истории античной литературы - книга Жиральда (Гиральдуса) "De historia poetarum tam Graecorum, quam Latinorum dialogus". По методу своему эта книга ничем не поднимается над средним уровнем эллинистической и византийской филологии и является простым собранием древних биографий писателей, не подвергнутых никакой критической проверке. Многие источники, уже известные в XVI веке, Жиральдом совершенно не использованы. За нею на протяжении XVII века следует несколько таких же обзорных и очень поверхностных сочинений. Гораздо большее значение имеет "Bibliotheca Graeca sive notitia veterum scriptorum Graecorum" Фабриция, вышедшая в 14 томах в 1705-1728 гг.[13] Несмотря на то, что связного изложения в этом своде нет, он представляет собою ценнейшую научную работу, к которой приходится иногда обращаться за справками и в наше время. Развитие отдельных литературных жанров, хотя и на основе биографического метода, пытаются проследить Фосс в книге "О греческих историках"[14] и Рункен в "Критической истории греческих ораторов".[15]
В первой половине XVIII века крупнейшими филологами-классиками являются англичане и голландцы. Работы Ричарда Бентли (1662-1742) знаменуют собой новый этап текстологической работы. Его блестящий анализ "писем", приписывавшихся акрагантскому тиранну Фалариду, и выяснение их подложности поднимают метод филологической критики на высшую ступень.[16] Бентли открывает также в греческом языке "дигамму". Его продолжатель Ричард Порсон (1759-1808) известен не только как текстолог и комментатор (главным образом Эврипида), но и как исследователь греческой метрики, в частности ямбического триметра (Canon Porsonianus). Изучение Эврипида продолжает затем Питер Эльмсли (1773-1825).
В Нидерландах после исключительного преобладания латинской филологии в XVI-XVII веках (Юст Липсий, Гуго Гроций, два Гроновия, Николай Геинзий, Бурмай Старший)[17] возникает в 40-х годах XVIII века школа эллинистов, возглавляемая Тиберием Гемстергузнем (1635-1766), которому принадлежит издание Аристофана ("Богатство") со схолиями и многотомное комментированное издание Лукиана. Его крупнейшими учениками были Каспар Валькенар (1715-1785) и уже упомянутый Д. Рункен (1723-1798). Валькенар - пионер в деле изучения фрагментов утерянных произведений, к которому он применил достижения критического метода Бентли. Он пытался реконструировать в 1768 г. сюжеты не дошедших до нас трагедий Эврипида.[18] В другой своей работе, изданной только после его смерти,[19] он доказал подложность цитат из греческих писателей, приводившихся александрийскими евреями в религиозно-этических спорах с греками.[20]
С середины XVIII столетия большое значение в развитии классической филологии получает также и Германия, чему отчасти способствовала реформа среднего образования, проведенная Геснером. На первых порах немецкая филология носила узко формальный характер, и никаких попыток синтетического изучения античной литературы не было. Новые веяния пришли со стороны, от людей, стоявших вне круга профессиональных ученых Лессинг, Гердер, Виланд, Винкельман). Однако и формальная ненецкая филология XVIII века, представленная эллинистами Рейске (1716-1774) и Х. Гейне (1729-1812), основателями лейпцигской и геттингенской филологических школ,[21] имеет большие заслуги в деле дальнейшего изучения древнегреческой литературы. В частности, вторая половина XVIII века своими чисто филологическими трудами и началом специализации подготовила научную постановку "гомеровского вопроса", которому посвящена в настоящем томе особая глава и начало истории которого связывается обычно с знаменитой книгой ученика Гейне, разорвавшего со своим учителем, Ф. - А. Вольфа "Prolegomena ad Homerum" (1795.) В Лейпциге, кроме Рейске, должен быть отмечен еще В. Рейц, учитель крупнейшего филолога первой половины XIX века Готфрида Германна (1772-1848). Сам же Г. Германн жил уже в эпоху, когда трудами Г. Бернгарди, К. - О. Мюллера и Ф. - Г. Велькера была заложена прочная основа для систематического изучения истории древнегреческой литературы (см. обзор этих трудов в библиографии).
До последней четверти XIX века в разработке истории древнегреческой литературы большое место занимают труды немецких ученых. Со второй половины прошлого столетия на ряду с ними выдвигаются работы французских, английских, русских и итальянских филологов (Экже, Шассань, Круазе, Куа, Пьеррон, Вейль, Патэн, Джебб, Верроль, Магаффи, Мьюр, Сандис, Ф. Ф. Соколов, П. В. Никитин, Ф. Г. Мищенко, Д. Ф. Беляев, С. П. Шестаков, А. Н. Деревицкий, Н. И. Новосадский и др.). В Германии же с начала XX века, на ряду с крупными работами Узенера, Роде, Дитериха, Виламовиц-Меллендорфа, Бете, Роберта и др., общее состояние науки об античности начинает клониться к упадку в связи с влиянием ницшеанства и других течений иррационалистической философии. Окончательная победа иррационализма и мистицизма, еще до захвата власти фашистами, подготовила то глубокое падение филологической мысли, которое характеризует гитлеровскую "науку".
[1] Еще до 1453 г. переведены Дионисий Галикарнасский, Арриан, Лисий, Платон (три диалога и „Апология“), Аристотель („Риторика“, „Этика“ и „Политика“), Диоген Лаэртский, Плутарх и ряд христианских писателей. Из всех этих сочинений только „Политика“ Аристотеля переводилась на латинский язык еще в средние века.
[2] Ср. L. W..Clark, Libraries in the Medieval and Renaissance period. Оксфорд, 1894.
[3] По его поручению переведены Геродот, Фукидид, Аппиан, Феофраст, Птолемей, Эпиктет и, наконец, Гомер (перевод I и IX песен Марсуппини. О латинских переводах Гомера см. также ниже, главу VII).
[4] Некоторые популярные работы дают неверное освещение этого этапа в истории итальянского гуманизма, связывая знакомство с греческим языком только с падением Константинополя. Опровержение этого мнения принадлежит Ф. Моннье (Le quattrocento. Essai sur l’histoire littéraire du XV siècle italien, v. II, ch. I, 1912; ср. в особенности стр. 20—22).
[5] Собранные им 900 греческих рукописных книг послужили ядром библиотеки св. Марка в Венеции (codices Venetiani).
[6] Из переводов были изданы до 1488 г.: Страбон (перев. Гварино. Рим 1470), Плутарх (перев. Кампануса, 1471), первые пять книг Диодора (перев. Поджо, 1472), пять книг Полибия (перев. Перотто, Рим, 1473); „Илиада“, песни I XVI (перев. Лаврентия Валлы, 1474), Миланское издание Гесиода и Феокрита, выведшее без указания года издания, одними библиографами датируется 1496 годом, другими — 1481 (т. е. на семь лет раньше халкондиловского Гомера).
[7] Сыгравшая такую большую роль грамматика Хрисолоры была напечатана только позже (1489).
[8] Список важнейших первоизданий (editiones principes) см. в библиографии в томе III.
[9] Каждое из них имеет свое заглавие („Rusticus“ — к „Трудам и дням“ Гесиода и „Георгикам“ Вергилия“, „Ambra“ — панегирик Гомеру).
[10] Термины „этацизм“ и „итацизм“ указывают на произношение греческой η („эта“ или „ита“) как „э“ и „и“; с этим связано и произношение β как б или в. Итацизм отражает более позднее (византийское) произношение.
[11] Ему же принадлежит первое издание „Электры“ Эврипида (1545).
[12] „Commentarii linguae Graecae“ (1519) Бюде не представляли большой ценности; его значение в истории классической филологии сводится, главным образом, к роли как бы идейного вдохновителя классицизма.
[13] 4–е издание, под ред. Гарлесса (Harless), в 12 тт. Гамбург, 1760—1810.
[14] Voss, De historicis Graecis, 1624.
[15] Runken, Historia critica oratorum Graecorum, 1768.
[16] R. Bentley, A dissertation on the epistle of Phalaris etc. 1697 (нем. пер. О. Риббека, Лпц., 1857).
[17] Исключение составляет только Даниил Геинзий (1531—1655), издававший греков и написавший сочинение о „Поэтике“ Аристотеля (1610), имевшее большое значение для поэтики французского классицизма.
[18] Эта работа Валькенара. (Diatribe in Euripidis perditarum fabularum reliquias) сохраняла свое значение вплоть до выхода в 1875 г. „Analecta Euripidea“ Виламовиц–Меллендорфа.
[19] Diatribe de Aristobulo, 1810.
[20] В настоящее время считают, что эта подделка сделана не Аристобулом в III веке до н. э.. а гораздо позже, во II веке н. э. Эта точка зрения впервые высказана Бергком (Griech. Lit. — Gesch., IV, 534). Однако самый факт выяснения подделки Валькенаром был крупным успехом филологической науки.
[21] Предшественником Рейске в Лейпциге был Эрнести (редактор самого популярного в XVIII веке издания Гомера), предшественником Гейне в Геттингене — сам Геснер; однако под их руководством эти две кафедры ограничивались учебно–просветительскими задачами.
Глава IV ИСТОКИ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Древнейшими из дошедших до нас литературных памятников Греции являются две большие поэмы - "Илиада" и "Одиссея", автором которых древние считали слепого поэта Гомера.
Для нас эти поэмы стоят в самом начале истории древнегреческой литературы. Несмотря на полуторавековое научное их изучение, мы можем датировать их создание лишь очень предположительно. При этом. датировки разных ученых иногда сильно расходятся между собою. Поэтому обе поэмы находятся как бы за пределами классического периода литературы, который охватывает время с VII по IV век до н. э. Но, тем не менее, признать, что "Илиада" и "Одиссея" являются действительным началом древнегреческой литературы, современное состояние науки уже не позволяет.
Не может быть никакого сомнения в том, что поэмы эти представляют собой итог творческой работы длинного ряда поколений. Научная критика открывает в них многие наслоения, отложения разных эпох, признаки разновременного происхождения отдельных частей. Но и те части, которые научная критика склоняется признать за древнейшие, не могут быть сочтены чем-то примитивным и свидетельствуют о том, что им предшествовали долгое развитие данного поэтического жанра, выработка языка и стиха. Это было ясно уже давно, и выражением такого взгляда явилась известная филологическая формула: "Fuerunt ante Homerum poetae".[1] Новейшие исследования показали уже совершенно конкретно, что греческая поэзия прошла долгий путь развития до гомеровских поэм. Памятники этих далеких времен до нас не дошли, но следы их мы находим и в литературе позднейшего периода, а, кроме того, многое уясняется теперь из сопоставления с поэтическим творчеством других народов.
Мы должны представлять себе начало греческой литературы совершенно так же, как оно представляется нам в истории литературы любого другого народа. Началом этим было народное творчество - фольклор. Это творчество отражало быт и мировоззрение трудовой кассы. Личность поэта-творца еще не играла решающей роли: поэзия слагалась в тех специфических условиях коллективной жизни, которые были свойственны доклассовому обществу. В образах этой поэзии народ воплощал сбой трудовой опыт, свои достижения в борьбе с природой, в них он фантастически преломлял свое восприятие окружающей действительности, законы бытия которой были ему непонятны и представлялись действием сверхъестественных, "потусторонних" сил. Мифы давали поэзии художественные образы и сюжеты. Художественная форма вырабатывалась в виде песни.
С течением времени умственный прогресс первобытного человека, обусловленный развитием техники орудий производства и усложнением трудовых процессов, становящихся коллективными и требующих обмена опытом, приводит и к дифференциации типов поэтических образов по их назначению в коллективной жизни людей. Так рождаются поэтические жанры. Иногда поэтическое творчество имеет целью для человека "закреплять сбой трудовой опыт в образах героев труда, мастеров различных ремесел" (М. Горький); иногда оно ставит своей задачею закрепление наилучших правил и норм человеческого общежития; иногда оно хочет осмыслить существование человека среди враждебной ему природы, хочет найти разумное объяснение действию сил этой природы, чтобы облегчить себе борьбу с нею. Наконец, очень рано народное творчество начинает стремиться закрепить в прочной словесной форме память о прошлом своего коллектива, создать предание о знаменательных событиях рода или племени, о наиболее выдающихся личностях, - о тех, кто лучше других послужил общему благу. В результате этой дифференциации возникают известные нам у всех народов фольклорные жанры: песня, пословица, загадка, сказка, рассказ и басня, а также развившиеся у древних греков особенно пышно мифы о богах и героях.
[1] „Были и до Гомера поэты“.
2. МИФЫ О БОГАХ И ГЕРОЯХ. ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Основным материалом для поэтической обработки в древнегреческой литературе были мифы о богах и героях, зародившиеся в доклассовый период, но продолжавшие развиваться и позже. Мифологическими сюжетами, мотивами и отдельными образами, взятыми из мифологии, полны были у греков эпос, лирика и драма. Можно сказать, что мифы были сокровищницей, ставшей достоянием всего греческого народа. Глубокое проникновение мифов в сознание народных масс создавало условия непосредственного художественного восприятия выросших из них литературных произведений. Равным образом это относится и к древнегреческому изобразительному искусству - к скульптуре и к вазовой живописи.
Без учета неразрывной связи с мифологией нельзя понять сущности древнегреческой поэзии, принципов ее развития, характера восприятия ее самими греками, нельзя правильно воспринять ее и сейчас. Поэтому основой для правильного изучения ее должно служить известное высказывание К. Маркса ("К критике политической экономии"):
"Относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета не находятся ни в каком соответствии с общим развитием общества, а следовательно, также и развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации. Например греки в сравнении с современными народами или так же Шекспир. Относительно некоторых форм искусства, напр. эпоса, даже признано, что они в своей классической форме, составляющей эпоху в мировой истории, никогда не могут быть созданы, как только началось художественное производство как таковое; что, таким образом, в области самого искусства известные формы, имеющие крупное значение, возможны только на сравнительно низкой ступени художественного развития. Если это имеет место в области искусства в отношениях между различными его видами, то еще менее поразительно, что это обстоятельство имеет место в отношении всей области искусства к общему социальному развитию. Трудность заключается только в общей формулировке этих противоречий. Стоит лишь выделить каждое из них, и они уже объяснены. Возьмем, напр., отношение греческого искусства и затем Шекспира к современности. Известно, что греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву. Разве тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого [искусства], возможен при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа? Куда уж Вулкану против Roberts & Co., Юпитеру против громоотвода и Гермесу против Crédit mobilier! Всякая мифология преодолевает, подчиняет и формирует силы природы в воображении и при помощи воображения; она исчезает, следовательно, с действительным господством над этими силами природы. Что сталось бы с богинею Фамою при наличности Printinghousesquare? Предпосылкою греческого искусства является греческая мифология, т. е. природа и общественные формы,· уже переработанные бессознательно-художественным образом в народной фантазии. Это его материал. Но не любая мифология, т. е. не любая бессознательно-художественная переработка природы (здесь под последнею понимается все предметное, следовательно, включая общество). Египетская мифология никогда не могла бы быть почвой или материнским лоном греческого искусства. Но во всяком случае, именно мифология. Следовательно, отнюдь не такое развитие общества, которое исключает всякое мифологическое отношение к природе, всякое мифологизирование природы, которое, стало быть, требует от художника не зависимой от мифологии фантазии.
С другой стороны, возможен ли Ахиллес в эпоху пороха и свинца? Или вообще Илиада наряду с печатным станком и типографской машиной? И разве не исчезают неизбежно сказания, песни и музы, а тем самым и необходимые предпосылки эпической поэзии, с появлением печатного станка?
Однако трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны известными формами общественного развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца.
Мужчина не может снова превратиться в ребенка, или он становится ребячливым. Но разве не радует его наивность ребенка и разве сам он не должен стремиться к тому, чтобы на высшей ступени воспроизводить свою истинную сущность? Разве в детской натуре в каждую эпоху не оживает ее собственный характер в его безыскусственной правде? И почему детство человеческого общества там, где оно развилось всего прекраснее, не должно обладать для нас вечной прелестью, как никогда не повторяющаяся ступень? Бывают невоспитанные дети и старчески умные дети. Многие из древних народов принадлежат к этой категории. Нормальными детьми были греки. Обаяние, которым обладает для нас их искусство, не стоит в противоречии с той неразвитой общественной ступенью, на которой оно выросло. Наоборот, оно является ее результатом и неразрывно связано с тем, что незрелые общественные отношения, при которых оно возникло, и только и могло возникнуть, никогда не могут повториться снова".[1]
О роли мифов говорит и А. М. Горький:
"Чем древнее сказка и миф, тем с большей силой звучит в нем победное торжество людей над силами природы и совершенно отсутствуют драмы социального характера, распри человеческих единиц... Мифы, в которых безнадежное, пессимистическое отношение к жизни и вражда людей, - эти мифы явились с Востока, где возникли первые деспотии и первые мистические религии, где, как в Индия, организовалось резкое деление на касты, где созданы наиболее страшные образы богов. Средиземноморское человечество родило человекоподобных веселых богов Олимпа, и весьма заметно, что сырьем для фабрикации богов этих служили талантливые кузнецы, гончары, певцы и музыканты, ткачихи, стряпухи и вообще - реальные люди. Богиня Деметра покидает Олимп и богов для того, чтобы жить среди людей...
Миф и сказка воплощают и отражают трудовое, материалистическое мышление, которое послужило основой философии Демокрита, затем было обработано Лукрецием Каром в знаменитую поэму "О природе о вещей".
По линии интересов и целей литературы, - а также и всех иных искусств, - миф и сказка говорят нам о праве и полезности преувеличивать созданное реальное в целях достижения идеального, желаемого, а также говорят о положительном - и актуальном значении гипотезы в науке и в литературном творчестве..."[2]
О мифологических корнях поэтического творчества А. М. Горький говорил и ранее, на первом съезде советских писателей:
"Миф - это вымысел. Вымыслить - значит извлечь из суммы реального данного основной его смысл и воплотить его в образ, - так мы получили реализм. Но если к смыслу извлечений из реально данного добавить - домыслить, по логике гипотезы, - желаемое, возможно и этим еще дополнить образ, - получим тот романтизм, который лежит в основе мифа и высоко полезен там, что способствует возбуждению революционного отношения к действительности, отношения, практически изменяющего мир".[3]
Замечание А. М. Горького о появлении мифов с Востока правильно сопровождается его указанием, что в приложении к средиземноморским народам это утверждение должно быть подвергнуто сильному ограничению. Во второй половине XIX века такая зависимость грзчезкой мифологии от Востока очень преувеличивалась. Памятником этого увлечения отыскиванием восточных элементов в каждом почти мифе древних греков является книга О. Группе "Греческие мифы и культы в их связях с восточными религиями" (1887). В настоящее время большинство ученых отказалось от такой переоценки роли Востока. В современной буржуазной науке господствует так называемая "антропологическая школа", основателем которой считается Тейлор, а виднейшими ее представителями в наши дни - Фрезер и Ленг. Подходя более правильно, чем в XIX веке, к специфическим особенностям человеческого мышления в доклассовом обществе, когда зарождались мифы, отрицая решающую роль "миграции" мифов от одного народа к другому, эта школа в своих многочисленных исследованиях этнографического материала самых различных народов вскрыла явления табу, фетишизма, тотемизма и анимизма, установила большую консервативность устного предания и сохранение в нем пережитков социального быта далеких времен. Все это имеет огромное значение и для изучения древнегреческой мифологии, которую раньше рассматривали вне связи с генетическими проблемами, с социальными условиями, в которых жил первобытный человек. Представители "антропологической школы" пытаются вскрыть причины возникновения сходных мифов у разных народов; но быть последовательными до конца они не могут, так как находятся во власти идеалистических взглядов на развитие общества вообще, на происхождение форм идеологии, и в частности на происхождение религии и мифа. Высказывания А. М. Горького, приведенные выше, содержат программу исследования мифов, и в частности греческой мифологии, с точки зрения последовательного материализма.
При этом, подходя с такой точки зрения к изучению древнегреческих мифов и их роли в развитии древнегреческой литературы, надо иметь в виду, что очерченная выше роль их строго ограничена хронологически, именно периодами - "архаическим" (до VII века до н. э.) и так называемым "классическим" (VII-IV века). Для ученой мифологической поэзии эллинистической эпохи, предтечею которой является Антимах Колофонский (конец V века до н. э.), а крупнейшими поэтами - Каллимах, Аполлоний Родосский, Эвфорион и их многочисленные римские подражатели (Катулл, Проперций, Овидий и др.), мифология была уже только рационалистически используемым "арсеналом", но никак не "почвой". Попытки же мифографов возродить мифологию как систему мышления были обречены на неудачу. Маркс говорит по этому поводу: "... как раз в ту эпоху, когда приближалась гибель античного мира, возникла "александрийская школа", которая всячески силилась доказать "вечную истину" греческой мифологии и ее полное соответствие "результатам научного исследования". Это направление, к которому принадлежал еще император Юлиан, полагало, что оно заставит, исчезнуть вторгающийся новый дух времени, если оно закроет глаза, чтобы его не видеть".[4]
Это изжитие мифологией самой себя наступило конечно, не сразу. Уже в V веке до н. э. у трагических и комических поэтов, у Анаксагора и софистов, мощной струей пробивается рационализм, грозящий упразднить мифологию. Последняя, однако, исчезла не сразу.
"Богам Греции, - говорит Маркс, - однажды уже трагически раненым на смерть в "Прикованном Прометее" Эсхила, пришлось еще раз комически умереть в "Разговорах" Лукиана"."[5]
[1] К. Марке и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 200-204.
[2] А. М. Горький. По поводу плана хрестоматии (Правда, 18 июня 1939 г., № 167).
[3] А. М. Горький, О литературе, стр. 456.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. I, стр. 194
[5] Там же, стр. 402—403.
3. СКАЗКА
Сказка, как особый вид безыскусственного народного поэтического творчества, играла большую роль в жизни греков. Они любили ее и в периоды, когда уже пышным цветом развилась письменная литература.
Сказки, более чем какой-либо другой вид народного творчества, содержат ярко выраженные социальные мотивы, - то, что в применении к русским песням и сказкам В. И. Ленин определял как выражение "чаяний и ожиданий народных".[1] Это же подчеркивает и А. М. Горький, говоря: "Еще более, чем мифология, для нас поучительны сказки, ибо в них ярче и обильнее отражено лицо рабочей массы, ясно выступает характер ее мышления, ее мечты, ее отношение к труду. Следует обратить особое внимание на то, что именуется как "необузданность фантазии", а по смыслу своему является утверждением всемогущего труда, утверждающего мир".[2]
Большую роль играла сказка и в развитии эпоса. Из нее почти целиком вырастает "Одиссея", которая чуть ли не вся сплетена из сказочных мотивов. Эти мотивы (большинство фантастических приключений Одиссея) принадлежат к так называемым "бродячим", параллели им легко найти в фольклоре других народов. Таковы: Эол и его ветры, Кирка (Цирцея) с ее волшебной палочкой, превращающая людей в зверей, одноглазый великан Полифем, феакийские корабли, знающие мысли людей (VIII, 559-563), и т. д. Сказочные мотивы вплетены и в последнюю часть эпопеи, где рассказывается о возвращении героя домой и расправе его с женихами.
Все эти мотивы при включении в поэму и соединении с основной сагой подвергались, конечно, переработке. Так, вошедшая в состав "Одиссеи" история о киклопах, объединяет два различных сказочных сюжета, широко распространенных у народов Европы. Первый сюжет содержит в себе ослепление одноглазого людоеда-великана, живущего в пещере, теми, кого он заманил в нее; герой, ослепивший великана, спасается бегством, надев овечью шкуру, под брюхом барана. Эпизод, в котором герой называет себя "Никто", в вариантах этой версии не встречается. Второй сюжет - это рассказ о чудище, которое ослепляется или увечится головней; от мести товарищей изувеченного виновник ускользает, вводя в заблуждение преследую их его новым именем, которое первоначально· означало "сам". Соединение обеих версий встречается только в фольклоре Финляндии и прибалтийских народов. Чудовище здесь никогда не великан, а кобольд или чорт. Связь этих двух сказочных сюжетов не первоначальна. Автор "Одиссеи" заимствовал сюжет непосредственно из народной сказки, органически связав обе формы. Он же сделал киклопа сыном Посейдона, чем и объяснял гнев этого бога на Одиссея.
Рассказ о Полифеме есть также использование самостоятельного сказочного сюжета. В той же "Одиссее" мы находим примеры, как поэт заимствует отдельные черты народной сказки. Таков рассказ Эвмея его гостю, который приходит в рубище нищего (XV, 403-414):
Остров есть некий по имени Сирия - может, слыхал ты -
Выше Ортигии, --там, куда на зиму солнце уходит;
Очень он невелик, но хорош, плодоносен, и тучных
Стад и вина в изобильи и хлеба родится там много.
Голод там никогда народ не тревожит. Болезни
Слабых смертных не мучат. Но тою порою, как старость
Там людей посетит, их бог Аполлон сребролукий,
Бог Аполлон с Артемидой стрелою кроткой сражают.
Два там города есть, пополам всё поделено ими.
Правил обоими ими отец мой властной рукою
Ктесий, сын Ормена. Он был подобен бессмертным...
(Перев. С. П. Шестакова)
Некоторые ученые[3] сопоставляют с "Одиссеей" рассказ средневекового хрониста Саксона Грамматика (начало XIII века) о странствовании короля Гормо и его спутников. Героя побуждает к странствованиям не столько стремление к добыче, сколько желание славы. Часть спутников Гормо. под начальством благоразумного Торкилла, попадает к народу, имеющему ряд общих черт с гомеровскими феаками. На одном из островов они убивают много животных и, вопреки предостережениям Торкилла, нагружают ими суда. Ночью на них нападают великаны с дубинами и требуют для съедения по человеку с каждого корабля. Далее описываются приключения Гормо и его спутников при встрече с великаном Гутмундом. Все это имеет много общего с приключениями Одиссея у лестригонов, киклопов и Кирки. Есть в рассказе Саксона Грамматика и путешествие в подземное царство. Из всего этого мы можем сделать заключение, что отдельные мотивы "Одиссеи" были с незапамятных времен достоянием народной сказки, но использование их для поэмы было делом отдельных поэтов. Стержнем поэмы, объединявшим все эти сказочные мотивы, был сделан рассказ, широко известный в фольклоре самых различных народов, - повесть о неожиданном возвращении долго отсутствовавшего и считавшегося уже погибшим супруга к жене. Возвращение это имеет место в самый последний момент, когда жена собирается вновь выйти замуж.
Сказочные мотивы мы находим также и в "Илиаде"; например, рассказе о герое, побеждающем самих богов (Диомед в песни V).
В конце V века до н. э. афиняне, удрученные неудачной войной, потрясшей самые основы существования государства, охотно переносились воображением в мир фантазии - прибегали к сказке, в которой комические поэты изображали все блага мира. "Звери" Кратета, "Богатство" Кратина, "Дикие" и "Искатели золота" Ферекрата тешили публику либо картинами давно прошедших времен, когда царствовал Кронос, либо изображением того, что вообще никогда не существовало и что в нашей русской сказке называется "молочными реками" и "кисельными берегами".
[1] Н. П. Андреев, Русский фольклор, 2–е изд., 1938, стр. 29.
[2] А. М. Горький, По поводу плана хрестоматии (Правда, 18 июня 1939 г., № 167).
[3] 1 Ср., например, Finsler, Homer, т. II, стр. 307 ел,, 378 сл.
4. БЫТОВАЯ ПЕСНЯ
К древнейшей эпохе, вне всяких сомнений, надо относить разного рода бытовые песни. К. Бюхер в книге "Работа и ритм" (перевод С. С. Заяицкого, М. 1923) очень убедительно показал, что первоначальная народная песня возникала из трудового процесса, как элемент, которым работа облегчается, скрашивается или даже организуется (ср., напр., "уханье" в нашей "Дубинушке", служащее сигналом для рабочих движений). Из нее в дальнейшем процессе развития выделяется обрядовая и религиозная песня, имеющая в виду прежде всего магическое действие. Обращают на себя особенное внимание песни рабочие, исполняемые частью отдельными лицами, частью группами лиц, занятых коллективной работой. Уже у Гомера (Од. VII, 92) мы видим такой коллективный труд феакиянки Навсикаи и ее подруг, которые топчут ногами белье в ямах на берегу моря. А волшебница Кирка, работая за ткацким станком, поет песню (Од. X, 221 сл.).
Древнейшим текстом рабочей песни надо считать те три стиха с острова Лесбоса, которые сохранил нам Плутарх в "Пире семи мудрецов" (гл.14): "Мели, мельница, мели - ведь и Питтак молол когда-то, который царствует над великой Митиленой".
О песне мукомолок упоминает и Аристофан в "Облаках" (ст. 1358). Такой же характер носит в его комедии "Мир" (ст. 512-519) песня при отваливании камня с помощью каната.
В числе так называемых гомеровских эпиграмм мы находим "песню гончаров", написанную гексаметром. По характеру своему она является уже позднейшей литературной обработкой, но, тем не менее, по ней можно судить о том, какова должна была быть подлинная народная песня, лежащая в ее основе.
Известна - песня при выжимании тисками виноградного сока. Прототипом ее является одно место в песни XVIII "Илиады" (ст. 561-572), где поет юноша под звуки форминги среди других юношей и девушек, собирающих виноград (одна из сцен, изображенных Гефестом на щите Ахиллеса). Там это носит название "лин" (λίνοσ). Вообще же "песни при сборе винограда" (ἐπιλήνια μέλη), равно как и "мукомольные песни", известны не только из греческих источников, но, например, и из Ветхого завета.
Дион Хрисостом (речь 1-я "О царстве") подчеркивает, что песней "подбадривают себя в работе". Большая степень разделения труда вызывает уже появление особых песен, связанных с различными профессиями.
На ряду с рабочими песнями должны быть упомянуты песни свадебные или гименеи (νμέναιοι) и похоронные, или френы (ὑμέναιοι). Свадебную песню мы видим в одной из сценок на щите Ахиллеса в песни XVIII "Илиады" (ст. 491-495):
Там невест из чертогов при блеске светильников ярких
С кликами брачных песен ведут по города стогнам,
Юноши хорами в плясках кружатся: меж них раздаются
Лир и свирелей веселые звуки...
В песня XIX плач Брисеиды над телом Патрокла сопровождается терзанием груди, шеи и лица. В поэме приведен и самый плач (ст. 236- 300), представляющий собою несомненно уже литературную обработку темы, но, возможно, с сохранением трафаретных приемов творчества "плакальщиц". То же самое повторяется и в заключительной сцене XXII песни, где приведен плач Андромахи на башне, с которой она видела смерть Гектора (ст. 477-514). Вместе с Андромахой плачут и другие троянки. Наконец, в песни XXI снова встречаем плач Андромахи над телом Гектора (ст. 725-745), плач Гекабы (ст. 748-759) и Елены (ст. 762-775). Подражания такому плачу, как фольклорному жанру, мы находим в более позднюю эпоху, в лирической поэзии (у Симонида и Пиндара) и в трагедии.
Из свадебных же песен родился затем особый лирический жанр - эпиталамий.[1] Ближе к подлинным народным песням стоят свадебные песни у Аристофана (Мир, 1933 слл., "Птицы", 1720 слл.). Плутарх[2] говорит о гименеях, исполнявшихся на религиозных празднествах при обряде "священной свадьбы" (ίερός γάμος).
[1] Ср. Сапфо, фр. 123 и 132 по Дилю и подражания в стихотворениях 61 и 62 Катулла.
[2] De Daed., Plat. t. 7, p. 47. Bern.
5. БАСНЯ
Басня, содержащая в сказочной или иносказательной форме какое-нибудь поучение, была излюбленным типом народного творчества. Происхождение ее связывают с тотемистическими и магическими представлениями первобытных охотников. Конечно, в древнейшие времена это была еще не та басня, которая известна нам из дошедшего до нас сборника неизвестного времени, который древние приписывали фригийскому рабу Эзопу (Αἴσωποσ). Содержание Эзоповой басни, называемой им μῦθος (лат. fabula), уже очень сложно, она ставит себе иногда прямые политические задачи. Эта форма басни безусловно моложе гомеровского эпоса, как это отмечают современные исследователи. Но сам гомеровский эпос содержит бесспорные указания на то, что басня существовала раньше: некоторые гомеровские сравнения показывают, что животный эпос уже закрепил за образами орла, льва, змеи и т. п. определенные психологические характеристики. Из того, что в поэмах Гомера мы не встречаем басен, включенных в текст, нельзя еще делать никакого заключения, ибо такого рода вставки могли бы нарушить эпический стиль героической поэмы. Но в гневных словах Ахиллеса, обращенных к Гектору перед решающим поединком (Ил. XXII, 262-264), влияние животного эпоса не подлежит сомнению:
Нет и не будет меж Львов и людей никакого союза:
Волки и агнцы не могут дружиться согласием сердца;
Вечно враждебны они, злоумышленны друг против друга...
(Перев. Н. И, Гнедича)
У авторов, ближайших по времени к Гомеру, мы находим уже вставки целых басен. Так, Гесиод в "Трудах и Днях" (ст. 202-211) рассказывает басню о соловье и ястребе и прямо называет ее этим термином (αἶνοσ).
Басню теперь расскажу я царям, как они ни разумны.
Вот что однажды сказал соловью пестрогласному ястреб.
Когти вонзивши в него и неся его в тучах высоких.
Жалко пищал соловей, пронзённый кривыми когтями.
Тот же властительно с речью такою к нему обратился;
"Что ты, несчастный, пищишь? Ведь намного тебя я сильнее!
Как ты ни пой, а тебя унесу я, куда мне угодно.
И пообедать могу я тобой, и пустить на свободу.
Разума тот не имеет, кто меряться хочет с сильнейшим:
Не победит он его, - к унижению лишь горе прибавит".
(Перер. В. Вересаева)
У Архилоха же находим басню о союзе лисицы с орлом (фр. 86 Бергк, 81 Диль).
Несмотря на дружбу, орел похитил лисенят и, сидя на высокой скале, глумился над лисицей. Проклиная его, лисица взывает к Зевсу:
О Зевс, отец наш Зевс! Твоя на небе власть,
Ты видишь все дела людей,
И добрые, и злые; ты следишь, чтоб зверь
Не кривдой, а по правде жил:
(Перев. В. О. Нилендера)
Архилох употребляет здесь тот же термин αἶνος. Следы животного эпоса в поговорках есть и у более поздних писателей; у Аристофана: "не раньше, чем волк вступит в брак с овцой ("Мир", ст. 1076); у Афинея: "так сказал рак, схватив клешней змею: другу должно быть прямым, а не замышлять кривого" (XV, 695 а).
Предполагают, что басни и побасенки, с развитием классового разделения греческого общества в большей степени были распространены в низших слоях. В условиях зарождающегося (в патриархальной форме) рабовладения в этих слоях появлялось много не-греческих элементов, которые могли заносить в Грецию басенный фольклор со своей родины. Однако этим лишь отчасти может объясняться значительное совпадение басенных сюжетов в древней Греции и в странах Востока. Сравнительное изучение животного эпоса как европейских, так и внеевропейских народов показывает, что сходные социальные условия в развитии доклассового и раннеклассового общества рождают одинаковые сюжеты. Поэтому в целом ряде случаев нужно признать, что некоторые индийские басни из сборника "Панчатантра" и почти совпадающие с ними соответствующие басни Эзопова сборника могли возникнуть в Греции и в Индии независимо друг от друга. Старая "теории бродячих сюжетов", господствовавшая в середине XIX века, должна быть отвергнута в качестве универсального принципа для объяснения такого рода совпадений. Но и в тех пределах, в каких заимствование сюжета басни является вероятным, нужно учитывать возможность кочевания подобных сюжетов не только с Востока в Грецию, но и обратно; появлению на Востоке греческих сюжетов особенно способствовали новые связи, созданные походами Александра Македонского, но проникновение их туда засвидетельствовано в отдельных случаях и раньше. Так, обычно считают созданными в Греция и затем перенесенными в Индию сюжеты таких Эзоповых басен, как "Аист и Лягушки" (76), "Заяц и Лягушки" (237); "Черепаха и Орел" (419), "Черепаха и Заяц" (420) и некоторых других.[1] С другой стороны, несомненно чужеземное происхождение басен, в которых действуют животные, не встречающиеся в Греции (слон, обезьяна, верблюд, крокодил, попугай и т. д.), но и их бытование на греческой почве может быть очень древним, так как, например, египетские и ливийские сюжеты могли попасть через пленников еще в эпоху первых набегов ахейских пиратов на азиатские и африканские берега, т. е. в ХШ-XII веках до н. э.[2]
Источником басенных сюжетов безусловно были и малоазиатские страны, с которыми непосредственно столкнулись греческие колонисты, начавшие проникать туда еще на рубеже второго и первого тысячелетий до н. э. В частности сюжеты эти могли быть занесены и из Фригии, игравшей важную роль в греческой мифологии. Это и могло послужить поводом приписать авторство составившегося в Греции к V веку до н. э. сборника басен, подвергшихся, как было указано выше, литературной обработке уже в условиях классового общества некоему фригийскому рабу Эзопу. Древнейшее свидетельство о нем мы находим у Геродота (II, 134), который приурочивает время его жизни к середине VI века до н. э. Дошедшее до нас "Жизнеописание Эзопа" - очень позднего происхождения и не может рассматриваться как исторический источник, но вообще не исключена возможность (хотя большинством исследователей она считается маловероятной), что Эзоп был исторической личностью.[3] Во всяком случае, связанный с его именем сборник есть результат кодификаторского труда, подвергшего литературной обработке огромный фольклорный материал разновременного и частично очень древнего происхождения. При этом по языку Эзопов сборник указывает на свое аттическое, а не ионийское происхождение.
О том, что басни и позже продолжали передаваться устно, на ряду со сказками, мы можем судить по комедии Аристофана "Осы" (ср. ст. 566 и 1259): там с именем Эзопа соединяется не термин αἶνος употребляемый Гесиодом и Архилохом, а слово γελοῖον (шуточный рассказ).
Эзоповы басни были обработаны но II веке в. э.) в стихах Бабрием (см. ниже, т. II, раздел VIII), а в Риме - Федром (I век в. э.) и Авианом (конец IV века н. э.), через последнего и в виде латинских прозаических пересказов (Aesopus Latinus) они были популярны в Средние века. В немецком переводе Штейнгевеля они появились в конце XV века. В XVII веке во Франции их использовал Жан Лафонтен (1621-1695), у которого эти сюжеты брались и русскими баснописцами - Хемницером, Измайловым и Крыловым. В Германии эзоповские сюжеты обрабатывал Лессинг. Основа же многих из этих басен, известных сейчас во всех странах каждому грамотному человеку, восходит, как мы видели, к древнейшему дописьменному периоду греческой литературы.[4]
[1] Нумерация Эзоповых басен дана по изданию Гальма.
[2] Египетские и ливийские „рассказы“ (Λόγοι) упоминаются целым рядом более поздних авторов: Платоном (Федон, р. 275 в.), Гимерием (20–я речь), Дионом Хрисостомом (5–я речь) и др.
[3] Целый ряд более поздних авторов (Каллимах, Аполлоний Софист, Свида и др.) говорят о пребывании Эзопа при дворе Креза в Сардах. Включение Эзопа в число „семи мудрецов“ вошло в традицию уже в IV веке до н. э., как это показывает фрагмент среднеаттического комического поэта Алексида, где Эзоп беседует с Солоном; ср. также „Пир семи мудрецов“ Плутарха (4 р. 150 а). Здесь Эзоп — посол Креза в Коринфе и в Дельфах.
[4] Некоторые индийские басенные сюжеты попали в Западную Европу помимо Греции.
6. ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО В ПРОЦЕССЕ РАЗЛОЖЕНИЯ РОДОВОГО СТРОЯ И ЗАРОЖДЕНИЕ ЭПОСА
Те формы литературы, о которых шла речь выше (сказка, лирическая песня, басня), а также мифы в процессе своего становления, не закрепленные вообще никакою прочною литературной формою,[1] несомненно существовали в Греции много раньше возникновения эпоса в том его виде, какой известен нам по "Илиаде" и "Одиссее". Не говоря уже о том, что первобытные формы устного народного творчества должны были существовать задолго до образования самих греческих племен, мы можем предполагать, что и у греков, после их этнического обособления от соседних народностей, эпическое песенное творчество и не всегда связанные с ним саги развивались по крайней мере 400-500 лет, пока дело дошло до создания больших мифологических и эпических циклов, перешедших после обработки их индивидуальными поэтами в классическую древнегреческую литературу.
Энгельс говорит о том, что "...гомеровский эпос и вся мифология - вот главное наследство, которое греки перенесли из варварства в цивилизацию".[2] Раскрытие конкретного исторического содержания этого положения, предугадавшего развитие науки на сорок лет вперед, было дано выше (глава 1, § 1). Необходимо раскрыть его также и в применении к развитию греческой эпической поэзии. Хотя современное гомероведение справедливо считает, что "Илиада" и "Одиссея" созданы уже в условиях становления классового общества, это отнюдь не противоречит утверждению Маркса: "Относительно некоторых форм искусства, напр. эпоса, даже признано, что они в своей классической форме, составляющей эпоху в мировой истории, никогда не могут быть созданы, как только началось художественное производство как таковое"...[3]
Под "художественным производством как таковым" здесь нужно понимать развитие литературы в нашем смысле слова, чуждое доклассовому обществу. Но автор, или авторы, "Илиады" и "Одиссеи" создавали эти произведения в рамках прочной народно-эпической традиции, во многом еще сильно стеснявшей творческий произвол поэта. В этом отношении гомеровский эпос резко противостоит не только более поздней лирике (VII-VI века до н э.), но и такой насквозь личной поэме, как "Труды и Дни" Гесиода. Традиция эта в эпоху создания гомеровских поэм еще не омертвела, не стала пустой схемой, почему они еще так близки к чисто народному эпосу,[4] к тому, что Маркс назвал "детством человеческого общества", и имеют, с другой стороны, мало общего с искусственным, всецело литературным эпосом Аполлония Родосского или Вергилия.
Если гомеровский эпос "перенесен из варварства в цивилизацию", значит, эта народно-эпическая традиция должна была сложиться еще тогда, когда греки стояли на стадии этого варварства, "полный расцвет высшей ступени" которого, по словам Энгельса, "выступает перед нами в поэзии Гомера, особенно в "Илиаде"". К этой "высшей ступени" Энгельс и относит "греков героической эпохи";[5] но так как эта ступень, по Энгельсу, "начинается с плавки железной руды", а в гомеровском эпосе на первом месте стоит еще медь или бронза (χαλκός), то эпоху созревания эпической традиции приходится растягивать на еще более долгий период.
Каковы же были социальные условия этого периода? Ясно, что длительность этого периода является причиной его неоднородности в начале и в конце. Игнорирование этого обстоятельства всегда вело к схематизации исторического фона развития греческого эпоса до Гомера, к построению такой картины "гомеровского общества" или "героического века", где смешивались социальные и экономические черты разных моментов большого периода, в течение которого совершался медленный и далеко не гладкий процесс разложения родового строя. Эта антиисторичность характеризует почти всех буржуазных историков и филологов-гомероведов и делает неприемлемыми для нас построения даже тех ученых, которые на модернизируют и не превращают "гомеровское общество" в феодальное, с сеньорами и вассалами, а гомеровский эпос - в придворную поэзию.[6]
Социальные условия, в которых развивался греческий эпос до Гомера и которые могли отражаться как пережитки в отдельных чертах приписываемых ему поэм, никоим образом нельзя смешивать с той социальной картиной, которую автор поэм хотел в них изобразить. Реальность этой последней, хотя бы и прошедшей сквозь призму поэтического восприятия действительности, не подлежит сомнению. Но она есть только конечный пункт развития, тот момент, в который "варварство" переходит в "цивилизацию". Лучшее ее изображение мы находим у Энгельса. Вот как он рисует материальную культуру эпохи:
"Усовершенствованные железные орудия, кузнечный мех, ручная мельница, гончарный круг, приготовление масла и вина, развитая обработка металлов, переходящая в художественное ремесло, повозка и боевая колесница, постройка судов из бревен и досок, зачатки архитектуры как искусства, города с зубчатыми стенами и башнями, гомеровский эпос и вся мифология--вот главное наследство, которое греки перенесли из варварства в цивилизацию".[7]
В другом месте он дает нам изображение и экономических условий а социального строя:
"В поэмах Гомера мы находим греческие племена в большинстве случаев уже объединенными в небольшие народности, внутри которых, однако, еще вполне сохраняют свою самостоятельность роды, фратрии и племена. Они жили уже в городах, укрепленных стенами; численность населения возрастала вместе с ростом стад, расширением земледелия и по-явлением ремесла; вместе с там росли имущественные различия, а с ними и аристократический элемент внутри древней первобытной демократии".[8]
Далее Энгельс описывает "общественный строй этих племен и народцев" [9] органами власти у которых были "совет" (βουλή) "народное собрание" (ἀγορά) и "военачальник" (βασιλεύς), неверно толкуемый буржуазными историками как носитель монархического начала - "царь" (König, king, roi), и делает следующее заключение: "Мы видим, таким образом, в греческом общественном строе героической эпохи еще в полной силе древнюю родовую организацию но, вместе с тем, и начало ее разрушения: отцовское право с наследованием имущества детьми, что благоприятствует накоплению богатств в семье и усиливает семью в противовес роду; влияние имущественных различий на общественный строй путем образования первых начатков наследственного дворянства и монархии; рабство, сперва одних только военнопленных, но уже подготовляющее возможность порабощения собственных соплеменников и даже сородичей; совершающееся уже вырождение былой войны между племенами в систематический разбой на суше и на поре в целях захвата скота, рабов и сокровищ, превращение ее в регулярный промысел; одним словом, восхваление и почитание богатства как высшего блага и злоупотребление древними родовыми учреждениями для оправдания насильственного грабежа богатств. Недоставало только одного: учреждения, которое обеспечивало бы вновь приобретенные богатства отдельных лиц (государства. - Ред.)..."[10]
Такова заключительная стадия греческого варварства. Более поздних моментов мы в гомеровском эпосе не найдем: там нет еще ни государства, ни рабовладельческого строя (хотя рабы уже есть), ни четкого оформления классов. Внесение всех этих моментов в "героическую эпоху", попадающееся иногда и в советской литературе о Гомере,[11] совершенно неправомерно и не оправдывается никакими фактическими данными самих поэм.
В полную противоположность взгляду Энгельса, буржуазные ученые останавливают свое внимание на произвольно выбранном ими социально-историческом моменте и рассматривают его не как начальный или конечный момент развития, а как социальную основу всего гомеровского эпоса. Выше было указано (глава I, стр. 17), что раскопки Трои на Гиссарлыкском холме и открытие Шлиманом так называемой "микенской культуры" повели вначале к полному отождествлению материальных фактов, полученных из раскопок, с бытом, изображенным у Гомера. Скоро, однако, были замечены противоречия между Гомером и археологическими данными, и ученые быстро перешли к другой крайности - к отрицанию всякой связи между "микенским" и "гомеровским" обществом. Начиная с 90-х годов и вплоть до самого недавнего времени наиболее распространенным мнением было отождествление социальной картины, которую дают гомеровские поэмы, с теми политическими условиями, которые существовали в греческих полисах Малой Азии перед началом напряженной борьбы между землевладельческой аристократией, ставшей уже господствующей группой рабовладельческого класса, и городскими ремесленно-торговыми кругами (зажиточной частью демоса), выдвигавшими тираннов. Эта точка зрения полностью отражена в основном сводном труде по Гомеру, появившемся в XX веке, - у Георга Финслера.
Финслер развивает идеи, намеченные ранее в общих чертах Виламовиц-Меллендорфом в его работе "Государство и общество греков".[12] Сходную точку зрения мы находим и у ряда других ученых. В основном она сводится к тому, что "гомеровская эпоха" рассматривается как "греческое средневековье" - промежуточный период между крито-микенской "древностью" и собственно исторической Грецией после VIII века до н. э. "Микенская" эпоха решительно отгораживалась от последующего времени, и допускались лишь отдельные пережитки ее в гомеровское время.
За последнее десятилетие и буржуазная наука решительно меняет свои взгляды и признает, что по крайней мере позднемикенский период есть неотъемлемая часть собственно греческой истории, период, непосредственно примыкающий к гомеровскому времени. Такую позицию очень решительно занял во всех своих работах М. П. Нильссон, а также Глоц в своей "Греческой истории". Однако это не значит, что исторические построения этих ученых в целом могут оказаться приемлемыми для нас. И Нильссон в книге "Гомер и Микены" (1933), и Виламовиц-Меллендорф в большой вводной главе к своему посмертному труду "Религия эллинов" (1931-1932) находятся под сильным влиянием концепции Чадвика, развитой им в книге "Героический век" (1912). Чадвик рассматривает послемикенское время, черты которого определились понижением культуры и сильным ослаблением связей Греции со странами классического Востока, как "век викингов", в который господствуют переселения и морские экспедиции. Настойчиво проводится сравнение властителей Пелопоннеса - ахейцев с норманнами. Вообще сближение греков "героического века" с германскими племенами эпохи переселения народов III-VI веков н. э. очень распространено в буржуазной исторической науке. У одних ученых (Бете, Корнеманн, Карл Шухардт) оно обосновывается изначальным "родством" этих двух "индоевропейских народов", будто бы не образовавшихся в процессе племенных скрещений, а существовавших искони. Другие ищут основания в сходстве социальных условий. Второе обоснование совершенно правомерно, но требует уточнения. Энгельс также считает, что к "высшей ступени варварства" принадлежат, так же как и "... греки героической эпохи, италийские племена незадолго до основания Рима, германцы времен Тацита, норманны эпохи викингов".[13] Сходство социальных условий бесспорно, но марксистско-ленинский исторический метод доказал необходимость изучения каждого явления во всей его специфике, а не в общих схематических чертах, на основании аналогий. Буржуазные же историки пытаются восполнить недостаточно ясную (из-за отсутствия письменных источников) картину древнейшей греческой истории приписыванием ей явлений древнегерманской общественности, но при этом забывают, что западноевропейский феодализм имел глубокие корни еще в поздних формах римского общества, которое, как хорошо нам известно, было одним из слагаемых феодализма,[14] а социальный строй общества, предшествовавшего так называемому "греческому средневековью", т. е. крито-микенского общества эпохи его расцвета, нам совершенно неизвестен. На этот счет существуют только самые разноречивые и непримиримые друг с другом гипотезы.
Поэтому мы должны исходить в характеристике "гомеровского общества" только из тех черт, которые мы можем извлечь из самого гомеровского эпоса и из данных материальной культуры. При этом следует учитывать, что вследствие длительности времени, которое протекло от зарождения эпических песен, прославляющих подвиги героев, до создания больших эпопей и циклов, - данные самого эпоса не могут быть вполне однородными. Процесс разложения родового строя непрерывно ускорялся, новое боролось со старым, не будучи иногда в состоянии вытеснить его совершенно. Все это не могло не находить отражения в эпической поэзии.
[1] Некоторые ученые предлагают для обозначения мифа на такой стадии не совсем удачный термин „мифологема“ (ср., например, статью О. Фрейденберг в сборнике „Тристан и Изольда“. Л., 1932, стр. 91—114).
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 13.
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 200.
[4] Об этом см. ниже, в дополнении к главе VI („Современное положение гомеровского вопроса“).
[5] Этническое оформление греческих племен всего вероятнее относить к „средней ступени варварства“, связанной с большими племенными передвижениями (см. выше, главу 11, § 1).
[6] Ср. напр. Wilamowitz Moellendorff, Die griechische Literatur des Altertums (в серии „Die Kultur der Gegenwart“, Teil I, Abt. VIII), стр. 7—S: „Das Epos höfisch“.
[7] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч.1, стр. 13.
[8] Там же, стр. 83.
[9] Там же, стр. 83—86.
[10] К. Маркс и Ф. Энгелье, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 86—87.
[11] Ср., например, вводные статьи к изданию „Илиады“ в переводе Н. И. Гнедича, выпущенном в 1935 г. изд. „Academie“.
[12] Wi1amowitz Moellendorff, Staat und Gesellschaft der Griechen. 2–е изд., 1914, в серии „Die Kultur der Gegenwart“, издававшейся Гиннебергом, стр. 202—220. Финслеру принадлежит также специальная статья „Das homerische Königtum (Neue Jahrb. f. d. klass. Altertum, 1906, Bd. 17).
[13] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 13.
[14] Ср. характеристику поздней империи у Энгельса (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 124—128).
ЭПОС
Глава V ГОМЕР
1. ВОПРОС О ЛИЧНОСТИ ГОМЕРА В ДРЕВНОСТИ
Древняя Греция считала Гомера автором целого ряда произведений героического эпоса. Греки, по видимому, долгое время приписывали ему не только то, что до конца античного мира оставалось за ним ("Илиада", "Одиссея", "гомеровские гимны", "гомеровские эпиграммы", "Маргит" и "Война мышей и лягушек"), но и все другие эпические произведения, которые позже стали называть "киклическими" поэмами (см. ниже главу IX). По свидетельству Павсания (IX, 9, 5), элегический поэт начала VII века до н. э. Каллин Эфесский упоминал Гомера не как автора поэм троянского цикла, а как автора "Фиваиды". А это сохраненное у Павсания свидетельство является древнейшим известным нам упоминанием имени Гомера. Однако приписываемое киклическим поэмам авторство Гомера очень рано начинает вызывать сомнения.
Так, уже Геродот оспаривает гомеровское авторство "Киприй" (II, 117) и сомневается в авторстве "Эпигонов" (IV, 32). Аристотель в своей "Поэтике" (гл. 23) прямо противопоставляет киклические поэмы поэмам Гомера. В александрийский период киклические поэмы ("Киприи", "Малая Илиада" и др.) уже не приписывались Гомеру.[1] Гимны продолжали считаться произведениями Гомера и в Византии.
Но если для самих древних был неясен вопрос о списке произведений Гомера, то еще более неясной представлялась им его биография. Тем не менее, весь античный мир верил в реальность личности этого поэта-слепца, а греки считали его своим национальным поэтом и учителем поколений. Не знали древние и времени, когда жил Гомер. Одни считали его современником Гесиода (VIII век), другие полагали, что он жил раньше него, третьи - позже, т. е., что он был моложе Гесиода.[2] С некоторой неопределенностью говорит о них и Геродот (II, 53): "Мне кажется, что Гесиод и Гомер жили не более как за 400 лет до меня".
Дошедшие до нас древние жизнеописания Гомера полны самыми фантастическими данными. Восемь таких жизнеописаний были изданы в 1845 г. Вестерманом [3] и детально изучены сперва Зенгебушем, а затем Э. Роде и Т. Алленом.[4] В настоящее время никто уже не сомневается в том, что никакой исторической ценности эти жизнеописания не представляют.
Первая из этих биографий (Vita Herodotea) приписывалась Геродоту.[5] Автор ее старался подделаться под язык Геродота, избегал ссылок на поздние источники. Однако все-таки сопоставление биографии с высказываниями самого этого историка о Гомере показывает, что нет никаких оснований для признания авторства Геродота. Основным источником ее были так называемые "гомеровские эпиграммы".
Следующие две биографии (Vita Α и Vita Β) также без оснований приписывались Плутарху.[6] Остальные были всегда анонимными. К этим биографиям надо еще присоединить также анонимное "Состязание Гомера и Гесиода" (Ἀγὼν Ὁμήρου καὶ Ἡσιόδου), известное нам в обработке II века н. э., хотя небольшой папирусный отрывок III века до н. э. показывает, что оно существовало уже в начале эллинистического периода.[7]
Наконец, биографию Гомера излагает Свида в статье своего лексикона, посвященной этому поэту.
Английский гомеровед Томас Аллен в своей книге о Гомере [8] свел воедино данные древних биографий Гомера и представил их в виде таблицы (стр. 32-33). Из этой таблицы наглядно видна вся противоречивость биографических данных о Гомере. Так, его отцом жизнеописания называют бога Аполлона, Телемаха, Меона, Мелета, Дмасагора; матерью - Крефеиду, Метиду, Фемисту, Гирнефо, Каллиопу, Поликасту, Климену, Эвметиду, итакиянку, имени которой не сохранилось, и др. Сам Гомер будто бы носил раньше имя Мелесигена, потому что мать его, Крефеида, родила его на реке Мелете (Μέλης). Эта Крефеида, по псевдогеродотовской биографии бывшая простой смертной, жившей в эолийской Киме, у псевдо-Плутарха оказывается нимфой, которая и родит Гомера от бога реки Мелета. Этот же источник сообщает, что Мелесиген (или Мелесианакт) ослеп и стал тогда называться "гомером", как вообще на эолийском наречии называли слепцов (οί γὰρ Αίολείς τοὺς τυφλοὺς όμήρους καλοῦσιν).[9]
Самые разноречивые данные сообщаются о месте рождения Гомера.
В Греции было популярно двустишие, начинавшееся словами: "Семь городов, пререкаясь, зовутся отчизной Гомера" (Ἑπτά πόλεις διερίζουσιν περί ῥίζαν Ὁμήρου). Во втором стихе назывались семь городов, но так как этот второй стих имел несколько вариантов, то городов оказывалось не семь, а больше. Не сходятся данные и о путешествиях Гомера. По псевдо-Геродоту, Гомер побывал во всех местах малоазиатских греческих поселений, где было распространено эпическое творчество аэдов, но не бывал в континентальной Греции. "Состязание" же, наоборот, указывает на посещение им Дельф, Халкиды, Авлиды, Афин, Коринфа и Аргоса. Источники сходятся только в одном - в том, что умер Гомер на острове Иосе (около острова Феры).
Что касается списка произведений, автором которых считался Гомер, то большинство жизнеописаний называет именно те, которые указаны выше и которые считались плодом его творчества вплоть до византийского периода. Из киклических поэм приписывает ему "Фиваиду" и "Эпигонов" только "Состязание", Свида же называет еще целый ряд поэм, о которых мы ничего не знаем: "Амазонию", "Арахномахию" ("Война пауков"), "Гераномахию" ("Война журавлей"), "Керамиду", "Взятие Сицилии" (Σικελίας ἄλωσις), "Изгнание Амфиарая" (Ἁμφιαράου ἐξέλασις).
Подавляющее большинство источников утверждает, что Гомер жил после Троянской войны, и лишь немногие допускают, что он мог быть ее современником. Однако дается самое разнообразное число лет, отделяющих жизнь Гомера и написание "Илиады" и "Одиссеи" от Троянской войны: 60, 80, 100, 140, 160 и даже 275 лет.
Современные ученые полагают, что все элементы, вошедшие в состав биографии Гомера, не старше VI века до н. э. Считают, что уже в V веке имело широкое распространение прозаическое произведение Βίος Ὀμήρου,[10] значительная часть которого вошла в "Состязание", а вместе с тем послужила основным источником для националистической переработки дошедшей до нас псевдогеродотовской биографии. Допускают, однако, что могла существовать чисто поэтическая редакция этого Βίος уже и в VI и даже в VII веке до н. э. Это последнее предположение следует признать очень сомнительным, так как оно основывается лишь на весьма неясных намеках у Архилоха. Этот первоначальный Βίος должен был иметь хождение среди рапсодов, исполнявших произведения Гомера и несомненно интересовавшихся личностью того, кого считали родоначальником их поэтического искусства.
Филологи много потрудились над тем, чтобы проследить историю развития предания о личности Гомера. Этот предмет служил им поводом для применения изощренных методов историко-критического анализа. Хотя самый вопрос и представляет большой методический интерес, но для изучения гомеровского эпоса и его литературного значения все это ничего дать не может. Сам эпос складывался много раньше, чем возникли первые элементы "биографии" того, кому приписывалось его сочинение.
Тем не менее, из изучения этих биографий можно вывести следующие заключения о распространении ионийского эпоса: а) большое значение в истории развития эпоса имел остров Хиос, где впоследствии целый род рапсодов называл себя "гомеридами",[11] б) другим важным эпическим центром был город Смирна, в) а на острове Самосе был центр эпического творчества, не зависимого от "гомеридов" и связываемого с именем аэда Креофила. Образцом этой другой древнейшей эпической традиции была, по видимому, не дошедшая до нас поэма "Взятие Эхалии" (Οίχαλίας ἄλωσις), повествовавшая о смерти Геракла.[12]
[1] О теории так называемых „хоризонтов“, считавших, что „Илиада“ и „Одиссея“ написаны разными лицами, см. ниже (глава VI, стр. 120, и т. II, раздел VII).
[2] К первой группе относятся Ферекид, Гелланик и Геродот (II, 53); ко второй — Ксенофан, Гераклид Понтийский, Филохор, все александрийские ученые и Цицерон, указывавший, что у Гесиода более широкий географический кругозор; к третьей— историк Эфор, „Паросская хроника“, Акций, Филострат и византийский ученый XII века — Иоанн Цец (указываем только важнейших авторов).
[3] A. Westermann, Βιογράφοι, Брауншвейг, 1845. Новейшим и самый удобным изданием всех биографических источников о Гомере, собранных вместе, является том V издания „Homeri opera. Recognoverunt… D. B. Μonroet T. W. Allen“ ( Оксфорд, б. г.).
[4] M. Sengebusch, Homerica dissertatio 11 (1856); E. Rohde. Kleine Schriften, т. I. Роде исправил много ошибочных суждений Зенгебуша. О книге Аллена см. примеч.7.
[5] Татиан, Против греков, гл. 31; Евстафий, К „Илиаде“ 4, 27; Свида, под слоном „ Гомер“ (Перепеч. в изд. Monro — Allen, т. V, стр. 256—268).
[6] Авл Геллий, II, 8-9 и IV, 11; схолии А к Ил. XIV, 625 и др.
[7] Flinders Petrie, Papyri. Дублин, 1891, стр. 70 № 2
[8] T. W. Allen, Homer. The origin and transmission, Оксфорд, 1924, стр. 11—41.
[9] Другие жизнеописания указывают, что Ὄμηρος означало „заложник“.
[10] Косвенные указания на этот Βίος мы имеем у Симонида, Пиндара, Асия Самосского, Исократа, Эвгеона, или Эвагона (Müller, FHG, т. II, стр. 2).
[11] См. словарь Гарпократиона, под словом „Гомериды“.
[12] См. ниже главу IX, стр. 158. Этот сюжет известен нам также по „Трахинянкам“ Софокла.
2. АЭДЫ И РАПСОДЫ
В гомеровских поэмах не раз упоминаются эпические песни и их творцы. Среди этих песен особого внимания заслуживают исторические или героические. Так следует понимать песни, темой которых являются славные подвиги витязей, исполняемые под аккомпанемент струнного инструмента в "Илиаде" Ахиллесом у себя в палатке (по одному пониманию ст. 191 песни IX "Илиады"- в антифонном чередовании с пением Патрокла). Ахиллес, вождь мирмидонян, не является специалистом сказителем былин, как те аэды, которых Гомер называет δημιοεργοί. Очевидно, песни, подобные песне Ахиллеса, мог исполнять всякий из народа при известной музыкальной подготовке.
Новейшее сравнительное изучение развития эпоса у разных европейских народов намечает следующие его ступени: а) импровизацию в среде народа (образчик - эпос у каракиргизов, по описанию В. В. Радлова), где нет никаких постоянных форм: песни все время меняются в устах каждого нового певца; б) возникновение определенной табулатуры (термин средневекового западноевропейского эпоса), т. е. появление запаса повторяющихся отдельных песен в определенном складе; в) сосредоточение песни вокруг одной фабулы, подготовку больших национальных эпических поэм. "Славословие героев" (κλέα ἀνδρῶν) в устах Ахиллеса скорее всего следует сблизить с первой ступенью - с импровизацией. Но скоро, однако, наступает момент, когда песня в ее определенной форме становится неизменной, когда авторы смотрят на эту форму как на средство сохранять в памяти потомства подвиги героев, увековеченные преданием. Любопытно, что неграмотный певец новой Греции, слагавший в XIII веке на Крите песнь (τραγούδι) в честь героя национальной борьбы за независимость, видел в ее стихотворной форме залог сохранения в памяти потомства.[1]
Такому закреплению в памяти потомства устного исполнения эпоса способствовало и чрезвычайно живое отношение слушателей к содержанию песни. О силе впечатления такой песни говорят и наблюдения над исполнением в Грузии поэмы Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре". Поэма исполняется иногда при молотьбе; слушатели восклицают: "Верно! Согласен! Я был при этом!" Настолько сильно их воображение.
Ученые XIX-XX веков в большинстве своем предполагают, что отдельные песни или части поэм, позже вошедшие в составе гомеровских поэм, более или менее долгое время жили в устной традиции специалистов-сказителей - аэдов, гомеридов, рапсодов.
Существование сказителей эпоса, как особой группы мастеров своего дела, в среде которых из поколения в поколение бытовал эпос и которые одни владели определенной техникой искусства исполнения его, является одним из основных тезисов "Введения к Гомеру" Вольфа (1795). Это "Введение" и положило начало обширной ученой литературе, посвященной так называемому гомеровскому вопросу. В "Одиссее" (XVII, 382 сл ) аэд называется в числе других мастеров разных знаний и ремесл: "Станет ли кто, посетив чужие края, приглашать оттуда к себе на родину иного какого гостя, кроме мастера, гадателя, врача, плотника или божественного певца, который будет услаждать его пением? Вот кто только является званым гостем на широком просторе земли". Искусство эпического певца, вернее сказителя, есть такое же ремесло, профессия, как занятие плотника, целителя недугов, гадателя, - ремесло, требующее специальных знаний, сноровки и, конечно, таланта. "Я самоучка (αὐτοδίδακτος), - говорит о себе певец в Одиссее (XXII, 347), - но бог вложил мне в душу дар ко всяким порядкам [или рядам] песен". "Муза возлюбила певца" (Од. VIII, 63). Это выражение "самоучка" указывает на легкость, с какою сказителю дается исполнение былины. Он уже сам не отдает себе отчета в своем искусстве, оно кажется ему каким-то даром природы. Певец, добывая себе своим ремеслом пропитание, странствует из одной области в другую, распевая свои песни на пирах знати и среди народа. "Пошли мне, благостная, за песнь хлеба в изобилии", - молит певец богиню Деметру в "Гомеровском гимне" (ст. 494). Обыкновенно длинная былина начинается обращением к божеству: так и у Гомера певец "начинает с бога" (θεοῦ ῆρχενο. Од. VIII, ст. 499). Малые гомеровские гимны к богам, дошедшие до нас в сборниках, приписываемых Гомеру, могли быть такими вступлениями к былинам (они так и называются προοίμια). Незатейливый музыкальный инструмент, вроде тех, которые употребляют наши кобзари, служил для музыкальной интродукции, а также в минуты отдыха певца. Постоянное музыкальное сопровождение не было свойственно исполнению былин.
Некоторые современные ученые[2] особенно резко противопоставляют в последнее время ступени стиха, распеваемого аэдом, и стиха, говоримого рапсодом. Образчиком первого рода, особенно характерным, по Бете, является ссора вождей в первой части первой песни "Илиады". Бете сопоставляет ее по стилю с 4-й пифийской одой Пиндара и Вакхилидовой балладой "Минос и Тезей", которую он считает как бы продолжением в том же стиле.
Мы знакомимся, таким образом, из указаний в гомеровских поэмах с двумя ступенями литературной обработки народного сказания о героях: 1) с той - где песнь доступна исполнению любого из народа (Ахиллес в песни IX "Илиады") и где она, очевидно, поется, а не сказывается, как былина, и 2) с тою ступенью, где та же песнь в новой форме исполняется профессиональными певцами-сказителями (ἀοιδοί, δημιοεργοί).[3] Как же совершалось дальнейшее развитие таких отдельных песен-былин в более сложное целое - в эпопею?
На этот вопрос отвечает анализ обеих гомеровских поэм, но некоторые намеки мы видим и в самом их тексте.
В "Одиссее" (I, 351) мы находим указание на то, что больше всего влекло слушателей к аэду: "Ведь охотнее всего люди слушают ту песнь, которая представляет для них самую свежую новинку". Призвание аэда выделяло его из толпы. В немом молчании слушает певца публика. Он, как колдун, чарует ее, приковывает ее внимание своим искусством на долгие часы: Фемий в первой песни "Одиссеи" поет свою песнь о возвращении ахейцев из-под Трои до позднего вечера. "Ты умело, как певец, изложил свой рассказ", - говорит Одиссею Алкиной (Од. XI, 368), находя сравнение с певцом лучшей похвалой "прелести речей" (μορφή ἐπέων) своего гостя. В это "умение" (ἐπιστήμη) эпического певца входило все, начиная с языка эпоса, отличного от разговорного (см. выше, главу II, § 3), стихотворного метра, модуляций голоса, в которых сказывалась былина, до усвоения обширного запаса установленных формул для описания актов бытовой и религиозной жизни (описания приемов пищи и питья, пробуждения утром и укладывания спать, жертвоприношений), сравнений кратких и детализованных, постоянных эпитетов, приемов композиции, искусства характеристики действующих лиц рассказа. Средством последнего является обычно у аэда разнообразие речевых приемов героев.
Конечно, все это искусство развивалось постепенно. Сперва это· были так называемые "порядки" или "вереницы" песен (οἶμαι). Этот термин три раза встречается в "Одиссее" (VIII, 74, 481, XXII, 347). Только тематическим стержнем, вокруг которого складывается целый "ряд" песен, является в первой песни "Одиссеи" тема возвращения ахейцев из-под Трои (сюжет киклической поэмы Νόστοι) в исполнении певца Демодока. Такой же "ряд" песен, "слава которого восходит до небес", представляет (Од. VIII, 74) ссора Одиссея с Ахиллесом, сюжет, точнее нам неизвестный. Одиссей хвалит Демодока за исполнение такой οἶμη (VIII, 489): "Ты в чрезвычайном порядке (λίην γάρ κατὰ κόσμον) поёшь о гибели ахейцев о всём, что они свершили, что вынесли, и сколько выстрадали". Здесь κόσμος скорее всего следует отнести к композиции поэмы.
В песни XIX "Илиады" Ахиллес говорит Агамемнону (ст. 63 сл.), что ахейцы "долго еще будут вспоминать о моей ссоре с тобой". Елена говорит о Парисе (Ил. VI, 355-359), обращаясь к деверю своему Гектору: "Твою душу объяло больше всего страдание из-за меня, суки, и из-за поздрачнения Александра, кому Зевс положил злую гибель, так что и впредь мы останемся предметом воспевания грядущих поколений". Можно полагать, что в обоих этих случаях мы имеем дело с "пророчеством по его исполнении" (vaticinium post eventum). Поэт дает нам ясно понять, что в его время уже существовала некоторая поэма на основной сюжет "Илиады".
М. Чадвик в своей книге "Героический век" (1912) путем аналогии между древнегерманским и древнегреческим эпосами прочно установил, что между отдельной песнью и большим эпосом лежит длительное развитие.
Такой период развития должен падать в Греции на время между позднемикенской и гомеровской культурой. Здесь должны быть выяснены конкретные ступени развития. Это в применении к гомеровскому эпосу пока стоит еще как задача.
В VII-V веках до н. э. певцов-аэдов сменяют рапсоды, которые с запасом заученных ими эпических песен странствуют по греческим городам. О них мы имеем сведения у Геродота (V, 67), который говорит о мероприятиях сикионского тиранна Клисфена против рапсодов, исполнявших гомеровские поэмы. Фукидид (III, 104) из "гомеровского" гимна к Аполлону Делосскому заключает, что у ионийцев и островитян было некогда в обычае собираться на острове Делосе в праздники Аполлона для устройства состязаний певцов. И если Фукидид воздеражался здесь от самого слова "рапсод", то потому, что был уверен в том, что и сам Гомер являлся участником таких агонов ("слепец, живший на утесистом Хиосе"). Пиндар, во 2-й немейской оде, говорит о рапсодах, называя их вместе с тем гомеридами.
Схолии же к 2-й немейской оде Пиндара делают важное примечание к этому месту: "Прежде называли Гомеридами людей, которые происходили от рода Гомера и пели его поэмы, передавая их друг другу из поколения в поколение, а потом стали так называться и рапсоды, не происходившие от Гомера".
Из истории эпоса разных народов мы знаем о существовании таких же певцов - специалистов своего дела. В истории старофранцузского эпоса различаются труверы-сочинители и жонглеры-исполнители (латинск. jaculatores). У южных сланян в некоторых областях развилось сословие странствующих певцов, которые назывались "слепачами", даже если и не были слепыми. Перенос названия на зрячих народных певцов объясняется тем, что слепые, которых природа лишила возможности заниматься другими ремеслами, чаще всего берутся за ремесло певца. У финнов такими были lauläjä, или tieläjä (певец, или вещий). У исследованных В. В. Радловым севернотюркских племен (абаканских татар и каракиргизов) образовалось особое сословие певцов, именуемое акынами.
Придворные певцы феодалов выдвинулись в эпоху, предшествовавшую завоеваниям киргизов русскими. Поэзия киргизов напоена тоской по этой отжившей поре.[4]
[1] Fauriel, Chants populaires de la Grèce moderne, т. II. стр. 358, — песнь во славу Георгия Скатоверги.
[2] Например, Э. Бете, в начале т. I своего сочинения „Homer, Dichtung und Sage“ (1914), противопоставляет термины „Singvers“ и „Sprechvers“.
[3] Указания на первую ступень у германских племен мы находим и у готского историка Иордана (Getica, гл. 5), где он говорит, что сами готские князья gesta maiorum modulationibus cytharisque canebant (воспевали подвиги предков).
[4] О характере народного эпоса тюркских народов в сопоставлении с гомеровским эпосом см. § 9 данной главы.
3. ТРОЯНСКИЙ ЭПИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Намеченные выше контуры путей развития эпического творчества аэдов, выясняемые как из указаний и намеков, которые содержатся в "Илиаде" и в "Одиссее", так и из сопоставления этих, уже получивших собственно-литературное оформление поэм, с одной стороны, с поэмами типа "Песни о Нибелунгах", с другой - с чисто народным эпосом устной традиции (русские былины, монгольский, киргизский и другие эпосы), - показывают нам, что этот путь приводит к созданию больших эпопей. Такие эпопеи создаются на основе выбранной из большого эпического материала центральной темы, способствующей драматизации и большому напряжению действия. Но эта тема развертывается поэтом не в сжатых и максимально насыщенных поэтической выразительностью формах (как это имеет место позже в греческой трагедии, черпающей свои сюжеты из того же эпического материала), а в форме медленно развивающегося изложения, в том же "эпическом стиле", который был выработан устной традицией. Последняя, при всей своей консервативности и архаизирующей стилистической тенденции, не является, однако, чем-то совершенно застывшим. Она эволюционирует, видоизменяется, от пения переходит к сказу. Эволюция стиля эпического творчества не есть при этом нечто самодовлеющее и независимое - она обусловлена изменениями и в сюжетных построениях эпоса. Песни о подвигах отдельных героев, возникшие иногда в разное время и на разной исторической основе, "циклизуются" вокруг какого либо одного события. Это событие имеет, наверное, всегда историческую основу, которая, однако, становится темой эпического цикла не в своей реальности, а в фантастическом преломлении, которое иногда увеличивает действительное значение события до гиперболических размеров.
Поэтическая гиперболизация опять-таки никогда не бывает исторически беспочвенной: непомерно расширяя роль отдельного факта, она. исходит при этом из исторических задач, стоящих перед данным народом, из его национальных идеалов. Таково превращение стычки франкского арьергарда с басками в Ронсевальском ущелье в Пиренеях в 778 г. (засвидетельствованное биографом Карла Великого Эйнхардтом) в сюжет "Песни о Роланде", где второстепенный соратник Карла Хруодланд становится главным героем национальной борьбы франков с арабами, длившейся много десятилетий. Иногда такой гиперболизации не происходит. Так, борьба Киевской Руси со степными кочевниками, являющаяся темой основного, цикла русских былин (так называемых "былин о младших богатырях"), действительно была одним из основных фактов истории Киевского государства.
Вырастание из эпического цикла большой эпопеи, которая включает в свой сюжет только определенный отрезок тематического содержания всего цикла, но предполагает все остальное содержание известным, - имеет место не всегда. Русские былины так и остановились на стадии "циклизации" былин о подвигах отдельных богатырей вокруг двора киевского князя, причем в цикл вошли былины с исторической основой X-XI, XIII-XIV и XVI-XVII столетий. Эту стадию мы с полным основанием должны предполагать и в творчестве ионийских аэдов.
Троянский эпический цикл вобрал в себя сюжеты многих песен, исторически не связанных с борьбою эолийских колонизаторов за укрепление на берегах Геллеспонта. При детальном анализе оказывается, что многие эпизоды "Илиады" исторически связаны только с континентальной Грецией и, очевидно, были принесены колонистами в Малую Азию со своей родины.
4. "ИЛИАДА"
"Илиада" открывается событиями, происходящими в лагере ахейцев на десятом году войны. В песни I происходит ссора между верховным вождем ахейского войска, микенским басилевсом Агамемноном, и Ахиллесом, вождем фессалийского племени мирмидонян. Ахиллес вступается за народ, страдающий от морового поветрия, насланного Аполлоном за обиду его жреца Хриса, и требует примирения с Хрисом. По его настоянию к последнему отправляется посольство ахейцев, с которым возвращается дочь Хриса Хрисеида. Агамемнон, владевший ею, как пленницей, отнимает у Ахиллеса, его собственную пленницу Брисеиду.
Ссора оканчивается отказом Ахиллеса от участия в войне и обращением Ахиллеса к своей матери Фетиде с просьбой склонить Зевса к мести ахейцам за него, Ахиллеса, и к их поражению.
Следующие песни (III-IV) переносят нас к Трое, где происходят война между троянцами и ахейцами. Введением служит песнь II, где Агамемнон, поддавшись обманчивому сну, посланному ему Зевсом, пробует, однако, наперекор этому знамению склонить ахейцев к отъезду из-под Трои, отказу от всего предприятия и бегству на родину. Этот неожиданный поворот в решении Агамемнона не вполне ясен. Он хотел испытать общее настроение войска. Как он объясняет Нестору (ст. 375 слл.), колебание и сомнение его определяется ссорой с Ахиллесом и сознанием, что он в ней зачинщик (ст. 378).
Особое значение в этой песня имеет выступление рядового воина Ферсита против вождей. Ферсит, усмиряемый Одиссеем, изображен в "Илиаде" в самом непривлекательном виде, но. его выступление очень знаменательно: оно показывает расслоение общества и наличие оппозиции по отношению к родовой знати. Ферсит говорит в своем выступлении (ст. 225-238):
Чем ты опять недоволен, Атрид, и чего ты желаешь?
Меди полна твоя ставка и множество в ставке прекрасных
Женщин, отборнейших пленниц, которых тебе мы, ахейцы.
Первому выбрать даем, когда города разоряем.
Золота ль хочешь еще, чтоб его кто-нибудь из троянских
Конников вынес тебе для выкупа сына, который
Связанным был бы иль мной приведен, иль другим из ахейцев?
Хочешь ли женщины новой, чтоб с ней наслаждаться любовью,
Чтоб и ее для себя удержать? Подходящее ль дело,
Чтоб предводитель ахейских сынов вовлекал их в несчастье?
Слабые, жалкие трусы! Ахеянки вы, не ахейцы!
Едем обратно домой на судах! А ему предоставим
Здесь же добычу свою переваривать; пусть он увидит,
Есть ли какая-нибудь и от нас ему помощь, иль нету...
(перев. В. В. Вересаева)
Вторая часть песни отведена каталогу ахейских кораблей и перечислению сил троянцев и их союзников.
В начале песни III описывается наступление друг на друга обеих сторон; но потом Парис-Александр предлагает устроить поединок для решения вопроса о Елене и сокровищах. В решающий момент поединок оканчивается похищением Афродитою Париса с поля битвы и перенесением его в покои Елены. В собрании богов в начале песни IV Афине дают поручение - убедить ликийца Пандара пустить стрелу в Менелая и нарушить договор. Сражение возобновляется после обхода Агемемноном своих вождей. Песнь V носит название "Подвиги Диомеда", который вступает в бой с самими богами. Песнь VI посвящена отправлению в Трою Гектора для устройства моления Афине в крепости. В центре внимания здесь одна из великолепнейших сцен "Илиады" - прощание Гектора с Андромахой и малолетним сыном. Оба брата - Гектор и Парис уходят на поле битвы. В песни VII устраивается новый поединок Аякса с Гектором. Это скорее турнир: силы равны, происходит обмен подарками. С обеих сторон возникает мысль заключить перемирие для похорон убитых. Ахейцы соединяют с этим мысль о постройке стены со рвом для защиты кораблей. В представлении об этом укреплении в "Илиаде" нет согласия. То это только ров (песнь XI), то действительно стена с воротами (песнь IX, ст 348 слл.).
Песнь VIII открывается строгим приказом Зевса прочим богам не принимать участия в битвах смертных. Битвы этой песни заканчиваются успехом троянцев, которые, предупреждая бегство ахейцев по морю, зажигают по городу и боевому полю множество сторожевых огней. Песнь IX "Посольство" (πρεσβεῖα) изображает тщетную попытку посольства Агамемнона к Ахиллесу умилостивить последнего и побудить его вернуться к участию в битвах. Несмотря на все искусство убеждения послов, и в особенности опытного во всех риторических приемах Одиссея, Ахиллес остается непреклонным. Песнь X ("Долония") считалась еще самими древними вставным эпизодом, который иные переносили в другое место. Это - эпизод ночного подвига Диомеда и Одиссея- похищение коней фракийского царя Реса. Песнь XI -"Подвиги Агамемнона". Под конец их он ранен, ранены и другие ахейцы, в том числе Эврипил. Раненого Махаона увозит на своей колеснице Нестор. В этот момент Ахиллес, стоя на корме своего корабля и видя это, посылает Патрокла узнать, кого везет Нестор. Затем Патрокл (со ст. 809 до конца) уводит Эврипила, раненого в том же бою, в свою палатку (от Эврипила Патрокл уходит уже в XV песни, ст. 390-405). Песни XII-XV представляют битву у построенной ахейцами стены (XII песнь) и продолжение ее с участием Посейдона, являющегося в начале песни XIII. Эти песни развертываются в составе "Илиады" в особую группу эпизодов, в которых стена является постоянной обстановкой боевых сцен. Сторонники "теории основного ядра" считают эти песни вставкою, в которую входят и обольщение Зевса Герою и вмешательство Посейдона в песни XIII. В песни XIV следуют великолепные сцены обольщения Зевса Герою чарами Афродиты и Сна, с целью даровать временный успех ахейцам. В начале песни XV Зевс просыпается на горе Иде, и успех опять возвращается к троянцам. В конце этой песни Патрокл, как было указано выше, спешит к Ахиллесу. Битва, между тем, продолжается. Гектор уже приказывает поджечь корабль Протесилая. Аякс длинным копьем с высокой палубы отражает нападение. В начале песни XVI Патрокл в слезах умоляет Ахиллеса дать ему разрешение притти с мирмидонянами на помощь ахейцам. Ахиллес дает ему свои доспехи. В конце той же песни Патрокла сражает Гектор (но раньше еще наносит ему рану Аполлон и потом Эвфорб). В песни XVII происходит борьба из-за тела Патрокла. Песнь XVIII (Ὁπλοποιία) посвящена приготовлению Гефестом, по просьбе Фетиды, новых доспехов для Ахиллеса взамен надетых Патроклом (впрочем, это не очень ясно и определенно изложено в поэме). Песнь XIX рассказывает о примирении Ахиллеса с Агамемноном, главным образом при участии Одиссея. В начале песни XX - битва богов (Θεομαχία).
В центре ее находится поединок Энея с Ахиллесом. В песни XXI главное место занимает битва Ахиллеса с рекой Ксанфом, причем Гера посылает на помощь Ахиллесу Гефеста, укрощающего реку пламенем.
В песни XXII - гибель Гектора в поединке с Ахиллесом, в XXIII - состязания на могиле Патрокла. Последняя песнь рассказывает о выкупе тела Гектора и заключает поразительную для своего времени сцену свидания Приама с Ахиллесом. Песни XXIII и XXIV давно уже считаются позднейшими добавлениями к поэме.
Новейшие критики, стоящие на точке зрения постепенного развития поэмы ("теория основного ядра"; см. ниже, главу VI, стр. 120), давно уже указали, что к первоначальному составу "Илиады" относятся песни I, II, VII, XI, XVI-XIX, часть XXI и XXII. Однако некоторые считают, что запрещение богам участвовать в битвах смертных в песнях VIII и XIII является мотивом, который был уже в первоначальной поэме.
По соображениям Финслера, "Тейхомахия" (песнь XII) была введена в "Илиаду" тогда, когда песни VIII-X и XIII-XV еще отсутствовали в ней.
К "Тейхомахии" автор ее делает вступление - разрушение стены богами после войны. При этом к топографии поэт отнесся с достаточным произволом, так как большинство рек, направленных богами для разрушения стены, отделено высокими хребтами от Троянской равнины.
В схолиях к этим стихам сделано хорошее примечание, что Гесиод (Феог., ст. 342) должен был при своем перечислении рек Троянской равнины иметь в виду это место песни XII "Илиады", так как из-за незначительности этих рек он мог знать их только по перечислению у Гомера.[1]
Обычно допускают, что песни III-VI (с вступлением к песни II) являются распространением первоначальной "Поэмы о гневе" мотивами позднейшей "Илиады". При этом допущении нужно предположить, что поэт хотел представить и пополнить события в ахейском лагере событиями и на троянской стороне и заполнить время отсутствия Ахиллеса в битвах подвигами Диомеда (песнь V). Для этого он, как в настоящее время думает большинство гомероведов, использовал мотив древней сказки о герое, побеждающем богов.
Вместе с тем, на фоне городской жизни в Трое естественно было выдвинуть домашние сцены и сцены семейных отношений. Может быть, это и послужило причиной того, что автор песни III заставил Афродиту в решительный момент боя похитить Париса и перенести его в опочивальню Елены. Тем же стремлением обусловлено и то, что сам Гектор а не кто другой, посылается с поручением устроить процессию в храм Афины в Трое. Прощание Гектора с Андромахой вызвало необходимость создать такой повод. Критика отмечала, что прощание Гектора с Андромахой происходит задолго до его смерти и что герой возвращается в город и, следовательно, беседа их не была еще последней. Это возражение не обосновано, так как Гектор не встречается более с Андромахой и для выигрышной сцены прощания позже не нашлось бы подходящего места, - Гомер вводит уход Гектора в город, чтобы создать место для прощания. Это прощание специально сочинено поэтом для включения его в то место, где оно находится в окончательной редакции "Илиады" (песнь VI).
Таковы некоторые наблюдения ученых над содержанием "Илиады", показывающие сложность ее состава.
[1] Об этом сопоставлении см. ниже (стр. 127).
5. "ОДИССЕЯ"
Анализ "Одиссеи" показывает, что в нее введен ряд мотивов, которые первоначально были независимы и принадлежали саге или сказке. Такие мотивы находят себе параллели в фольклоре других народов.
Прежде всего сюда относится мотив убийства женихов. Герой возвращается после долгого отсутствия, находит верную супругу, притесняемую женихами, перестреливает их из богатырского лука, от которого никому нет спасенья.
Кроме этого мотива в "Одиссею" введен и другой - новелла о долго отсутствующем отце семейства, который возвращается постаревшим, в одежде нищего и которого узнают при омовении ног. О женихах супруги этот вариант новеллы не сообщал и наверное имел мирное завершение.
Таким же мотивом является рассказ о сыне, который отправляется на поиски давно уехавшего отца. До создания нашей "Одиссеи" должна была существовать особая поэма об этом, которая уже связывала историю сына с именем Одиссея. Телегон, сын Одиссея от Кирки, отправился на поиски отца. Он находит его царем далекой страны. Отец принимает пришельца за приближающегося врага, бросается на него и погибает от удара его копья. Первоначальная версия этого рассказа едва ли могла знать Итаку и Пенелопу.
Сродни этому и версия Телемаха, которая тоже должна быть очень древней. Имя сына (Τηλέμαχος -"далеко сражающийся"), по видимому, указывает на то, что отец отправился в далекую страну воевать. И в этом рассказе Телемах давно связан с Одиссеем, который является отцом его уже в "Илиаде". Ничто само по себе не противоречит предположению, что и история Телемаха в, ее древнейшей версии имела тот же исход, что и история Телегона и древнегерманская песнь о Гильдебранде, с тою лишь разницей, что в последней не сын убивает отца, а отец сына.
Кроме этих эпических мотивов, мы находим в "Одиссее" большой комплекс сказок. Многочисленные мотивы странствований известны как связанные друг с другом и вне "Одиссеи". Конечно, связь их в фольклоре не всегда одинакова. Сколько из этих мотивов существовало раньше отдельно друг от друга и было сведено воедино вокруг имени Одиссея, решить трудно. Приключение с Киклопом, во всяком случае, происходит прямо из народной сказки.[1]
О содержании "Одиссеи" мы находим весьма интересные высказывания в "Поэтике" Аристотеля (гл. 17):
"В драме - говорит Аристотель, - эпизоды коротки, эпос ими расширяется. Например, фабула "Одиссеи" мала. Некто много лет в одиночестве пребывает вне родины и преследуется Посейдоном. Дома дела обстоят так, что его имущество расхищается женихами и сыну его грозят от них козни. Тут он возвращается сам после бурного скитанья, дает себя узнать некоторым и нападает на женихов, им на погибель, себе к победе. Это собственное; остальное - эпизоды".
Аристотель не имеет в виду первоначальной саги. То, что он рассматривает как ядро "Одиссеи", для него есть вымысел самого автора.
Полвека назад ученые считали, что "Телемахия" охватывает четыре отдельные песни, но теперь идут далее и предполагают, что ее рассказ различим - во многих сценах - до самого конца "Одиссеи". Однако на ряду со следами "Телемахии" мы находим в поэме ряд сцен, и притом самых великолепных, которые не могли быть первоначальными частями "Телемахии". Таков, прежде всего, кульминационный пункт всего действия - убийство женихов. Изображение этого убийства в поэме не вполне ясно. Вооруженный необоримым луком мститель не располагает достаточным количеством стрел, чтобы перестрелять всех женихов, и вынужден взяться за иное оружие, чтобы закончить дело мести.
В этой части боя к нему подходит Афина, которая при стрельбе из лука отсутствовала. Как ни искусно проведена связь обеих частей, однако целое не могло возникнуть из этой поэтической концепции. С полной уверенностью здесь следует признать соединение двух версий: стрельбы из лука и боя на копьях; но из этого признания двух версий не следует еще с необходимостью вывод, что в основе нашей "Одиссеи" - две или более поэм об Одиссее. Возможно предположение, что вторым поэтом было приведено в известную нам форму уже вполне оформленное раньше произведение другого автора. Эта поэма, лежащая в основе нашей "Одиссеи", должна была быть настолько обработана, что, освобожденная от изменений, сделанных позднее, давала развитие сюжета без пробелов и не допускала противоречий между основными мотивами. Такому требованию отвечает как раз "Телемахия" , история об угнетенном сыне, который выезжает искать отца и, естественно, находит его.
Самое важное то, что первый поэт связывал этот рассказ с местью возвращающегося Одиссея и перенес театр действий на Итаку, которую он хорошо знал. Имя Пенелопы он заимствовал из саги. Связи обоих мотивов он достиг тем, что устроил встречу возвращающегося сына с разыскиваемым отцом в хижине Эвмея. Убийства женихов стрелами этот поэт или не знал, или же отверг его, чтобы ввести месть рыцарским оружием. Он вообще стремился устранить все сказочное, но ставил все действие под чудесное руководство Афины, описываемое необычным для гомеровской поэзии образом, причем в конце богиня принимает действенное участие в убийстве женихов (ее выступлением начиналась и оканчивалась "Телемахия"). Телемах как можно более выдвигался в этой поэме на передний план, и его развитие из робкого юноши в сильного противника женихов проведено прекрасно.
Интересно нарисована и фигура Пенелопы. Она, правда, с горестью вспоминает о долго отсутствующем супруге, и новый брак ей ненавистен. Но при своем отъезде Одиссей велел ей снова выйти замуж, если он не вернется до возмужания сына. Это и сообщает ее поведению некоторую нерешительность, которая, с одной стороны, делает неуверенным в ней сына, а с другой - вызывает недовольство женихов.
По приведенным признакам нетрудно определить содержание первоначальной поэмы, в отличие от нынешней редакции "Одиссеи". К ней принадлежали четыре первые песни "Одиссеи": путешествие Телемаха в Пилос (к Нестору) и в Спарту (к Менелаю), где Телемах убеждается, что отец его жив, - это его ободряет. Тем временем происходила высадка Одиссея на Итаке, причем Афина предупреждала его об опасностях, грозящих ему по возвращении домой. Ход рассказа узнается из песни XIII. Афина вызывает Телемаха в песни XV. Сцена в хижине Эвмея не входила в первоначальную поэму. Затем следовали узнавание сына отцом и сцены по дороге в город, вступление Одиссея в свой дом и бросанье в него скамейкой одним из женихов. Особого введения требовало выступление Пенелопы перед женихами в песни XVIII. Окончание этой сцены, бывшее в "Телемахии", не сохранилось. В следующую ночь (начало песни XIX) отец и сын убирали оружие со стен зала. Афина являлась Одиссею, который очень тревожился об исходе своего предприятия против женихов, и ободряла его (песнь XX). Из дальнейшего рассказа "Телемахии" сохранились только отдельные куски: новый план убийства Телемаха, предпринимаемый женихами, бросанье Ктесиппом в нищего бычачьей ногой и горячий упрек ему за это Телемаха; смех женихов над тем, что побудило Феоклимена к его пророчеству. Телемах не отвечает на насмешку женихов, но молча смотрит на отца, все выжидая момента, когда тот наложит руку на бессовестных женихов. Женихи еще готовят себе обед, так как они зарезали много скота. Но их ожидает совсем другое.
Здесь и начиналось в "Телемахии" избиение женихов с предварительным превращением Одиссея Афиной снова в героя.
Из изображения убийства женихов в первоначальной поэме остались только выступление Афины и указание на обманчивое веселье женихов (песнь XX, ст. 390-394). Напротив, с песни XXIII (ст. 344) весь конец Одиссеи, кроме путешествия женихов в подземный мир в начале песни XXIV, принадлежит второму автору.
Преобразование "Телемахии" в ту "Одиссею", которая дошла до нас, выполнил другой поэт; его и можно назвать автором нашей "Одиссеи". Он пополнил поэму чертами, взятыми из предания и сказания, и этим дал сюжету новое освещение. Развитие действия он сохранил за большом протяжении, не вмешиваясь в него, за исключением немногих случаев, когда это представлялось ему совершенно необходимым. Прежде всего он создал (частично используя рассказы, уже имевшиеся в форме поэмы о странствованиях Одиссея) песни V и XII и вставил их там, где "Телемахия" рассказывала о высадке Одиссея на Итаке. Чтобы несколько приблизить свое изложение к более ранней поэме, он предоставил Афине охранять Одиссея, но без того, чтобы она распоряжалась его действиями в песнях о феаках. Его стремление заранее направлено на то, чтобы дать разыграться действию поэмы зимою, так как убийство женихов должно было иметь место в праздник новолуния, в новый год. Под защитою Аполлона вырастал и Телемах (ср. XIX, 86). Образ Пенелопы, который давала "Телемахия", не был ему симпатичен, он восстановил непреложно верную жену саги или сказки и для этого изменил ее намерения.[2] Он оставил Пенелопе в XIX песни только борьбу между супружеской верностью и материнской любовью. Несимпатичен ему был также превращенный в безобразного лысого старика Одиссей "Телемахии". Правда, он не изменяет мест "Телемахии", которые рисуют Одиссея таким, но он озабочен тем, чтобы старческая фигура являлась только внешней оболочкой. Когда Одиссея, принявшего образ нищего, толкает на пути в город Мелантий, когда в него бросает скамейкой Антиной, но в особенности в сцене кулачной борьбы с Иром, - он обнаруживает и крепость и могучее телосложение. Там, где Одиссей сам выступает рассказчиком, ему, несмотря на лохмотья и усталость от долгих испытаний и лишений, придается царственная осанка. Поэтому поэт "Одиссеи" вычеркнул обратное превращение "Телемахии". Художественной руке этого поэта принадлежат и мастерские характеристики Эвмея, Филотия, Мелантия и Меланто. С начала песни XIX почти все принадлежит тому же поэту: беседа с Пенелопой, которую он заботливо подготовляет в конце песни XVII, ночь перед полным событий днем в песни XX, проба лука, самое избиение женихов. Он оживил бой с луком образами "Телемахии"; бою на копьях, который раньше имел вид бойни, устроенной при помощи Афины, он придал вид гомеровского боя. Ему принадлежит и узнание супругов. Но дальше можно разглядеть только немногие следы его деятельности. Его знание Итаки поверхностно, а в локализации Фер, места жительства Диокла, сына Ортилоха, он вступает в прямое противоречие с "Телемахией". Его стремление дать место и узнанию возвращающегося отца семейства в сцене омовения ног ввело в рассказ легкий беспорядок.
Уже "Телемахия" признала войну, на которую выступил возвращающийся отец, за троянскую. Этому следовал и поэт "Одиссеи": он начинает странствования своего героя отъездом из-под Трои. Но связь Одиссея с Троей еще древнее, чем "Телемахия". Он принадлежит к "Илиаде", к числу ахейских героев, и его заслуга во взятии города, может быть, известная уже этой поэме, во всяком случае, предполагается во всей "Одиссее". С деятельностью поэта "Одиссеи" дело обстоит так, как со всяким крупным поэтическим подвигом. То, что перед нами теперь, все принадлежит ему. Но так как он относился к более древней поэме очень бережно, мы приобретаем ценнейшую возможность заглянуть в его мастерскую.
[1] В „Пире Трималхиона“ Петрония мы находим другую версию этого рассказа, которая, очевидно, попала, туда непосредственно из фольклора. См. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева под ред. М. К. Азадовского, Н. П. Андреева, Ю. М. Соколова. T. II, стр. 652. Гослитиздат, 1938.
[2] Финслер предполагает, что в первоначальной редакции „Телемахии“ было иное ее завершение: Пенелопа обещала „остановить свой выбор на одном из женихов“.
6. ЭПИЧЕСКИЙ СТИЛЬ
Время создания "Илиады" и "Одиссеи", - как литературных, т. е. зафиксированных письменно, произведений, - до сих пор является неразрешенным вопросом. Большинство современных ученых, в том числе Финслер и Виламовиц-Меллендорф приурочивает этот факт ко времени около 700 г. до н. э. для "Илиады" и к VII веку до н. э. для "Одиссеи", относя в то же время Гесиода к эпохе никак не старше VII века. Меньшинство ученых во главе с Э. Бете считает, что оформление "Илиады" имело место после создания поэм Гесиода, т. е. на протяжении VII века, а свой окончательный вид она приняла только к самому концу этого столетия.[1] Но как бы то ни было, обе поэмы создавались на основе давней и прочной традиции эпического стиля, который начал складываться еще тогда, когда эпос исполнялся певцами с музыкальным сопровождением (ср. Ахиллеса в "Илиаде", Фемия и Демодока в "Одиссее"), но затем окончательно оформился как стиль сказовый (erzählende Poesie - на чем настаивает Виламовиц-Меллендорф).[2] Бете выдвинул теорию, по которой говоримый эпический стих (Sprechvers) возник из распеваемого стиха (Singvers) в Смирне.[3]
Задолго до окончательного оформления гомеровских поэм, которые Бете называет "книжными эпическими поэмами" (Buchepen), сложился не только эпический стих (гексаметр) но и определенная совокупность стилистических приемов: эпические повторения, сравнения, эпитеты и т. п. Поэтому, хотя не может быть никакого сомнения в том, что обе наши поэмы являются созданиями крупных оригинальных поэтов, поэтическая индивидуальность их авторов, а отчасти и их личное мировоззрение исчезают за единым эпическим стилем. Требовалось величайшее поэтическое искусство, чтобы соблюсти во всем это единство стиля, которое ввело древних в соблазн считать Гомера автором всего героического эпоса, а исследователей конца XVIII и начала XIX века заставило говорить о народной поэзии там, где все пронизано сознательным искусством, тщательно разработанным художественным планом.
Особый интерес представляют·. гомеровские сравнения, которые часто ведут внутри рассказа самостоятельную жизнь, сто широко или кратко разработанная, но всегда закругленная картина, сама по себе как бы маленькое стихотворение, которое со всею силою переносит слушателя в иную сферу, обдает его новыми мыслями и, освежив, возвращает к самому рассказу. Сравнения почти всегда исчерпывают содержание нового образа. Поэт полностью обеспечивает возможность воздействовать на слушателя. Рядом с основным рассказом он дает мелкие, но яркие представления, которые вызывают ощущение удивительною богатства и красоты изобразительных средств. Эти сравнения прерывают однообразие рассказа, в особенности - боевых сцен. Иногда встречается намеренное скопление сравнений. Заранее ясно, что каждое из них принуждает к остановке и, следовательно, имеет силу замедления. Скопление сравнений служит для того, чтобы заставить действие казаться длиннее там, где не хватает средств изображения, и описание могло подействовать утомительно. Так, в бое из-за тела Патрокла, где Менелай и Мерион относят мертвеца, а Аякс оттесняет наступающих троянцев (Ил. XVII, 735-761), поэт нагромождает четыре сравнения: с пожаром в городе; с мулами, везущими по крутой тропе лесной материал; с лесистой высотой, задерживающей воду; со стаей скворцов или галок перед ястребом.
Ср. в переводе Гнедича:
... но бой возрастал по следам их,
Бурный, подобно как огнь, устремленный на град человеков;
Вспыхнувши вдруг пожирает он все; рассыпаются зданья.
В страшном пожаре, который шумит, раздуваемый ветром, -
Так и коней колесничных и воинов меднодоспешных
Бранный неистовый шум по следам удалявшихся несся.
Те ж, как яремные мески, одетые крепкою силой,
Тянут с высокой горы, по дороге жестокобугристой.
Брус корабельный, иль мачту огромную, рьяные, вместе
Страждут они от труда и от пота, вперед поспешая, -
С рвеньем таким аргивяне Патрокла несли. Позади их
Бой отражали Аяксы, как ходы - разъяренные воды,
Лесом поросший, чрез целое поле протяжно лежащий;
Он и могучие реки, с свирепостью волн их встречав.
Держит и, весь их напор отражая, в долины другие
Гонит, его же не в силах могучие реки расторгнуть.
Так непрестанно Аяксы, держась позади, отражали
Битву троян; но враги наступали, и два наипаче,
Мощный Эней Анхизид и шлемом сверкающий Гектор.
И как туча скворцов или галок испуганных мчатся
С криками ужаса, если увидят сходящего сверху
Ястреба, страшную смерть наносящего мелким пернатым, -
Так пред Энеем и Гектором юноши рата Ахейской
С воплем ужасным бежали, забывши воинскую доблесть.
Гомеровская экзегеза александрийского ученого Аристарха (см. т. I, тлаву VI и в томе II), пытаясь найти основной закон эпических сравнений, выдвинула так называемую "теорию пунктов сравнения", принимавшуюся до недавнего времени и новейшими учеными. Финслер, например, полагает, что самостоятельная жизнь сравнения внутри рассказа объясняется желанием Гомера связать сравнение с тем, что он хочет им пояснить и сделать нагляднее, лишь в одном пункте. В этом Финслер видит коренное различие между сравнениями у Гомера и у Шекспира, который стремится к полной параллели между сравнением и сравниваемым объектом.[4] В редких случаях мы находим у Гомера два пункта сравнения: например, в "Илиаде" (XV, 270-280), когда Гектор останавливает отступление троянцев:
Словно рогатую лань или дикую козу поднявши,
Гонят упорно горячие псы и ловцы - поселяне.
Но высокий утес и густая тенистая роща
Зверя спасают: его изловить им не сужено родом,
Криком меж тем пробужденный, является лев густобрадый
Им на пути и толпу распаленную в бег обращает, -
Так аргивяне дотоле толпой неотступные гнали
Трои сынов, и мечами и копьями в тыл поражая,
Но лишь увидели Гектора, быстро идущего к рати,
Дрогнули все, и у каждого в ноги отважность упала.
(Перев. Н. И. Гнедича)
Пункт сравнения относится обычно не к человеку или вещи, а к какому-нибудь моменту действия. Например, Афина отражает от Менелая стрелу Пандара (Ил. IV, 130 сл.):
... как нежная матерь
Гонит муху от сына, сном задремавшего сладким.
(Перев. Н. И. Гнедича)
Античные толкователи Гомера пытались также выделить застывшие типы сравнений у него. Но поэт часто отступает от трафарета. Французские и итальянские поэты эпохи Возрождения единодушно возмущались сравнением Аякса с ослом. (Ил. XI, 558-565).
Словно осел, забредший на ниву, детей побеждает,
Медленный; много их палок на ребрах его сокрушилось;
Щиплет он походя ниву высокую, резвые ж дети
Палками вкруг его бьют, - но ничтожна их детская сила;
Только тогда, как насытится вдоволь, с трудом выгоняют, -
Так Теламонова сына, великого мужа Аякса,
Множество гордых троян и союзников и дальноземных
Копьями в щит поражая, с побоища пламенно гнали.
(Перев. Н. И. Гнедича)
Заблуждались и те критики; Гомера, которые, полагая, что сравнение с ослом относится к Аяксу, брали поэта под свою защиту, доказывая, что осел на Востоке - животное, к которому относятся с уважением. На самом же деле сравнение с ослом относится только к определенному моменту действия, не затрагивая лица, так как далее идут следующие стихи (ст. 566-569):
Он же, герой, иногда, вспомянувши бурную силу,
К ним обращался лицом и удерживал, грозный, фаланги
Конников храбрых, Троян; иногда обращался он в бегство,
Но дорогу им всем заграждал к кораблях быстролетным.
Против "теории пунктов сравнения" и вообще против всех попыток подчинить гомеровское сравнение какой-либо неподвижной формуле выступил Г. Френкель.[5] Самым тщательным анализом содержания всей наличности сравнений в обеих поэмах Френкель хочет заложить основание более свободному, не стесненному никакими оковами пониманию гомеровского сравнения. Уже Виламовиц-Меллендорф указывал, что незачем всегда задаваться вопросом о tertium comparationis, так как поэт чаще передает сравнением только настроение, только какое-нибудь впечатление. По мнению этого ученого, надо уметь почувствовать этический стиль сравнения, целостность содержания отдельных образов. Во многих случаях tertium comparationis является не одним "пунктом", но "широко и тонко разветвленной картиной, которая проникает все тело сравнения и только с трудом поддается препарированию из него". Поэтому надо заменить понятие "пункта" понятиями линии или поверхности сравнения, или содержания сравнения. Дело идет не о строго логическом соответствии в какой-нибудь одной черте, но о пробуждении в сознании представления или настроения, которое повторяет в другой сфере комплекс представлений и чувств основного рассказа. "Это происходит так же, как в оркестре, где флейта в другом тоне повторяет мотив, данный скрипкой", - говорит Френкель.
Но как "теорией пункта сравнения" далеко не исчерпывается существо гомеровского сравнения, так нельзя исчерпывающе определить его и методом Френкеля. Недостаточно и определение Плюсса, который обозначает гомеровское сравнение как выражение представления, силой ощущения равного главному событию.
Во всяком случае, многие сю кеты сравнений (лес, срубленное дерево, лесной пожар и др.) были общим достоянием аэдов и уже издавна получили прочную форму.
Следовательно, не всякое сравнение может быть понято из самого себя; чтобы достигнуть полного понимания, нужно поставить вопрос о типологии эпических сравнении и об их истории. Прослеживая эту историю, Ф. Винтер в статье "Параллельные явления в греческой поэзии и в изобразительном искусстве"[6] ставит в связь живое описание природы в отдельных образах гомеровских сравнений со свежим натурализмом микенского искусства и говорит о их историко-культурной связи. По степени наглядности он различает микенские и послемикенские сравнения, причем микенскими мотивами сравнений он считает охоту на львов, быка, топор, прыгающую рыбу, полипа и т. д. Однако эту связь едва ли можно понимать как связь по родству. Певец, который был связан в эпическом рассказе строгим, несколько неподатливым стилем, в сравнениях мог давать свободное выражение своему чувству природы и настроению, отсюда -сходство с изображениями микенского искусства. Это не исключает, конечно, возможности различия "старого наследства" и "новых сравнений", но у нас и не может быть пока никаких опорных пунктов для абсолютного хронологического определения. Исследователь должен выявить только основные формы сравнения, их древнейшие типы, которые уже задолго до создания сохранившихся до нас поэм стали высокоразвитыми средствами эпического стиля. Древними приходится считать сравнения, которые имеют долгую предварительную историю и во всем своем разнообразии связаны с характером эпического языка. Напротив, "молодыми" являются сюжеты, которые используют уже развитую форму готового сравнения, не проделывая самостоятельно предварительного развития от краткого сравнения к детализованному.
Другой характерной особенностью эпического стиля являются повторения. Такими повторяющимися формулами являются формулы для приема пищи и питья, вставания утром и укладывания вечером в постель, жертвоприношения и т. п. Эти формулы, называемые обычно термином "loci communes" ("общие места"), - черта, присущая всем народно-эпическим произведениям. Особенно много их отмечают в русских былинах и в монгольском эпосе. Таковы, например, в "Илиаде" описания того, как вооружаются Парис (III, 328-339), Патрокл (XVI, 130-154), Ахиллес (XIX, 369-398). Сходно с этим и описание вооружения богини Афины. В огромном количестве случаев прямая речь вводится словами: τὸν(τὴν) δ᾿ἀπαμειβόμενος προσέφη... ("Отвечая ему, сказал..."). После окончания речи поэт применяет обычно формулу "так он сказал" (ὡς ἔφατο, ὡς· φάτο). Наконец, повторяются, например, такие стихи, как Ἤμος δ᾽ἠριγένεια φάνη ῤοδοδάκτυλος Ἠώς |(в переводе В. А. Жуковского в "Одиссее": "Встала из мрака младая с перстами пурпурными Эос").[7]
Но рядом с этим в разных частях обеих поэм мы находим повторяющиеся стихи или группы стихов, которые гомеровской критикой используются в качестве лишнего доказательства зависимости позднейших частей эпоса от более древних.
В особенности исследователи обращают внимание на троекратное повторение рассказа о хитрости Пенелопы против женихов (II, 85 сл.; XIX, 137 сл.; XXIV, 128 сл.). Одни считают оригиналом вариант песни XIX, другие - вариант песни XXIV, несмотря на то, что вся эта песнь, и особенно спуск женихов в Аид, признается вообще одной из самых поздних частей "Одиссеи".[8]
Особое значение имеет в эпическом стиле искусственное замедление действия, или ^ретардация". Оно тоже свойственно эпосу других народов, в частности русским былинам. Таково, например, в "Одиссее" отступление, посвященное шраму на ноге Одиссея от раны, нанесенной ему кабаном, сопровождаемое описанием всего события (Од. XIX, 393-466).
Наконец, должны быть отмечены и гомеровские эпитеты, выполняющие функцию украшения поэтической речи (epitheta ornantia). Эги эпитеты не связаны с тем контекстом, в котором они употребляются. В этом смысле они являются поэтическим средством, противоположным сравнениям, - "постоянными эпитетами" (epitheta constantia), и закрепляются либо за индивидуальным лицом или родовым понятием, либо за группой их. Так, эпитет δῖος ("божественный") прилагается ко всем героям, как ахейским, так и троянским, как к Одиссею и Телемаху, так и к женихам: он подчеркивает выделение героя из прочих смертных, его близость к богам, покровительство богов, иногда происхождение от них. Таков же эпитет κρειών ("сильный, могучий"). Эпитет "податели благ" прилагается ко всем олимпийским богам. Ахейцы называются "прекраснопоножными" (εὐκνήμιδες) троянки - "волочащими одежды" (ελκεσίπεπλοι).
На ряду с этим боги и герои имеют и свои индивидуальные постоянные эпитеты: Зевс -"молниевержец" (ἀστεροπητής) и "тучесобиратель" (νεφεληγερέτα); Аполлон - "сребролукий" (ἀργυρότοξος) и "далеко разящий" (έκχβόλος); Посейдон - "черноволосый" (κυανοχαίτης), "земледержец" (γαιήοχος) и "колебатель земли" (ἐννοσίγαιος); Арес - "медный" (χάλκεος), "губитель смертных" (βροτολοιγός) и "покрытый кровью" (μίαιφόνος); Гера -"волоокая" (βοῶπις), "белолокотная" (λίυκώλενος) в переводе Гнедича "лилейнораменная" и "златотронная" (χρυσόθρονος); Афина - "совоокая" (γλαυκῶπις, в неправильном переводе Гнедича "светлоокая"), "прекрасноволосая" (ἠύκομος), "дарующая добычу" (ἀγελείη), "непобедимая" (ἀτρυτώνη); Гефест - "хромой на обе ноги" (χωλός ἔτερον πόδα) и "сильный на обе руки" (ἀμφοιγυήείς); Эос - заря "розоперстая" (ροδοδάκτυλος) и т. д. Герои также имеют свои индивидуальные постоянные эпитеты: "пастырь народов" (ποιμὴν λαῶν) и "владыка мужей" (ἂναξ ἀνδρῶν) Агамемнон; "многоумный" (πολύμητις) и "многохитрый" (πολυμήχανος) Одиссей; "быстроногий" (ποδάρκες, πόδας ὠκύς) Ахиллес;
"укротитель коней" (ίππόδαμος), "шлемоблещущий" (κορυθαίολος) и "мужеубийца" (ἀνδροφόνος) Гектор и т. д.
Особенно многообразны эпитеты, прилагаемые в гомеровских поэмах к морю (πόντος, реже θάλασσα). Эти эпитеты указывают то на цвет: οἶνοψ - "тёмнокрасное" (то же говорится о быках), μέλας - "черное", ἰόεις или ίοειδής "темносинее"; то на его бескрайный простор и глубину: εὺρύς - "широкое", ἀπειρων "безграничное", μεγακήτης "пучинное"; то на животных, его населяющих: ίχθυόεις "обильное рыбой", то на вечный его шум: πολύφλοισβος "многошумное". Море называется также "бесплодным" (ἀτρύγετος), небо (οὐρανός) - "медным" (χάλκεος), "многомедным" (πολυχάλκεος) "железным" (οιδήρεος); сон (ὒπνος) - "услаждающим" (μελίφρων), "амвросийным" (άμβρόσιος), т. е. уделом богов, и т. д.
В целом эпический стиль Гомера характеризуется исключительным богатством изобразительных средств. Особенно это относится к батальным картинам "Илиады". Сравнения, о которых говорилось выше, являются одним из главных элементов этой изобразительности. Так, в песни V Диомед (ст. 87-91)
Реял по бранному полю, подобный реке наводненной,
Бурному в осень разливу, который мосты рассыпает:
Бега его укротить ни мостов укрепленных раскаты,
Ни зеленых полей удержать изгоро́ды не могут,
Если внезапный он хлынет, дождем отягченный Зевеса...
(Перев. Н. И. Гнедича)
Здесь дело не только в том, что образ разлива от осенних дождей является сравнением, вторым членом которого служит стремительность натиска Диомеда, - важно отметить яркость самого образа, его конкретные наглядные черты (сокрушение водою мостов и изгородей). Иногда, не прибегая ни к каким сравнениям, поэт одной только точностью выражения достигает исключительной наглядности. Диомед настигает Астиноя и Гипенора (V, 145-147):
Первого в грудь у сосца поразил медножальною пикой,
А другого мечом, по плечу возле выи, огромным
Резко ударив, плечо отделил от хребта и от выи.
(Перев. Н. И. Гнедича)
Избивая женихов, Одиссей поражает Эвримаха (Од. XXII, 82-89).
...грудь близ сосца проколола и, в печень вонзившись,
Крепко засела в ней злая стрела. Из руки ослабевшей
Выронил меч он, за стол уцепиться хотел и, споткнувшись,
Вместе упал со столом, вся еда со стола и двудонный
Кубок наземь свалился; он об пол стучал головою,
Болью проникнутый; ноги от судорог бились: ударом
Пяток он стул опрокинул; его наконец потемнели Очи...
(Перев. В. А. Чуковского)
Эта наглядность и реалистичность изображения у Гомера отмечались еще древними, но в XVIII веке Гердером, Вудом, а затем немецкими и английскими романтиками они были неправильно поняты. Тогда считали, что это свойство чисто народного, "первобытного" искусства, что это только наивность неопытного художника, между тем как на самом деле это художественное совершенство говорит нам о долгом предшествующем развитии догомеровской эпической поэзии. К этим же достижениям гомеровского эпоса, завершающего собою путь развития искусства древних греческих аэдов, надо отнести уменье довести действие до крайнего напряжения, при сохранении того же внешне спокойного тона эпического повествования. В моменты этого наивысшего напряжения Гомер отказывается от всяких украшающих средств и достигает пределов художественности максимальной простотой изложения. В песни XII "Илиады" троянцы нападают на стену ахейского лагеря. Главную роль в нападении играет ликийская рать Сарпедона. Аякс Теламонид, защищая стену, поражает камнем друга Сарпедона - Эпикла и сбрасывает его со стены, а Тевкр ранит второго предводителя ликийцев - Главка, но это не останавливает их натиска; сам Сарпедон начинает разрушение стены, и это сообщается без всяких метафор и сравнений (XII, 397-399):
Но Сарпедон, за зубец ухвативши рукою дебелой.
Мощно повлек, и оторванный рухнулся весь он на землю:
Сверху стена обнажилась, и многим открылась дорога.
(Перев. Н. И. Гнедича)
Так же просто описывается и бой у корабля Протесилая, к которому пробился Гектор, чтобы зажечь его (XV, 707-715):
Окрест сего корабля и ахейцы смесясь и трояне,
В свалке ужасной сражалися врукопашь, боле не ждали
Издали стрел поражающих или метательных копий;
Друг против друга стоящие, равным горящие духом.
Бились секирами тяжкими, взад и вперед с лезвеями,
Бились мечами и копьями острыми свержу и снизу.
Множество пышных ножей, с рукоятками черными, наземь
Падало окрест, летя иль из рук, или с плеч ратоборцев,
Яростно бившихся; черною кровью земля залилася.
(Перев. Н. И. Гнедича)
Одной из особенностей эпического стиля является также неравномерность в описании действий. Весьма подробно рассказывается о приготовлениях к действию, о пути действующего лица, если оно куда-нибудь отправляется, о начале самого действия; развязка же, когда она становится ясной, излагается очень кратко.
В песни I "Илиады" рассказ о том, как Фетида собирается к Зевсу просить его о наказании ахейцев (ст. 492 сл.), занимает восемь стихов, сама просьба - четырнадцать, ответ Зевса - одиннадцать, причем первые шесть стихов как бы подготовляют отрицательный ответ со ссылкой на возможность недовольства Геры, покровительницы ахейцев, а обещание дается только в последних пяти стихах. Фетида затем не говорит в ответ ни слова, и сцена заключается стихом: "Так они совещались друг С другом и разошлись". Эта особенность стиля рассказа должна пониматься как пережиток устной формы искусства аэда, когда слушатели с напряжением ждали в каждом случае развязки, а после нее не относились уже к тому же эпизоду с прежним вниманием, а ждали дальнейшего развития действия.
Еще в XVIII веке критики (например, Дидро) отмечали изумительное искусство контраста у Гомера, умение поэта пробуждать у слушателя самые противоречивые настроения. Песнь XII "Илиады" кончается ожесточенной схваткой у стены, а песнь XIII, начинаясь указанием на эту схватку (ст. 1-3), со ст. 4 говорит о том, что Зевс, отвратив очи от сражения, устремил их на землю фракийцев, после чего несколькими штрихами дается картина мирной жизни этих племен. В песни VI в разгаре битвы начинается долгий разговор Диомеда с Главком, оканчивающийся побратимством (ст. 119-236); затем поэт переносит слушателя сразу в Трою, к картине мирной жизни, с подробным описанием родового жилища Приама.
В общем же эпический стиль характеризуется прежде всего тем, что личность автора, особенности его мировоззрения, характера, его вкусы нигде не проявляют себя. Он не анализирует и не судит действий своих героев. Он берет готовые образы из существовавшей до него эпической традиции, использует установившиеся поэтические приемы и с величайшим искусством подчиняет все это задачам единого художественного плана. Если в составе каждой из поэм мы имеем много оснований различать творчество нескольких поэтов, если большинство исследователей считает, что окончательное оформление "Илиады" и "Одиссеи" есть дело разных лиц, - то это различение основывается не на стилистической разнице отдельных частей эпоса. Стиль всюду одинаков: сколько бы лиц ни участвовало в создании героической эпопеи, они подчинялись установленным нормам искусства аэда и стремились только к наилучшему осуществлению законов эпической поэзии, к реализму изображения, который напоминал бы рассказ очевидца, к наибольшему воздействию на слушателей.
Об этом и говорит Одиссей Демодоку, сумевшему затем вызвать у него слезы песнью о взятии Трои с помощью деревянного коня (Од. VIII, 487-592):
Выше всех смертных людей я тебя, Демодок, поставляю:
Музою, дочерью Зевса, иль Фебом самим наученный,
Все ты поешь по порядку, что было с ахейцами в Трое,
Что совершили они и какие беды претерпели;
Можно подумать, что сам был участник всему иль от верных
Все очевидцев узнал ты...
(Перев. В. А. Жуковского)
В этом отношении гомеровский эпос представляет полную аналогию с иранским национальным эпическим произведением "Шах-Намэ", хотя автор последнего (поэт X века Фердоуси) нам хорошо известен.
Следовательно, дело здесь не в "безличности народного творчества", как полагали Гердер, романтики и первые ученые, занимавшиеся Гомером (Вольф, Лахманн и др.), а в прочности эпической традиции. Но, используя старый эпический материал, уходящий в далекую древность и во многих случаях носящий на себе печать еще микенской эпохи, как эпический поэт гомеровского времени, так и авторы "киклических" поэм послегомеровского периода, конечно, приспособляли его к задачам своего времени, делая это так, чтобы не допускать нарушений общепринятого стиля. Поэтому не имеют ценности рассуждения некоторых ученых о необходимости отличать в составе поэм творчество поэта от работы "редактора". Аэд должен был в одном лице совмещать обе функции. Используя старый эпический материал, он был "редактором". Подчиняя его задачам своего собственного художественного плана и перерабатывая его в соответствии с социальной обстановкой своего времени (иначе он не достиг бы заинтересованности слушателей), - он должен был быть поэтом-творцом. Изменение социальных условий в VII-VI веках до н. э. привели к упадку творческого искусства аэдов, которых сменили рапсоды, бывшие простыми исполнителями созданного до них эпоса. Только в эту эпоху, когда блестящий период развития эпической поэзии был уже позади и ее измельчание в позднем киклическом эпосе не могло не бросаться в глаза, появились условия для возникновения стремления сохранить жемчужины эпической поэзии предшествующего периода и предохранить его от неизбежной порчи в устах рапсодов. Эти стремления отразились в преданиях об упорядочении гомеровского текста, о его "записи", связанных с именами Ликурга, Солона, Писистрата, Гиппарха. Но эти предания получили совершенно ложное истолкование у ученых начала XIX века, предположивших, что тогда-то "учеными редакторами" и были созданы гомеровские поэмы в том виде, в каком они дошли до нас. Такое предположение могло основываться лишь на игнорировании того, что представляет собою эпический стиль, как он охарактеризован выше, и на неправильном истолковании "противоречий" у Гомера (о них см. ниже, § 8).
[1] См. дополнение к главе VI.
[2] Wilamowitz Moellendorff. Die griechische Literatur des Altertums, 1905, стр. 12—13.
[3] Bethe. Homer. Dichtung und Sage, 1914, т. 1, стр. 39—40.
[4] Finsler, Homer, т. I. 2–е изд., 1924, стр. 259.
[5] H. Fraenkel. Die homerischen Gleichnisse. 1921.
[6] F. Winter. Parallelerschenungen in der griechischen Dichtkunst und bilderden Kunst (Neue Jahrb., 1909, стр. 681—712).
[7] Ср. Ил. I, 477; Од. III, 491; II, 1 и др. В ином варианте; Ил. VII, 1; XXIV, 695: Ἠὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾱσαν ἐπ᾽αἶαν (в переводе H. И. Гнедича; „В ризе златистой заря простиралась над всею землею“).
[8] В новейшем исследовании Вудхауза (Woodhouse. The composition of Odyssey, 1930) указывается на то, что Амфимедонт сообщает здесь (XXIV, 167—168), что сам „Одиссеи“ побуждает Пенелопу выставить жепихам „лук и серое железо“ (αὐτάρ ὁ ῆν ἄλοχον πολυκερδείῃσιν ἄνωγεν τόξον μνηστήρεσσι θέμεν πολιόν τε σίδηρον). Другие исследователи (Низе и Зеек) видели в этом указание, что древняя „Одиссея“ имела иную развязку, чем наша.
7. ЯВЛЕНИЯ "ХРОНОЛОГИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ" В ГОМЕРОВСКИХ ПОЭМАХ
Аналитическое изучение гомеровских поэм, которое применялось учеными в первой половине XIX века и было выработано школой "сепаратистов" (начисто отрицавших художественное единство греческого эпоса) в связи с изучением средневековой немецкой поэмы о Нибелунгах,[1] не учитывало, как уже было указано, специфических особенностей гомеровского эпического стиля, которые совершенно отсутствуют в средневековых поэмах. Эти последние, хотя и восходили в своих корнях к тому же народному эпосу, но имели с ними только общие сюжеты и заимствовали из него лишь немногие частные поэтические приемы, не проводившиеся ими систематически. Возникшие в условиях развитого феодального общества Западной Европы и связанного с ним куртуазно-рыцарского быта, поэмы типа "Песни о Нибелунгах" были совершенно иным (придворным) поэтическим жанром, что явствует из сопоставления этой поэмы с изложением того же сюжзта в героической "Эдде".[2]
Не понимая этих различий, многие ученые до сих пор еще считают гомеровский эпос придворной поэзией на сюжеты дсевнего народного эпоса, возникшей при "дворах" малоазиатских властителей VIII-VII веков до н. э.[3] Коренное отличие гомеровского эпоса от позднейших искусственных эпических поэм в римской и новых европейских литературах, иллюстрирующее положение Маркса о греческом эпосе как поэзии "детства человеческого рода", которая неизбежно отмирает, "лишь только началось художественное творчество как таковое",[4] весьма ясно выступает при анализе того, как излагает Гомер события, происходящие одновременно. В самой общей форме относящийся сюда закон гомеровской поэтики был сформулирован еще в середине XIX века родоначальником унитаризма Г. - В. Ничем:[5] действия, параллельные по времени, рассказываются у Гомера как последовательные. Почти одновременно с Ничем к тому же выводу пришел И. Беккер, указавший, что "для гомеровского поэта ни одна задача не представляет такой трудности, как задача, легчайшая для поэта романтической эпохи, - вести рядом одновременные действия.[6]
Уже Нич приводил следующие примеры из "Одиссеи".[7] Песнь XIII заканчивается указанием, что Афина, направив Одиссея к Эвмею, покидает его и летит в Лакедемон к Менелаю, где находится Телемах. Вся песнь XIV занята рассказом об Одиссее у Эвмея. Песнь XV начинается появлением Афины в Лакедемоне. Так как боги у Гомера не тратят времени на свои передвижения и Афина обычно прямо "бурно шагает с Олимпа в Итаку", то появление богини у Телемаха должно было бы произойти в тот самый момент, когда Одиссей появляется у Эвмея. Но на самом деле она встречается с Телемахом утром следующего дня, пробуждая его от сна, потому что песнь XIV кончается описанием того, как Одиссей лег спать в хижине Эвмея. О. Зеек, исходя из этого, полагает, что и вся поэма в силу этого закона имеет особую композицию. Поэма, по его мнению, начинается не с отбытия Одиссея из-под Трои, а с десятого года его странствий, причем все предыдущее потому именно излагается в форме рассказа самого героя у феаков, что она должна была примыкать к эпосу о возвращении Менелая, о котором говорят боги в начале песни I; этот же νόστος ("возвращение") Менелая заканчивался рассказом об убийстве Эгисфа Орестом, что имело место через девять лет после падения Трои.
Дальнейшие исследования[8] вскрыли тот же закон поэтики Гомера и в "Илиаде", и в настоящее время он является общепризнанным и формулируется приблизительно следующим образом: "поэт рассказывает о событиях так, как мы видим их в действительности. При однородном действии это дает спокойно подвигающееся вперед течение рассказа. Сложнее соблюсти этот принцип, когда нужно изложить события одновременные, так как слушатель не может воспринять их за один раз. Но поэт никогда не нарушает своего принципа психологического восприятия. Он никогда не пытается изобразить различные события как одновременные, а всегда превращает их в последовательные. Ср. эпизод из "Илиады" (песнь III): Парис ускользнул от Менелая, скрывшись в толпе троянцев (ст. 36-37), но поэт продолжает рассказ о событиях на поле битвы, затем следует "тейхоскопия" - смотр со стены, внимание слушателя переносится на троянскую сторону; после этого изображается поединок Менелая с Парисом, и последний вновь ускользает, перенесенный Афродитой в опочивальню Елены (ст. 380-382); Афродита под видом лакедемонской пряхи уводит туда же Елену со стены; следует разговор Елены с Парисом, после чего поэт возвращается к Менелаю, ищущему Париса, причем создается впечатление, что Менелай рыщет по полю и после того, как Елена и Парис уже "опочили на ложе".
Еще сложнее в "Илиаде" такие случаи, когда одновременность событий на ахейской и на троянской стороне, казалось бы, необходимо подчеркнуть. Но поэт и тут остается верен своему принципу. В песни IV после выстрела в Менелая со стороны троянцев, когда Пандар по наущению Афины предательски нарушает заключенное перемирие, начинается бой. Но его описание дается исключительно со стороны ахейцев: как ведут сражение троянцы - остается неясным, так как эпический стиль не допускает перемежающегося описания. Когда в песни XV "Илиады" Зевс пробуждается от сна на горе Иде, он посылает Ириду к Посейдону, а Аполлона к лежащему без чувств Гектору. Оба должны были бы выполнить поручения одновременно, так как, вызванные Зевсом, они предстают ему одновременно, но ст. 218-220 показывают, что Зевс дает приказание Аполлону ободрить Гектора только после того, как Ирида заставляет Посейдона прекратить поддержку ахейцев (это подчеркнуто словом τότε- "тогда"-в ст. 220[9]).
Самый же разительный пример дает песнь I "Илиады", где Фетида исполняет просьбу своего сына Ахиллеса отправиться к Зевсу только через двенадцать дней, что мотивировано тем, что богов нет на Олимпе, так как они находятся у эфиопов. Такая мотивировка понадобилась поэту для того, чтобы в этот промежуток времени уложилась поездка Одиссея в Хрису и обратно.
Эта особенность эпического стиля, обычно называемая "законом хронологической несовместимости",[10] с одной стороны, показывает отличие гомеровской поэтики от позднейшего искусственного эпоса, а с другой, подтверждает, что в основе каждой из поэм лежит единый художественный план, осуществляемый в строгих рамках установившейся поэтической традиции.
[1] О главнейших представителях этой школы и ее основателе К. Лахманне см. ниже, главу VI, стр. 118 сл.
[2] Этот же сюжет изложен в X веке в латинской поэме „Vattarius manufortis“ а стиле Вергилия.
[3] Такую точку зрения (das Epos höfisch) мы находим во всех работах Виламовица–Меллендорфа, появившихся в текущем столетии (ср. например, „Die Griechische Literatur des Altertums“, 1924, стр. 11 сл.); из советских ученых эту ошибку делают акад. А. И. Тюменев („Возник и развивался древнегреческий эпос не в народной среде, как, например, наши былины, а в аристократических кругах“; см. „История древнего мира“, т, II, ч. I, стр. 115, изд. ГАИМК), и И. М. Троцкий (ср. его статью „Проблемы гомеровского эпоса“ а изд. „Илиада“. „Academia“, 1935).
[4] См. цитату из Маркса на стр. 56 сл.
[5] G. W. Nitzsch, Die Sagenpoesie der Griechen, 1852, стр. 106 сл.
[6] Imm. Bekker, Homerischs Blätter, 1863, стр. 130.
[7] После Нича этот пример был подробно разобран в книге Зеека (O. Seeck, Die Quellen der Odyssee, 1Ь87, стр. 213 сл.).
[8] В их числе надо отметить статьи Ф. Зелинского «Закон хронологической несовместимости и композиция „Илиады“» (Сб. „Χαρίστὴρια, M., 1896, стр. 101—121) и Die·Behandlung gleichzeitiger Ereignisse im antiken Epos. — Philologus, Suppl. — Bd. VIII, 3, 1901, стр. 405—449.
[9] Финслер („Homer“, стр. 254) не обратил внимания на это слово и поэтому считает, что, поскольку Аполлон и Ирида предстают Зевсу одновременно (ст. 150—152), то выполнение ими его поручений могло восприниматься слушателями как два одновременных (gleichzeitig) действия.
[10] Ср. уже упомянутую статью Ф. Зелинского.
8. ПРОТИВОРЕЧИЯ В ГОМЕРОВСКИХ ПОЭМАХ. ВОПРОС О ЕДИНСТВЕ ПОЭМ
Внимательное чтение гомеровских поэм вскрывает в них целый ряд противоречий и несогласованностей. Из этого ученые первой половины XIX века делали вывод, что поэмы состоят из отдельных произведений, плохо соединенных их редакторами.
Из указанных критиками несогласованностей некоторые отпадают как мнимые, так как на самом деле являются результатом проведения поэтом того принципа, который был назван выше "законом хронологической несовместимости". Так, в конце песни XI "Илиады" Патрокл говорит Нестору, что ему надо торопиться, так как его ждет Ахиллес, но приходит к Ахиллесу только в начале песни XVI, между тем как песни XII-XV насыщены действием. Причина этого лежит в разъясненном выше превращении одновременных действий в последовательные, необходимым в эпическом стиле и заставляющим поэта производить сдвиги во времени, нарушающие реальную правдивость изображения событий.
Но есть противоречия и иного типа Вот главнейшие примеры их.
1. В "Одиссее" Афина, под личиной Ментора, и Телемах являются в Пилос, где находят большое собрание народа на жертвоприношении; вскоре, однако, народ этот забыт, а то, что было массой, оказывается маленькой семейной группой.
2. Позднее, когда те же путешественники являются в Лакедемон, они находят, что по случаю большого свадебного пира дворец так переполнен народом, что, кажется, нет места для приема новых посетителей; но и свадьба, в свою очередь, скоро забыта и сменяется маленьким домашним кружком, где Елена погружена в свои заботы по хозяйству.
3. Греки в "Илиаде" то защищены стеною и рвом, то оба сооружения забыты.
4. Диомед ранит в песни V "Илиады" Афродиту и Ареса, а в песни VI колеблется выступать против Главка, говоря: "сражаться с богом я не стану".
Эти примеры могли бы быть бесконечно умножены. Ничто в гомеровской критике не было столь простым, столь легким. В конце прошлого века те ученые, которые были уверены в единстве Гомера, защищали свою веру предположением, что во всех этих противоречиях виновны интерполяторы. Они верили, что, удалив эти подозрительные места, можно восстановить единство и гармонию. Это предположение практически привело к тому, что стали подозревать чуть ли не каждый гомеровский стих. Никто не дал удовлетворительного объяснения ни происхождению этих интерполяций, ни тому, почему она были приняты рапсодами и публикой. Если даже можно предположить, что какой-нибудь малоодаренный и тупой рапсод удалял хорошие стихи и заменял их худшими, то остается необходимость доказать, почему другие рапсоды принимали такие изменения и почему аудитория, уже знакомая с лучшим текстом, принимала эту худшую поэзию.
Гомеровские противоречия можно разбить на три группы: а) действительные противоречия, вызванные lapsu memoriae поэта, б) мнимые противоречия, вызванные только неумением критиков перевести или понять как следует простую мысль поэта и, наконец, в) несогласованности, возникшие от того способа, каким поэмы исполнялись, т. е. от измененной цели поэта или от изменяющейся точки зрения различных действующих лиц поэмы.
Действительных противоречий у Гомера очень мало, и они очень незначительны. Фактически ни один герой не убит два раза и не умирает у Гомера дважды. Единственный промах этого рода состоит в том факте, что пафлагонский царь Пилемен, убитый в песни V "Илиады" (ст. 576), потом оплакивает смерть своего сына Гарпалиона (XIII, 658). Пилемен является ничего не значащей фигурой в "Илиаде", он не принимает никакого участия в действии поэмы и введен только для того, чтобы быть убитым. Поэт, очевидно забыв, что он ввел такое лицо и убил его, в дальнейшем упоминает смерть его сына Гарпалиона и оплакивание последнего отцом на пути его в Трою.
Некий Схедий, сын Перимеда, был убит как другой Схедий, сын Ифита. Факт, что в обоих случаях (XV, 515; XVII, 306) давалось имя отца, показывает, что здесь никакой путаницы не было. Нелегко было даже для грека сочинять новые имена для каждого незначительного персонажа. Гомер часто берет одно и то же имя для руководящих действующих лиц. Было четыре троянца и один грека с именем Хромий (вождь ликяйцев, XVII, 494; ликиец, V, 677; сын Приама V, 160; троянец, убитый Тевкром, VIII, 275; сын Нелея, IV, 295), имена Меланипп и Адраст были и у троянцев и у греков.
Противоречие, касающееся Пилемена, есть действительное противоречие, но ни одна часть интриги от него не зависит, и его смерть или его плач не имеют никакого отношения к рассказу. Самый факт, что это противоречие никогда не было устранено, - лучшее возможное доказательство верности, с какой сохранился гомеровский текст.
Такими же промахами, как приведенные выше, изобилуют те литературы, где автор обладает преимуществом печати, чтения корректуры и всех новых способов открытия ошибок. В первом издании романа Теккерея "Ньюкомы" один из выдающихся персонажей умирает, возвращается к жизни и преспокойно продолжает действовать до конца повествования. "Дон-Кихот" Сервантеса - одно из величайших произведений мировой литературы, изданное самим автором, однако оно содержит такие вопиющие противоречия, что кажется невозможным, чтобы они проскользнули при печатании книги. Противоречия там так явны, что читателю иногда приходится переворачивать назад две-три страницы, чтобы убедиться, правильно ли он прочел текст. В "Дон-Кихоте" - четыре ведущих действующих лица: Дон-Кихот и его конь Россинант, Санчо и его осел. В главе 23-й, к бесконечному горю Санчо, осел украден. Оруженосец уговаривает господина идти дальше; Дон-Кихот отправляется вперед, а Санчо следует за ним, сидя боком на осле. Жена Санчо в одном месте названа Марией, а в другом - Терезой.
Даже художник такого тонкого мастерства, как Вергилий, в одной и той же второй книге "Энеиды" (ст. 16, 112, 186), описывая деревянного коня, с помощью которого была взята Троя, в одном месте называет его сделанным из сосны, в другом - из клена, в третьем - из дуба.
Такие противоречия изобилуют в литературных шедеврах несомненного единства. Они являются как раз противоположными тому, что предполагают критики, то есть доказывают, что творческий гений устремляет взор свой на общую ведущую идею, не обращая внимания на отдельные мелочи.
Вторая группа состоит из тех мнимьх противоречий, которые объясняются неумением критиков перевести или понять простой смысл слов поэта. Эта группа почти безгранична и является печальной иллюстрацией того, как увечился и искажался Гомер. Т. Бергк, хотя и был защитником гомеровского единства, рассматривал в своей "Истории греческой литературы" целые сцены и песни как интерполяции и безжалостно удалял их. Противоречия давали ему критерий для проведения своей точки зрения. Так, например, Амфином, один из самых добрых женихов, относился к нищему Одиссею с таким нежным вниманием, что Одиссей пытался предупредить его об угрожающей ему опасности, но предупреждение не было замечено, Амфином остался с женихами и был убит. Амфиному не пришлось избежать приговора", приготовленного ему Афиной, так как она решила, что ему предстояло умереть от руки Телемаха. Бергк нашел здесь большое противоречие и писал: "Амфином - доказательство или поэтической ошибки, или того, что описание смерти женихов изменилось в передаче".
Если бы Бергк перечитал гомеровский рассказ об избиении женихов, он нашел бы восемь стихов, целиком отведенных описанию смерти Амфинома от руки Телемаха (XXII, 89-93).
Э. Бете отвергает, как интерполяцию, эпизод в "Илиаде" (I, 194 сл.), в котором Афина останавливает попытку Ахиллеса напасть на Агамемнона. Он считает, что было бы славным климаксом для Ахиллеса швырнуть оземь скипетр, после того как он уже обнажил меч в присутствии ахейцев. Но в греческом тексте, на который ссылается здесь Бете, стоит глагол в имперфекте и может быть переведен только: "пока он извлекал меч из ножен". Когда Афина явилась, она сказала ему: "Не извлекай меча из ножен", - она не приказала ему вложить его в ножны по той простой причине, что он и не был извлечен. В рассказе Гомера нет ни климакса, ни антиклимакса, ни противоречия. Предположение Бете основано на ошибочном переводе совершенно ясного предложения.
Дж. Магаффи выбирает, как особенно ясное и примечательное, следующее противоречие. В песни XXIII "Илиады" в состязании участвуют кони Диомеда, которых тот в песни V отнял у Энея, но нет никакого упоминания о гораздо лучших конях, которые в песни X ("Долонии") были похищены Диомедом у фракийского царя Реса. Некоторый намек на них был бы, по мнению Магаффи, не только естественным, но и необходимым, если бы единый поэт придумал этот рассказ. Большое превосходство коней Реса над взятыми у Энея -- ничем не обоснованное предположение. Мы ничего не знаем о конях Реса, кроме слов трусливого лазутчика Долона, который надеялся, возбудив жадность Диомеда и Одиссея к этим коням, спасти этим себя. Он сказал им только, что они белы, как снег, и быстры, как ветер. Нестор, увидав их, пригнанных ночью в ахейский лагерь, сравнил их с лучами солнца, очевидно из-за их цвета. Но нужно отметить, что действительный знаток лошадей - Диомед не изрек никакого суждения о них, о конях же Энея Диомед говорит: "Эти кони из породы тех, каких Зевс дал Тросу в отплату за Ганимеда, самая превосходная порода, на какую светит солнце" (V, 265). Это-мнение действительного знатока. Большое противоречие отмечено Виламовицем-Меллендорфом и касается соотношения времен года в "Одиссее" в связи с положением созвездий; оно было результатом его собственного незнания астрономии.
Одно из противоречий, указанных Фикком, может показаться достигшим полнейшей абсурдности. Когда Одиссей пристал к земле феаков, он был без одежды, голоден, жалок и несчастен. В этом состоянии он вдруг услыхал голос Навсикаи и ее подруг. Наломав сучьев и прикрыв ими свою наготу, он пошел ей навстречу, чтобы попросить о пище, одежде и проводах. Его появление должно было быть отталкивающим, но посредством ловкой и увлекательной лести он победил эту трудность я завоевал симпатию Навсикаи. Здесь Фикк усматривает большое противоречие и восклицает: "Как знал Одиссей, что у этой прекрасной девушки были братья? Как мог он знать, были ли у нее братья?"[1]
Большой вклад в изучение Гомера, сделанный немецким ученым Роте,[2] состоит в доказательстве того, "что древнегреческая эпическая поэзия не сложна и не запутана, но проста и построена по одной нити, причем каждая сцена спланирована ради нее самой. Например, когда поэт хочет дать картину домашней жизни троянцев, он составляет план сцены расставания Гектора с Андромахой. Ни о каком другом действующем лице "Илиады", кроме Гектора, он вспомнить не мог. Именно его поэт заставил покинуть поле битвы, притом как раз в тот момент, когда в нем более всего нуждались как в бойце. Цель ухода Гектора в город - настоять на жертвоприношении богине Афине. Это было поручение, которое мог выполнить самый простой воин, но такой воин не мог бы играть роль в сцене с Андромахой. Ради этого Гектор был освобожден поэтом от битвы.
Каждая сцена у Гомера должна была привлекать внимание слушателей. Недостаточно было того, что слушатель был заинтересован вчера и что будет другая сцена, которая заинтересует его завтра. Поэт должен был сосредоточить внимание своих слушателей именно на той сцене, которая рецитировалась в данный момент. Слушатель всегда должен иметь определенное понятие о всех действующих лицах, так как они всюду связаны между собой. Но он мало интересуется тем, как поэт вводит их в данную сцену.
У эпического поэта нет других средств, кроме языка, чтобы обозначить приход или уход действующих лиц или обстановку действия. Никакого иного средства, подобного тем, какими располагает драматург, у него под рукой нет.
В песни XXI Ахиллес кладет свое копье на берегу, через 50 стихов оно у него в руках (ст. 67). На сцене мы видели бы, как он снова берет его, но у Гомера этот факт молчаливо предполагается.
Когда Посейдон прибыл (в начале песни XIII "Илиады") по морю в своей великолепной колеснице, на быстрых златогривых конях, он поставил их в пещере между Тенедосом и Имбросом и связал золотыми путами. Но когда он оставил битву, нет уже речи ни о его конях, ни о том, как он ушел.
Арес сидел в стороне от битвы со своими конями и колесницей (Ил. V, 356), но из предыдущего (ст. 35) вытекало, что он был, по видимому, пеший. Афина и Гера в той же песни прибыли на равнину Трои на колеснице и двинулись на помощь грекам (Ил. V, 775), но о возвращении их говорится кратко: "возвратились на Олимп" (ст. 907 сл.). Все эти кажущиеся промахи должны быть объяснены тем, что эпическая поэзия была исключительно устной; если бы давалась каждая подробность, то рассказ был бы так загроможден, что стал бы несносным. "Илиада" имеет более пятнадцати с половиной тысяч стихов. Этот объем делал возможным рецитирование за один раз только небольшой ее части, поэтому поэт должен был так спланировать поэму, чтобы сделать певцу возможным рецитировать в один прием лишь небольшую часть, но с таким отношением предшествовавшего к последующему, чтобы создавать удовольствие припоминанием того, что уже было выслушано, и предварением того, что еще раз должно было последовать.
Настоящее деление каждой поэмы на 24 песни чисто произвольное, оно было произведено александрийскими грамматиками, чтобы облегчить ссылки, и было основано на 24 буквах греческого алфавита.
Э. Дреруп нашел, что искусный рапсод мог произносить с надлежащими интонациями около пятисот гомеровгких стихов в час и что силы его фактически за два часа истощались. Отсюда следует, что рапсод, должно быть, ограничивался в каждом отдельном случае приблизительно одной тысячей стихов. С этими выкладками Дреруп приступил к чтению "Илиады" и к, большому удовольствию своему, нашел, что вся поэма распадается на такие группы. Каждая группа похожа на целое, с началом, срединой и концом, каждая закончена в себе, но каждая есть часть большого единства - целого.[3]
Эти факты доказывают, во-первых, что поэмы были созданы для исполнения частями около 1000 стихов, и, во-вторых, что певец должен был без помощи театральной постановки сосредоточивать все свое внимание на той сцене, которую он изображал. Если мы примем это, то большая часть так называемых несогласованностей и противоречий исчезнет.
[1] A. Fick, Die Entstehung- der Odyssee, стр. 181.
[2] Ср. его книги „Die Ilias als Dichtung·“ (1910) и „Die Odyssee als Dichtung und ihr Verhältniss zur Ilias“ (1914).
[3] Drerup. Das fünfte Buch der llias. Grundlagen einer homerischen Poetik. Падерборн, 1913, стр. 421.
Можно добавить, что Роте („Die Odyssee als Dichtung“, стр. 18) разбивает Одиссею на 15 рапсодий, в среднем по 700 стихов (самое большее по 900 стихов)
9. ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС И НАРОДНО-ЭПИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО ДРУГИХ НАРОДОВ
Гомеровский эпос, как это было уже видно из предыдущего изложения, не стоит одиноко в сокровищнице мировой литературы. Он близко соприкасается с эпическими произведениями других народов, широко пользуясь всеми типичными чертами эпического стиля, которые были разобраны выше: замедлениями и обстоятельными описаниями, повторениями и трафаретными формулами, эпитетами, сравнениями и т. п. Это дает возможность провести некоторые аналогии, которые могут быть нам полезны тем, что проливают свет на ряд неясных вопросов происхождения гомеровской поэзии. Современная наука, начиная с Лахманна, много пользовалась методом аналогии, но нередко приходила к неудачным, заключениям, так как целиком переносила на гомеровскую поэзию то, что вскрывала путем анализа поэзии других народов, причем и там эти выводы иногда бывали весьма гипотетичны. Такой метод, конечно, следует признать ошибочным. Но аналогия может оказаться весьма уместной и полезной, если мы будем применять ее осторожно, как один из методов исследования, не придавая полученным выводам абсолютного значения. Вследствие несомненного сходства процесса создания больших эпических поэм у всех народов в настоящее время становится совершенно очевидной связь этих поэм с устно-народным творчеством. Поэтому недопустимо изучать вопрос о происхождении и характере героического эпоса того или иного народа изолированно от эпоса других народов. Выводы, сделанные из изучения русского былинного творчества, надо учитывать при рассмотрении вопроса о фольклорных корнях "Песни о Нибелунгах", равно как и данные о происхождении "Песни о Роланде" или о южнославянских эпических песнях и о других эпических поэмах^ они же могут помочь при исследовании поэм Гомера и наоборот.
Создание гомеровского эпоса относится к таким отдаленным временам, о которых мы имеем весьма слабое представление, и самый процесс его возникновения в своих деталях остается и останется неизвестным.
Но в то же время нет никаких оснований думать, чтобы процесс создания этого эпоса существенно отличался от того, что было у других народов. Между тем русские былины поются и до сих пор, и мы имеем вполне точные данные об их сказителях. Семья Рябининых известна своими исполнителями в трех поколениях. В. В. Радлов описал исполнение эпических песен акынами у кара-киргизов и абакан-татар. Сейчас живут и слагают свои песни казахские ашуги. Мы знаем замечательное творчество народных поэтов - Сулеймана Стальского и недавно умершего казахского акына Джамбула. Много интересных данных имеем мы о южнославянских исполнителях юнацких песен, известных под названием "слепачей". Интересные, совершенно новые материалы принесены исследованиями из области песенного творчества тюркских народов. Так, открыт монголо-ойротский эпос, некоторые исполнители и даже творцы которого- тульчи, живы.[1] Много сведений мы имеем о древне-французских труверах, англо-саксонских скопах, древнегерманских бардах, скальдах и шпильманах, древнерусских гуслярах и скоморохах, бывших носителями эпической поэзии. Карело-финская поэзия создала идеальный образ певца Вейнемейнена, в русской былинной поэзии певец представлен в лице Садко, а порой встречается и в лице Добрыни Никитича. Все эти образы имеют явное сходство с гомеровскими аэдами.
Изучение эпической поэзии показывает, что только в некоторые периоды в истории народов создаются благоприятные условия для развития этого творчества. Так было и в Греции. Очевидно, для расцвета эпической поэзии нужны определенные социальные условия, без которых такое творчество не появляется, либо угасает, теряя под собой почву.
Мы можем только предполагать, что в основе "Илиады" лежат некоторые исторические события. Когда же мы обращаемся к эпосу новых народов, мы находим в нем вполне реальную историческую основу. Современным исследователям удалось найти некоторые исторические личности, послужившие прообразами былинных богатырей. Например, в создании и развитии образа Вольги Святославича несомненно играла роль личность "вещего" Олега; прообразом Добрыни Никитича был Добрыня, дядя Владимира; Алеши Поповича - Александр Попович, один из "храбров", погибших в битве при Калке. Богатыри русских былин группируются около исторической личности - киевского князя Владимира, в образе которого сочетались черты князей, из которых один жил в X, а другой-в XII веке (Владимир Мономах).
В отдельных былинах отразилась борьба русских с кочевниками - хазарами, печенегами, половцами и татарами. Былина о том, как перевелись богатыри, есть отклик несчастной битвы на Калке. Микула Селянинович и Илья являются воплощением крестьянских идеалов древней Руси. Былина о Василии Буслаеве - живое отображение быта новгородской вольницы. Былина о Садко - отклик жизни богатого торгового города Новгорода.
Одна из монгольских поэм посвящена воспоминаниям об известном завоевателе XII-XIII веков ·- Чингис-хане. В другой монгольской поэме - "Гесериаде" изображен справедливый царь, "посланный на землю для искоренения главного зла, проистекающего от пожирания слабых сильными". Наиболее интересен для сопоставления с Гомером бурято-монгольский вариант "Гесериады". Среди сербских юнацких песен есть цикл песен о битве на Косовом поле (1389 г.) и о Марко Кралевиче, убитом в 1394 г. Вековая борьба с турками придавала особую действенность этим историческим воспоминаниям, которые получали агитационное значение; в мрачных условиях современности она вселяла в народ бодрость и окрыляла его надеждой.
Такое же значение имела армянская поэма "Давид Сасунский", увековечившая геройскую борьбу армянского народа - горцев области Сасуна за низвержение арабского ига в X веке.
В византийской литературе сохранился в нескольких редакциях любопытный памятник подобного творчества - поэма о деяниях Дигениса Акрита (середина X века), воевавшего в Каппадокии и на Евфрате и защищавшего границы Византийской империи. Эта поэма в переработке в виде повести была известна в древнерусской литературе под названием "Девгениево деяние".
Древнефранцузская "Песнь о Роланде" особенно показательна, так как факт, положенный в ее основание, засвидетельствован в истории. Первое известное упоминание этой песни относится ко времени битвы при Гастингсе в 1066 г., а запись и окончательная редакция поэмы принадлежат уже к XII веку, - вот сколько времени длился подготовительный процесс формирования составных элементов поэмы и, наконец, организация их и переложение в единую цельную поэму. За это время и самое событие и действующие лица претерпевали большие изменения· в воображении и в воспоминаниях народа. Молодой король превратился в седобородого императора, двухсотлетнего старца; нападение маленького племени басков превратилось в нападение сарацин; частный эпизод походов Карла Великого представлен как грандиозное событие национального и религиозного значения. Воспоминания о такого рода исторических событиях подкреплялись реликвиями, которые показывались в монастырях паломникам, направлявшимся из Франции в монастырь Сант-Яго-де-Компостелья: гробницами Роланда, его друга Оливье и двенадцати пэров, погибших с ними, мечом Дюрандалем, рогом Олифантом и т. д.[2]
Такие факты показывают рост исторического предания и постепенное собирание художественных образов и поэтических мотивов вокруг исторической действительности. Можно сказать, что подготовка эпического материала продолжается в течение целых столетий, пока, наконец, какому-нибудь гениальному поэту-певцу не удастся весь этот материал воспоминаний и непосредственных наблюдений над окружающей действительностью воплотить в живые художественные образы, объединить единой художественной концепцией и облечь в звучную ритмическую речь большой эпической поэмы. Один из исследователей монгольского эпоса так резюмирует этот процесс: "Подобно тому как русские былины представляют собой творчество древнерусских единоличных народных сказителей, передававших их из поколения в поколение, видоизменяя их, каждый в соответствии со своими дарованиями; подобно тому как "Нибелунги" являются в древнейшей части созданием дружинных певцов эпохи разложения древнегерманского родового общества и впоследствии стали передаваться бродячими певцами феодального периода, так называемыми шпильманами, которые видоизменяли древнейший сюжет и превратили героическую песню в феодальную эпическую поэму, - точно так же и наши [халха-монгольские] былины были сложены уличерчинами-рапсодами, которые либо сочиняли их заново, либо использовали для них более древние сюжеты".
Несколько особое положение занимает финская "Калевала". Эта поэма представляет собрание ряда карело-финских народных песен, или рун, объединенных в одно целое (вокруг сюжета о сватовстве героя Вейнемейнена) финским ученым и поэтом Лёнротом (1802-1884). В центре поэмы он поставил песнь о Сампо из 435 стихов, записанную близ Архангельска. Вся поэма, таким образом, состоит из отдельных самостоятельных эпизодов, не имеющих между собой внутренней органической связи, иногда прямо противоречащих друг другу, объединенных искусственно, лишь внешним образом. Так как процесс создания этой поэмы как цельного произведения хорошо известен благодаря указаниям самого составителя, она может служить типичным примером объединения "малых песен" в духе теории Лахманна, или, еще точнее, в духе "теории расширения", поскольку Лёнрот не только объединял отдельные части, но и сам расширял их, особенно во втором издании своего сборника.[3] После смерти Лёнрота данные об этой мозаичной собирательной работе его еще пополнились. Таким образом, Лёнрот является скорее ученым собирателем, "редактором", чем поэтом-творцом. Поэма, так своеобразно им созданная, лишена единства, и как раз этим-то она отличается от других поэм, и в особенности от "Илиады" и "Одиссеи".
Эти особенности, которые можно четко выявить в истории эпоса новых народов, в той или иной степени имели место и в истории греческого эпоса. Недаром в гомеровских поэмах устанавливается определенная историческая связь с "микенским" периодом в историй Греции. Существование города Трои подтверждается остатками города, которые открыты археологами на холме Гиссарлыка. Найденные там предметы культуры напоминают те, которые описываются в поэмах.
Но вся эта историческая основа изображена в крайне преувеличенном виде и прикрашена поэтической фантазией, причем с большой свободой к ней примешиваются различные мотивы и сюжеты из богатой греческой мифологии. Такой смешанный состав имеют обе знаменитые поэмы.
[1] Об этом см. Б. Я. Владимирцов, Монголо–ойротский героический эпос. П. — М., 1923.
[2] О развитие этой поэмы, весьма важном и для гомеровского вопроса, см. статью Б. И. Ярхо в книге „Песнь о Роланде“ (М. —Л., „Academia“, 1934).
[3] О Лахманне и „теории расширения“ см. ниже, гл. VI.
10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
"Илиада", отличающаяся определенно выраженным военным характером и воспроизводящая в лице своего главного героя Ахиллеса идеал военной доблести, могла возникнуть только в военной обстановке. Герои ее, из которых некоторые имели культы в континентальной Греции, взяты из различных древних мифов. Сам Ахиллес, изображенный сыном богини Фетиды, может быть, имеет культовое происхождение, связанное с определенным этапом развития религии у всех народов. Но всем этим героям в поэме приданы чисто человеческие черты. Есть все основания предполагать, что в сказании о Троянской войне отразились действительные войны, которые вели фессалийские племена при завоевании эолийского побережья Малой Азии. "Одиссея" же, изображающая более мирную картину, всеми своими интересами обращена к западной стороне греческого мира. Чудесные страны, по которым странствует ее герой Одиссей, -острова феакийцев, нимфы Калипсо, бога ветров Эола, бога солнца Гелиоса, страны киклопов, волшебницы Кирки, пролив, где живут Скилла и Харибда, и т. д., - все эти места обращают внимание на запад.[1] Это - страны, к которым уже стремится любознательное воображение греков, но которые еще недостаточно освоены ими и по-тому рисуются страшными, полными всевозможных чудовищ и смертельных опасностей.
В этих чертах нельзя не видеть отражения ранних этапов колонизационного движения греков, направлявшегося на запад. Уже не сила и доблесть составляют идеал людей этого времени, а хитрость, ловкость и изворотливость, которые необходимы переселенцам во время их передвижений, когда их со всех сторон подстерегают засады и неожиданные нападения. Эти черты характера героя и нашли самое яркое выражение в образе Одиссея. Вместе с тем, эта поэма включила в себя, как было указано выше, много чисто сказочных мотивов не только в рассказах о приключениях Одиссея, но и в самом сюжете, который основан на сказочном мотиве возвращения мужа к моменту готовящейся свадьбы жены и связывается с мотивом состязания для получения ее руки.
При всем разнообразии и даже противоречивости использованных материалов "Илиада" и "Одиссея" обладают большим композиционным единством, которое определенно выступает над множеством "эпизодических" элементов и отступлений. "Гнев Ахиллеса" придает единство всему действию "Илиады", и не случайно, что все введенные в нее события происходят на протяжении лишь пятидесяти дней. Точно так же все действие "Одиссеи" сосредоточено вокруг вопроса о возвращении Одиссея на родину, а все описываемые события происходят в течение сорока дней.
Сравнительное исследование эпических произведений разных народов показало полную несостоятельность теории происхождения гомеровских поэм путем механического соединения "малых песен". Ни одно эпическое произведение не является таким механическим соединением самостоятельных песен, так как при этом условии никогда не могло бы получиться внутреннего органического единства поэмы.[2]
С другой стороны, не удалось открыть и такой песни, которая могла бы послужить основным ядром[3] всей большой поэмы. Приходится признать, что она должна была в процессе расширения подвергнуться такой переработке, которая не оставляла почти ничего от ее первоначальной формы. Дело сводится в таком случае к представлению лишь об основной концепции всей поэмы, что приводит уже к заключению о едином авторе.
Все эти наблюдения представляют большую ценность в применении к гомеровскому эпосу, и если и теперь все еще нельзя считать гомеровский вопрос разрешенным, то многие стороны его выясняются путем сравнения с эпосом других народов.
В заключение необходимо остановиться на некоторых чертах гомеровских поэм, которые говорят о том, что "Одиссея" принадлежит эпохе более поздней, чем "Илиада". В основном этот факт вытекает уже из того, что мы можем датировать движение греческих колонистов на запад более поздним временем сравнительно с колонизацией Малой Азии. В "Одиссее" мы находим и более точные сведения о Египте. Те же выводы мы должны сделать из факта более широкого развития торговли в "Одиссее",[4] из большей имущественной дифференциации. В "Одиссее" в эпическую поэзию в большей степени вторгается реальный мир с его насущными потребностями, со всей прозой жизни. Более ранняя "Илиада" еще обращает все свое внимание на идеализированное отражение прошлого, на изображение его таким, каким оно рисовалось воображению потомства. В "Одиссее" гораздо больше сентенций на тему о трудностях добывать средства к жизни, чаще упоминается о работе по найму, о нужде.[5]
Еще в последней песни "Илиады" (возможно, одной из самых поздних в составе этой поэмы) распределение в здешнем мире благ и зол рисуется в образе Зевса, черпающего их из двух сосудов, из коих один полон благ, а другой - бедствий (Ил. XXIV, 527 сл.). В тоне "Одиссеи" уже очень заметно усиление морали и рефлексии, размышлений о судьбе человека в мире, нравоучительных сентенций и т. п. Так, уже в первой песни (ст. 32 сл.) трактуется вопрос о свободе воли, о зависимости или независимости поступков людей от богов или от собственной воли.
Это существенное различие двух поэм, отражающее различие эпох, необходимо иметь в виду при исследовании многих вопросов, касающихся гомеровского эпоса.
[1] Новейшие исследователи (В. Берар) пытаются связать описания „Одиссеи“ с определенными местами западного Средиземноморья.
[2] О „Калевэле“ см. выше, стр. 106.
[3] „Теория основного ядра“ также излагается ниже, в главе VI (стр. 120 сл.).
[4] Ср. „Одиссея“, песнь I, ст. 180 сл., где владыка тафийцев Ментес говорит о торговле с Темесой; песнь I, ст. 259, где упоминается о поездке Одиссея за ядом в Эфиру.
[5] Для последней песни „Илиады“ характерно слово βουβρωστις „гложущий голод“, „безвыходная нужда“ (Ил. XXIV, 532). Ср. Одиссей–нищий в беседе с Эвримахом (Од. XVIII, 366 сл.), Одиссей о своем нищенстве (Од. XIX, 73 сл.), разговор Одиссея с Амфиномом (XVIII, 130 сл.).
Глава VI ГОМЕРОВСКИЙ ВОПРОС
I. РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЗАПИСЬ ГОМЕРОВСКИХ ПОЭМ. ВОПРОС О ПИСИСТРАТОВСКОЙ РЕДАКЦИИ
Сопоставляя свидетельства древних писателей о деятельности рапсодов, Зенгебуш в своей "Первой диссертации о Гомере" (1855) сделал попытку установить историю рапсодических школ по городам и островам восточного бассейна Средиземного моря. Наиболее определенно источники говорят о школах хиосской и самосской. Менее ясны для нас другие школы рапсодов: смирнская, кимская, на острове Иосе (где показывали могилу Гомера), колофонская, кипрская, милетская, проконесская и некоторые другие. Однако русский ученый Ф. Ф. Соколов подверг теорию Зенгебуша очень основательной критике.[1] Поэтому правильнее говорить только о наличии деятельности рапсодов в перечисленных местах.
Далее, в источниках встречаются указания на связь распространения гомеровского эпоса с именами хорошо известных исторических деятелей. Таковы спартанский законодатель Ликург, тиранн Сикиона Клисфен, Солон Афинский. Из них, впрочем, Ликург принадлежит к полубаснословным личностям. О Ликурге рассказывает Плутарх в биографии этого деятеля (гл. IV), что он получил поэмы Гомера от потомков рапсода Креофила, которого большинство авторов связывает с островом Самосом, Об исполнении гомеровских повм в Сикионе при Клисфене говорит Геродот (V, 67). Диоген Лаэртский (I, 57) свидетельствует о том, что Солон упорядочил публичное исполнение рапсодами произведений Гомера в Афинах.
Но главное свидетельство, которое привлекло внимание новых ученых и послужило одним из оснований появления особой теории о происхождении поэм Гомера, это - свидетельство об ученой комиссии, работавшей над Гомером по назначению Пиеистрата. Это известие в разных редакциях дошло до нас через Цицерона (Об ораторе III, 34 и 137), Павсания (VII, 26, 6), Элиана (Пестр, ист. XIII, 14), Либания (Панегирик Юлиана I, 385 по изд. Рейске) и ряда авторов, а также в одном из анонимных жизнеописаний Гомера (Vita D.), где помещена эпиграмма для статуи Писистрата, и, наконец, в схолии к Плавту, открытом только в XIX веке и изданном Ричлем.
Упомянутая эпиграмма на статуе Писистрата гласит:
Трижды меня, тиранном бывшего трижды афинским.
Изгнал народ, и вновь трижды на трон свой вернул
Писистрата, в советах великого, кто и Гомера
Прежде петого врозь, вновь воедино связал.
(Перев. С. П. Шестакова)
Скорее всего из этой эпиграммы и надо исходить в определении той работы над Гомером, какая была поручена Писистратом его ученым сотрудникам Ономакриту, Зопиру Гераклейскому и Орфею Кротонскому. Речь, однако, может итти не о "создании" поэм этой комиссией, как склонны были это понимать новые ученые во главе с Ф. - А. Вольфом, а только о "восстановлении" их, или "возобновлении", как это ясно из последнего стиха надписи. Только в этом смысле сообщение о Писистрате в указанных свидетельствах мирится с умолчанием о нем Геродота, аттических ораторов, не раз говоривших о панафинейских празднествах, Аристотеля и вообще наших источников. Свидетельство мегарского историка Диэвхида (IV век до н. э.) показывает, что рукописи Гомера, конечно, уже существовали и до Писистрата. История греческой письменности также этого не отвергает.
Любопытные строки есть в плутарховой биографии Ликурга (гл. IV): "Была уже некоторая особая молва у греков об эпосах, но немногие обладали некоторыми разрозненными (σποράδην) частями поэзии, распространявшейся как случится".
[1] Ср. Ф. Ф. Соколов, Гомеровский вопрос („Труды Ф. Ф. Соколова“, СПб. 1907, стр. 386 сл., 389 сл.).
2. КРИТИКА ТЕКСТА И ОБЪЯСНЕНИЕ ГОМЕРА В ДРЕВНОСТИ
В конце IV века до н. э. был известен своим "Поношением Гомера" Зоил из города Амфиполя, живший в Афинах и заслуживший прозвище "Бича Гомера" (Ὁμηρομάστίξ). Он был представителем особого направления в литературе, которое ставит себе задачей высмеивать то, перед чем все преклонялись. Типы Гомера освещались односторонне, чтобы представить их в смешном виде или подчеркнуть неправдоподобие некоторых описаний Гомера. Отсюда в это же время возникает литературная борьба так называемых энстатиков (ἐνστατικοί), констатировавших подобные неправильности и неясности в изображении Гомера, и литиков (λννικοί), т. е. разрешителей недоуменных вопросов.[1] Удивительными мастерами в такого рода разрешениях "апорий" или "проблем" были Сосибий и Эвфорион.
Но особенно широкое изучение Гомера начинается в эпоху Птолемеев в Египте, когда при Птолемее Филадельфе (285-247) в Александрии основывается огромная библиотека (см. в томе II). С библиотекой связано было особое ученое учреждение - так называемый Музей, нечто вроде Академии наук.
Одним из первых, кто занялся установлением текста Гомера на основании богатого рукописного материала, собранного в Александрийской библиотеке, был Зенодот Эфесский, который, как говорят источники, явился первым "диортотом", или "справщиком" гомеровских поэм.
Александрийская библиотека располагала целым рядом изданий (ἐκδόαεις) Гомера, т. е. установленных и принятых в том или другом греческом полисе текстов Гомера, отличавшихся друг от друга подробностями. Таковы были издания городские (αί κατὰ πόλεις), именно - массильское, хиосское, аргосское, синопское, кипрское и аттическое (афинское), Это последнее, прежде всего, считалось александрийцами "вульгатой" (κοιναί δημώδεις). Были и издания, выпущенные отдельными лицами (αί κατ᾿ ἄνδρα), например издание Антимаха Колофонского (ή Ἁντιμάχειος), который и сам был эпическим поэтом, или издание "из ларца" (ή έκτοῦ νάρθηκος), приготовленное Аристотелем для его ученика, Александра Великого, и сопровождавшее последнего в его походах. Были издания более удовлетворительные (χαριέατεραι) и менее удовлетворительные (δικαιότεραι). Во всем этом материале пришлось впервые разбираться Зенодоту.
Кроме издания ("диортосы") Гомера, Зенодоту принадлежали "Гомеровские глоссы", т. е. истолкование гомеровских слов, непонятных для современного критику поколения. Такие собрания составлял раньше Зенодота его учитель Филет Косский. К Зенодоту возводят и разделение каждой из гомеровских поэм на 24 песни - по числу букв греческого алфавита, тогда как раньше в составе поэм различались более крупные деления вроде "Подвигов Диомеда", куда Геродот (II, 116) относил песни V и VI "Илиады" с частью песни VII.
Относительно качества диортосы Зенодота мы знаем только то, что сообщает традиция схолиев, стоящая целиком уже на точке зрения более поздней диортосы Аристарха. Естественно, что свидетельства вроде того, что Зенодот удалил (ᾗρκε) те или другие стихи "без всякой необходимости" (πρὸς οὺδὲς ὰναγκαῖον), только будто бы в виду их повторения у Гомера в другом месте, или что повод к таким исключениям давало наличие в стоящих рядом стихах синонимических элементов, - требуют критического подхода. Возможно, что Зенодот основывался на особых текстах Гомера. Из новых критиков некоторые в последнее время выдвигали на Первый план его особые от Аристарха чтения. У Зенодота замечалось недостаточное знакомство с гомеровским словоупотреблением. Так, он понимал διακρίθήμεναι (Ил. II, 387; VII, 292) в смысле "рассудиться", а не "разойтись", как надо это понимать у Гомера.
Аристофан Византийский, наследник Зенодота по управлению библиотекой, умер на 77-м году жизни, в первые годы Птолемея Филометора (181-146).[2]
В своей диортосе Гомера Аристофан впервые применял критические значки: обел (-), диплу (>), сигму и антисигму (Ϲ и Ͻ), кераунион (⊺). Им были впервые обозначены некоторые повторения у Гомера. Он отмечает слово ἀνδράποδον как необычное у Гомера; указывает и противоречия: например, в песни XII в стене ахейского лагеря было несколько ворот, а в песни XXIV говорится только об одних воротах. В рецензии текста он редко прибегал к конъектурам, но конъектуры его не всегда были удачны. Аристофану приписывают отрицание принадлежности Гомеру конца "Одиссеи" со ст. 297 песни XXIII.
Знаменитейшим из справщиков Гомера был Аристарх Самофракийский. Он жил между 210 и 140 гг. до н. э. и считался в древности превосходным критиком. Перед его ученым авторитетом в деле установления текста и объяснения Гомера преклонялись. К ст. 572 песни I " Илиады" мы читаем в схолиях: "И восторжествовало чтение Аристарха, хотя оно оснований не имело". Таким авторитетом своим Аристарх был обязан прежде всего чрезвычайно детальному изучению словоупотребления у Гомера. При этом Аристарх точно установил значение слов у Гомера в отличие от современного ему языка: σώμα - "труп" (не "тело"), - а φόβος - "бегство" (а не "страх"), πόνος - "труд (а не "страдание" в позднейшем смысле слова) и т. д. и т. д. Кроме того, он толковал Гомера со стороны мифологии и реалий, так как одинаково хорошо владел и грамматикой, и историей литературы, и древностями. Но, разумеется, верность его суждений была ограничена тогдашним состоянием лингвистической науки. В его производстве слов встречается много такого, чего современное толкование допустить не может.
Что же касается поправок к тексту, то источники сообщают о чрезмерной осторожности (ἡ περιτὴ εὑλάβεια) Аристарха. Подобно Аристофану Аристарх занимался кроме Гомера, многими авторами. К его трудам о Гомере относятся: а) издания текста Гомера (διορθώσεις), которых было два: б) комментарии (ὐπομνήματα): один - по Аристофану, где он следовал своему предшественнику, другой-самостоятельный. Аристарх также употреблял в тексте Гомера критические значки. Так, например, дипла с точками означала отличия от Зенодота, астериск (звездочка) и астериск с обелом (прямая линия) - повторенные у Гомера стихи; сигма и антисигма - двойные рецензии, в тексте Гомера (т. е. два рядом стоящих варианта, вкравшихся в текст вместе, и т. д. Известны были еще трактаты Аристарха (συγγράμματα) "Об "Илиаде" и "Одиссее"", "К Филету", "К Коману", "Против неправдоподобного положения Ксенона", " О корабельном каталоге".[3]
Из учеников и последователей Арлстарха надо назвать Аммония и его сочинение: "О том, что не было нескольких изданий диортосы Аристарха". Из более поздних александрийских ученых самым известным был Дидим, живший в I веке до н. э., прозванный за свою усидчивость "человеком с медными внутренностями" (χαλκέντερος). Он специально писал "О диортосе Аристарха". Очевидно, позднейшая традиция настолько затемнила подлинный текст этой диортосы, что приходилось восстанавливать ее путем специальных изысканий. Вот почему современник Дидима Аристоник писал "О критических значках Аристарха". На этих двух лиц постоянно ссылаются дошедшие до нас схолии лучшей для "Илиады" рукописи Библиотеки св. Марка в Венеции (обычно означаемой Codex Venetus A). Вместе с ними упоминаются сочинение Никанора (около 130 г. н. э.) "О стигме", т. е. о знаках препинания у Гомера, и сочинение грамматика Геродиана (около 160 г. н э.) о просодии в "Илиаде". Из этих четырех трактатов (Дидима, Арисгоника, Никанора и Геродиана) в середине III века н. э. было сделано извлечение (ἐπιτομή), которое дошло до нас в упомянутой венецианской рукописи, изданной впервые Виллуазоном в 1788 г.
Одновременно с развитием александрийской школы в Пергаме возникла другая ученая школа, изучавшая Гомера, Ее знаменитейшим представителем является стоик Кратет из города Маллоса в Киликии. В Пергаме также была большая библиотека; на основания ее рукописных богатств Кратет и составил свои комментарии к Гомеру. В противоположность более грамматическому направлению александрийской учености в пергамской школе преобладали философские, исторические и физические проблемы. Эти проблемы ставились на основании Гомера, как неисчерпаемого кладезя всякой премудрости, и в нем же старались найти их разрешение. В основанной Кратетом стоической школе стало модно толковать Гомера аллегорически, ибо, по Кратету, Гомер преследовал не только эстетические цели (ψυχαγωγία), но и учительные (διδασκαλία). Кратет открывал у Гомера достижения позщейшей математики и физики. Предполагают, что какая-то стоическая гомеровская энциклопедия лежит в основе сочинения "О Гомере", ложно припасываемого Плутарху.
По топографии "Илиады" большое значение имел трактат Деметрия из Скепсиса (II в. до н. э.) "Размещение троянцев" (Τρωϊκὸς διάκοσμος) в 30 книгах. Вслед за другими Деметрий отрицал тождество места исторического Илиона с гомеровской Троей.
В упомянутых схолиях к Гомеру, изданных Виллуазоном (Codex Venetus A), и в схолиях другой венецианской рукописи X--XI веков (Codex Venetus B, № 473 Библиотеки св. Марка), кроме упомянутой "эпитомы" грамматического содержания, мы находим свод комментариев, касающихся больше мифология и аллегорического толкования поэтического стиля. Это - толкования разных авторов, собранные не раньше начала IV века н. э. Аллегорическое толкование Гомера применялось в конце III века н. э. неоплатоником Порфирием, автором сочинения "Гомеровские проблемы". Последним трудом воспользовались составители схолиев. В школе Порфирия нахождение трудностей у Гомера и способов их разрешения стало уже чистой игрой остроумия.
В дальнейшем изучение Гомера замирает до периода возрождения интереса к античности в Византийской империи. Ко второй половине XII века н. э. относятся дошедшие до нас "Извлечения, касающиеся "Илиады"" архиепископа Солунского Евстафия. И этот поздний ученый использовал более ранних авторов, писавших о Гомере и толкованиях на него. К XII же веку относится "Толкование "Илиады"" византийского ученого и поэта Иоанна Цеца (Τζέτζης).
Ранняя древность рассматривала героическую сагу, в особенности в том ее виде, как она оформлена в эпосе, как праисторию эллинских племен. В V веке до н. э. начала пробуждаться критика. В то время как Геродот думал добыть из саг исторические факты путем исключения из них сверхъестественных прибавлений, Фукидид уже отринул надежность гомеровского свидетельства. Новые моменты внесло понимание софистов, которые в мифах о богах и в сагах о героях видели только вымыслы поэтов, предназначенные облечь их житейскую мудрость в привлекательную форму. Убеждение, что сагам вообще не свойственна историческая ценность, уже в IV веке до н. э. настолько окрепло что историки этого столетия считали необходимым совершенно отделять сагу от истории. Эфор начал свою греческую историю с дорийского переселения, а всё более раннее отнес к мифическим временам. Рядом с этим историческим критицизмом развивалось аллегорическое объяснение мифов о богах и саг о героях, приведенное в прочную систему стоиками. Они объясняли мифические образы как этические силы или как силы природы, а иногда как то и другое.
Аллегорическое толкование саг, перенятое от древности в эпоху Ренессанса XV-XVI веков, было в XVII и XVIII столетиях преодолено в долгой борьбе, но в XIX веке аллегорическое толкование вновь возродилось. Открытие индийских гимнов Ригведы вызвало к жизни науку сравнительной мифологии, которая теперь стала толковать все мифы и саги как отражение явлений природы, происходящих в небе и в облаках. Война из-за Трои стала представляться борьбой небесных сил из-за мрачной, скрывающей золото солнца крепости туч. Допускали, что этот бой когда-то локализовался в равнине Скамандра. Даже после того, как благодаря бессмертной заслуге Шлимана Троя встала из своих развалин, все еще можно было слышать положение, что найти Трою так же мало шансов, как поднять со дна Рейна сокровища Нибелунгов.
[1] Ср. K. Lehrs, De Aristarchi studiis Homericis (Лпц. 1855), стр. 190—224.
[2] О прочих его сочинениях см. т. II..
[3] Основные сочинения об Аристархе. K. Lehrs, De Aristarchi Studiis Homsricis (3–е изд. Лпц., 1832); A. Ludwich, Aristarchis Homerische Textkritik (2 тома). 1887.
3. ГОМЕРОВСКИЙ ВОПРОС В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ДО Ф. - А. ВОЛЬФА
Гомеровская критика нового времени начинается по существу воскрешением литературных споров, которые в XVI и XVII веках происходили в Италии и во Франции. В Италии борьба исходила из стремления отвоевать оригинальность Ариосто, во Франции - из личного соперничества противника древних Перро (Perrault) и почитателей древности (Буало, Расин). В обеих странах дело шло о противоречиях у Гомера, о композиции его поэм, о его нравах, характерах, о его· стиле, об оценке его сравнительно с новыми поэтами или с Вергилием и о вопросе, действительно ли он заслуживает той похвалы, какую ему воздают столетия. Во Франции "спор древних с новыми" продолжался рядом поколений. Среди участников этого спора в начале XVIIl века выделяется аббат Террассон, автор "Диссертации об "Илиаде"" (1715). Террасой был известен как крупный математик, и в самом деле, он обнаруживает в своей книге неумолимую математическую логику, но ни малейшего понимания существа поэзии.
С начала XVI века многих занимали вопросы о собрании поэм Гомера Писистратом; свидетельства об этом старались привести в согласие с существованием личности поэта, в чем не сомневались.
Большой шаг к отрицанию единства поэм и существования самого Гомера сделал основатель гомеровской критики аббат д'Обиньяк. Его книга, написанная в 1664 г. ("Conjectures académiques ou dissertation sur l'Iliade") появилась в печати только в 1715 г. без имени автора, умершего уже в 1676 г. Д'Обиньяк знал древнюю и новую литературу по Гомеру настолько, насколько мог ее знать француз его времени. Для него дело шло не о том, чтобы быть за или против существования Гомера. Скорее целью его было доказать, что очень многое, являющееся промахами в едином эпосе, становится даже красотами, как только мы откажемся от предположения о единой композиции. Он сначала проверяет известия древности о личности Гомера и приходит к заключению, что о ней у древних не имеется никаких подлинных указаний. Человек с именем Гомера никогда не существовал. Это имя означало "слепца", как было объяснено самими древними; "Илиада" называлась "рапсодией Гомера", т. е. "сборником песен слепца", так как отдельные эпические песни долгое время исполнялись слепыми певцами при дворах знати.
По мнению д'Обиньяка, "Илиада"-собрание отдельных отрывков, слаженных, редактором без общего плана. Редактор начал с отрывка, который показался ему самым подходящим, и закончил тем, которым легче всего было заключить произведение. Он вставлял стихи для связи и отбрасывал то, что мешало этому. Он изменял, вероятно, и то, что казалось ему необходимым, чтобы сделать целое более приемлемым. Предположение единой композиции, принадлежащей одному поэту, говорит д'Обиньяк, невозможно, если "Илиада" не была заранее записана. Но фактически этого не случилось, как сообщает Иосиф Флавий (Против Апиона I, 2). а передача такой большой поэмы по памяти немыслима. Остается только предположить, что существовало множество отдельных поэм, которые потом были соединены в одно целое. Составление такого собрания песен д'Обиньяк относит ко времени задолго до Писистрата. Известия древних он вполне правильно понимает в том смысле, что редакция Писистрата была вторичным собранием уже существовавшего цельного произведения. После некоторых колебаний д'Обиньяк признает Ликурга первым собирателем песен. Самое собрание д'Обиньяк представлял себе как первую их запись.
За этим внешним обоснованием автор выдвигает и внутренние основания своей гипотезы, почерпнутые им из самой "Илиады". Поэма не имеет ни единого плана, ни единой темы, ни героя. Гнев Ахиллеса - тема для начала всей поэмы не подходящая. Заключения поэма не имеет, так как смерть Гектора не может быть конечной целью поэта. Осада Трои не является соединительным элементом, так как описываются только отдельные битвы в открытом поле. Имелись только маленькие поэмы, авторы которых, предполагая факт осады, но не упоминая о нем, давали эпизоды из нее. Каждая из них была сочинена в восхваление определенного героя, перед потомками коего она исполнялась. Отсюда объясняются все недостатки, какие окажутся присущими "Илиаде", если понимать ее как общую композицию. Тогда окажутся ненужными для целого мешающие эпизоды, беседы, рассказы, повторения сражений и поединков, также слов и сцен, сравнений, эпитетов и сентенций, крупные противоречия между отдельными местами, наконец недостаток последовательности в характеристике отдельных богов и героев. Все эти вещи делают большой эпос неудобоваримым, но в отдельной поэме они являются преимуществами. Здесь каждый поэт имел в виду славу только того героя, которого он воспевал. В этих песнях поэты не обращали внимания друг на друга и потому были вполне свободны в выборе материала и в его трактовке.
Сочинение д'Обиньяка не оказало сначала никакого воздействия ни в одной стране, кроме Италии, где оно приобрело влияние на воззрения Вико. Во Франции и в Англии на него, по видимому, не обратили внимания. В Германии оно стало известно лишь во второй половине XVIII века. Гердер прямо называет эту книгу, а для Х. - Г. Гейне и Ф. - А. Вольфа ее положения явились основополагающими.
Первому провозвестнику Гомера в Германии Гердеру были известны как свидетельства древних о Писистрате, так и книга д'Обиньяка. Предположение, что сначала исполнялись только отдельные песни, превосходно мирилось с его новым и оригинальным пониманием Гомера как народного поэта, который пел на рынках то, чему его учила Муза. Это представление вполне подходило и к доказательству Макферсона, что Оссиановы песни были собраны только после того, как они в течение веков жили лишь в памяти бардов. Сравнение с английскими народными песнями сборника Перси уже в 1772 г. внушило Гердеру мысль, что для отдельных песен возникало по три и даже по четыре варианта и что затем позднее все эти сохранившиеся рапсодии должны были попасть в руки "лучшего критика лучшего времени". Позже он утверждал, что Гомер был поэтом, который "создал зародыш", художественный образ, а гомериды "довели дерево до последнего развития".
Совершенно иной характер имеет сочинение Джамбаттисты Вико "Основания новой науки",[1] трактующее вопрос в соответствии с историческим законом подъема и упадка культуры. Величественный труд Вико дает совершенно иное понимание Гомера. В своих объяснениях кругооборота духовной жизни человечества, основанного на постоянных законах, Вико два раза высказал суждение о месте Гомера в процессе этого развития. Основа его воззрения состоит в том, что мифы являются самым первоначальным и самым подлинным выражением первых религиозных представлений людей и памятниками самой ранней истории народов. Поэтическое изложение мифов - это первый общий язык первобытной древности. С изменением примитивной теократической культуры и обусловленных ею нравов первоначальный смысл этих мифов затемнился и испортился.
В первом издании своего труда (1725 г.) Вико рассматривает Гомера как великого восстановителя первых основных мыслей поэзии. "Гомер, - объясняет он, - построил экономию "Илиады" на идее промысла и святости клятвы. Так как религия не была в состоянии держать народы в узде, он противопоставлял друг другу образы добродетели и порока, последнего - в лице Париса, поступок которого принес гибель Трои, первой же - в лице Ахиллеса, который отвергает руку царской дочери и хочет только ту супругу, с которой он связывает общие надежды и стремления (песнь IX "Илиады"). Основная мысль "Одиссеи" - победа мудрости и выносливости главного героя над презренными женихами. Для своего времени Гомеру подобает слава основателя греческой гуманности и вместе с тем восстановителя примитивных принципов".
Однако в дальнейшем своем изучении Вико изменил свой взгляд на Гомера как на устроителя греческой цивилизации. Он и раньше отвергал скрытую в Гомере глубокую мудрость и рассматривал ее как продукт позднейшей философии. Теперь, в изданиях 1730 и 1744 гг., он оспаривает дидактический характер гомеровской поэзии.
Гомеровские характеры, говорится теперь, не подходят к гуманной культуре ни в поведении богов, ни в поведении героев. Они - точные выражения гомеровского века. С точки зрения этого открытия Вико исследует противоречивые показания древности о родине и времени поэта. Он находит, что автор "Одиссеи" должен был жить не там, где жил автор "Илиады". "Одиссея" указывает на юго-запад Греции, "Илиада" - на Малую Азию. Он находит показания об играх, о металлической технике, о роскоши быта несовместимыми с изображением грубейших нравов и заключает отсюда, что эти поэмы долины были быть составлены в разные времена, разными лицами. Призвание Гомера образцом для всей античной эпической поэзии, а также для характеров трагедии основывается, по Вико, на том, что его фигуры - идеальные образы, в которых народ объединил все черты героического времени и многочисленные деяния отдельных людей. В эпосе мы находим такие же образы действительной жизни своего времени, как позднее в комедии Менандра. Это - общее создание народа, корни которого в высочайших силах воображения. Такое произведение должно было быть возвышенным по своему стилю. Известия о Гомере, по мнению Вико, приводят нас к заключению, что этот поэт существовал только в воображении, а не в действительности. Очевидно, Вико композицией поэм был введен в заблуждение, заставившее его безусловно отрицать историчность личности Гомера, тогда как на самом деле, несмотря на известие о рецензии Пиеистрата, эпос указывает, по крайней мере, на упорядочивающую руку поэта. Это Вико чувствовал, и это заграждало ему путь к дальнейшему исследованию. В остальном он полагал, что, благодаря его открытию, все трудности отпадают: "Сами народы были тем Гомером; отсюда они также спорили из-за его родины". Эпическая песнь процветала от Троянской войны до времени Нумы; отсюда также показания о веке Гомера разбрасываются на период в 460 лет. Слепота и бедность были перенесены на Гомера с действительно существовавших рапсодов. Эти последние были составителями поэм. Если Лонгин заставляет Гомера юношею сочинять "Илиаду", а стариком "Одиссею", это значит, что Греция отдавалась в период юности диким страстям Ахиллеса, а в свой старческий период - мудрости Одиссея и утонченной культуре. Эти два периода, должно быть, отстояли далеко Друг от друга. Описания богов соответствуют каждому состоянию греческой культуры. Таким образом, открытый подлинный Гомер является действительно устроителем государственного порядка, отцом всех других поэтов, источником всей греческой философии. Все это никак не подошло бы к историческому индивидууму Гомеру. Эпосы станут для нас, пояснил Вико, если не смотреть на них как на произведение одного лица, составленное по плану, в высшей степени ценной сокровищницей истории естественного права Греции.
"Предисловие к Гомеру" (Prolegomena ad Homerum) Ф. - А. Вольфа, профессора в Галле, вышедшее в 1795 г., было тем трактатом, в котором особенно убедительно были сформулированы положения о позднем появлении письма в Греции, о долгой устной традиции гомеровских поэм в школах рапсодов, или гомеридов и о роли в их истории Писистрата и его сотрудников. По первому вопросу подготовлен был материал Бернгардом Мерианом, который в своем подробном докладе, сделанном в 1789 г., еще раз сгруппировал все доводы, касающиеся позднего появления письма у греков, примыкая к взглядам, высказанным Вудом в его "Опыте об оригинальном гении Гомера" (1769). Гомер письма не знает: письмо Прета, упоминаемое в песни VI "Илиады" (σήματα λυγρά, ст. 168 сл.), - это не письмо, а что-нибудь вроде славянских "черт и резов", о которых говорит черноризец Храбр. Если даже на камне и писали (Вольф ссылается на законы Залевка), то чем и на чём мог писать Гомер? С папирусом греки еще не были знакомы, а приготовление писчего материала из кожи овец и коз (т. е. дифтер и позднейшего пергамента) не было известно. От финикийцев, как было позднее, Гомер не мог узнать письма, так как финикийцы не заботились о культуре, а знали только торговлю и пиратство.
Еще до Вольфа Руссо говорил, что "Одиссея" была бы немыслима при существовании письма. В том же 1795 г. вышла статья Гердера "О Гомере и Оссиане", в которой он, признавая, что если и есть нечто общее между обоими поэтами в возникновении их поэм, то вообще сравнивать их невозможно, вопреки господствовавшему тогда мнению Макферсона и Перси. Оссиановы туманные фигуры, в противоположность образам Гомера, похожи одна на другую.
Предположить для объяснений устную передачу в школах рапсодов Вольфа побудили рассказы Макферсона о школах бардов. Утверждение же, что отдельное лицо не может ничего ни придумать, ни выполнить без помощи письма, заимствовано Вольфом у д'Обиньяка. У него же взята мысль, что дошедшая до нас форма поэм есть дело позднейшего времени. Но, в противоположность д'Обиньяку, Вольф для большинства песен и их последовательности предполагает все же единого поэта, которого и называет Гомером. Здесь обнаруживается влияние Аристарха, которому Вольф неожиданно уступает. Как сильно зависит Вольф от александрийского критика, видно еще из того, что интерполяции и противоречия, какие он приводит, он нашел в схолиях.
Помимо несамостоятельного констатирования этой непоследовательности в поэмах, Вольф усмотрел в писистратовом собрании первое соединение поэм в одно целое. Но он обманул почти весь XIX век утверждением, что так смотрела на дело вся древность. Это было совершенно неверно, так как древность не сомневалась в единстве поэта.
Воздействие "Пролегомен" Вольфа было громадно, так как, по меткому замечанию К. - О. Мюллера, "весь основной взгляд того времени о возникновении поэтических художественных произведений и пути, какой должен избрать человеческий дух, чтобы достигнуть таких вершин, соединился, как в фокусе, в Вольфе". Известные и раньше утверждения казались теперь обоснованными блестящей ученой аргументацией. Весь образованный мир занял ту или иную позицию в этом вопросе. Ослепленные внешней ученостью люди не видели за искусным построением того, что налицо были только внешние доказательства вероятия, но никаких действительных обоснований не было. Единственным человеком, который ясно сознавал это и свой конечный приговор ставил в зависимость от анализа поэм, обещанного Вольфом, был Мельхиор Чезаротти, автор исследования "L'Iliade di Omero", законченного годом раньше "Пролегомен" Вольфа (оно вышло в Падуе в 1786-1794 гг.).[2] Но взгляды Чезаротти остались в Германии неизвестными. При этом Вольф старательно позаботился о том, чтобы на его долю досталась ничем не преуменьшенная слава первого изобретателя, и самым непростительным образом отделывался от своих предшественников: Гейне, Гердера, Вуда и особенно д'Обиньяка. Однако, по существу, он был им обязан всей своей теорией. В действительности, его "Пролегомены" не содержат ни одной оригинальной мысли, используя сплошь чужие мотивы и лишь придавая им законченную литературную форму, что удобно прикрывало недостаток собственных результатов.
Влияние "Пролегомен" Вольфа сказалось вначале в большей степени на писателях, чем на представителях филологической науки. Со времени появления книги Вольфа Гёте не переставал отзываться на нее, сначала в смысле решительного и радостного согласия, позднее более уклончиво. Фридрих Шлегель уже в 1796 г. напечатал статью: "О гомеровской поэзии в ее отношении к исследованиям Вольфа".[3] По существу, опираясь на Винкельмана и Гердера, Шлегель старался понять развитие эпоса из культуры героического века. Позже Гёте вспоминал о том, какое скорбное чувство распространилось среди друзей поэтического искусства, когда личность Гомера, единственного создателя этих поэм, пользовавшихся мировой известностью, стала оспариваться таким смелым и дельным образом. "Образованное человечество, - говорит он, - было до глубины души потрясено, и если оно не в состоянии было обессилить доводы высокоавторитетного противника, то оно, однако, не могло вполне погасить в себе старого духа и стремления видеть здесь единственный источник, из которого возникло столько дорогих впечатлений".
У Шиллера его занятия Гомером имели самое глубокое влияние на его замечательную статью "О наивной и сентиментальной поэзии". "Если вчитаться, - говорит он, - в некоторые песни, мысль о рапсодическом нанизывании и о различном происхождении представится варварской, так как великолепная непрерывность и взаимоотношение целого и его частей являются одной из самых действенных поэтических красот". Некоторые язвительные эпиграммы в "Ксениях" также проявляют нерасположение Шиллера к гипотезе Вольфа.
[1] Джамбаттиста Вико. Основания новой науки об общей природе наций. Перевод и комментарии А. А. Губера. Л. Гослитиздат. 1940.
[2] Ср. книги: Osti, Melchior Cesarottie F. A. Wolf, 1914; W. Bérard. Un mensonge de la science allemande: les Prolégomènes de Fr. Aug. Wolf (1917).
[3] В переработанном виде эта статья вошла в его „Историю эпической поэзии греков“ (1798).
4. ГЛАВНЫЕ ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОМЕРОВСКОГО ЭПОСА В XIX-XX ВЕКАХ
Переходя к тем теориям о составе гомеровских поэм, какие возникли после Вольфа и существовали до недавнего времени, мы должны назвать следующие направления.
1. Так называемые "охотники за малыми песнями" (Kleinliederjäger), главою которых был Карл Лахманн, выпустивший свои "Betrachtungen über Homers Ilias" в 1837-1841 гг.
2. Так называемые "унитарии", самым первым из коих был Г. - В. Нич, автор исследования "Die Sagenpoesie der Griechen" (1852). Он впервые выступил в защиту единства гомеровских поэм еще в начале 30-х годов в своих примечаниях к "Одиссее".
3. "Теория основного ядра" (Kerntheorie), развитая во втором томе "Истории Греции" Джорджа Грота (1847).
Теория Лахманна была затем несколько развита Морицем Гауптом, написавшим дополнения к книге своего учителя. Лахманн подверг "Илиаду" анализу по образцу своего более раннего исследования "Песни о Нибелунгах" (1816). Он исходил из безоговорочного признания факта писистратовой редакции и свой анализ проводил в духе учения Гердера о народной поэзии, воспринятого немецкой романтической школой. В основе этого анализа лежало установление противоречий в тексте, причем Лахманн считал бесспорным, что один и тот же автор противоречий допустить не может. Из текста поэм выделялись отдельные песни, с таким расчетом, чтобы внутри них не было даже мелких противоречий, но на поэтическую цельность таких "малых песен" внимания не обращалось. Лишь в немногих случаях выделение этих песен было сделано с достаточным основанием. Таковы, например, "Подвиги Диомеда" (песнь V) или "Патроклия" (песни XVI-XVII).
У последователя Лахманна Германна Кёхли, автора "Iliadis carmina XVI restituta" (1864), при сохранении того же метода исследования мы находим некоторые существенные отступления от первоначальной теории: отдельные песни не были впервые соединены в комиссии Пиcистрата, а с самого начала каждая из них сочинялась с учетом содержания других, и уже с раннего времени они исполнялись вместе. Так он приходит к "пра-Илияде" и "пра-Одиссее", состоявшим из самостоятельных песен. Кёхли скорее приближается к той теории, которую впервые развил Готфрид Германн в своем этюде "Об интерполяциях у Гомера" (1832). Готфрид Германн сделал заключение, что в I песни "Одиссеи" со ст. 87 начинается перерыв в рассказе, и в основную тему, какою является возвращение Одиссея, включается позднейшее добавление - "Телемахия", Повествование о Телемахе так же внезапно прерывается на 620-м стихе песни IV, чтобы возобновиться со ст. 113 песни XV. Этим же исследователем были выделены и основные моменты для критики "Илиады".
Решительным противником Лахманна выступил Нич. Через десять лет после упомянутого выше его труда "Die Sagenpoesie der Griechen" вышла его новая книга "Beiträge zur Geschichte der epischen Poesie der Griechen" (1862). Он использовал в ней правильную установку Велькера в понимании развития греческой саги и эпического цикла, учитывая различие между эпосом и трагедией в форме и трактовке. Несмотря на то, что Ничу не удалось доказать всех своих утверждений, его труды во многом способствовали правильному пониманию Гомера в подробностях послаблению неумеренного критицизма. Эти труды выходят далеко за пределы с лора о возникновении поэм. Нич считает, что уже сага запечатлела героические фигуры и подвиги в творческом смысле. Эпический же поэт, расширяя мотивы саги соответственно их национальному содержанию, становится таким же национальном поэтом, как и поэт трагический. Драматическое оформление важнейших событий из национальной жизни сделало Гомера любимцем греков. Гомер изображал им их мировое сознание в хорошо знакомой им и все же всегда новой форме. Он создавал характеры в соответствии с их глубочайшим внутренним убеждением и говорил им своими изречениями так, как чувствовало их сердце. Этот образ национального поэтического гения помрачен для нас критикой. Попытки решить отрицательно вопрос единства гомеровских поэм слишком поспешны, "так как в них недостает основы национального восприятия, которое одно может вызвать генетическое понимание завещанных нам поэтических произведений".
Другим крупнейшим "унитарием" был, на ряду с Ничем, датский ученый Нуцгорн, автор книги "Die Entstahungsweise der Homerischen Gedichte" (1869). К этому же направлению принадлежали русские эллинисты М. С. Куторга и Ф. Ф. Соколов.
Но и школа Лахманна продолжала привлекать к себе многочисленных сторонников, среди которых наиболее известны Бониц, Зенгебуш, Лауэр, Ларош и др.
Среднее положение между этими направлениями занимал профессор К. Лерс, признававший единство каждой из поэм, но отрицавший их связь друг с другом. Эта точка зрения высказывалась уже некоторыми александрийскими грамматиками, которые получили у своих современников название "хоризонтов" (отделителей).
Многие положения "теории основного ядра" по частным опросам были приняты представителями "теории малых песен". Так, ими был целиком принят анализ пески IX "Илиады" с выделением особой "Поэмы о посольстве", сделанный Дж. Гротом. Грот признавал, что песни II-VII "Илиады" содержат красивейшие поэтические сцены, но считал, что вставлены они очень неискусно. Еще раньше Генрих Дюнтцер в книге "Homer und der epische Kyklos" (1839) считал эти же песни отдельной поэмой. В Германии теория Грота стала популярней после книги Л. Фридлендера "Die homerische Kritik von Wolf bis Grote" (1853), где она была заново обоснована.
Особое развитие в применении к "Одиссее" эта теория получила в работах Адольфа Кирхгофа. Этот ученый доказывал, что уже в источниках, использованных нашей "Одиссеей", старые песни были так переработаны, что можно, конечно, узнать их следы, но восстановить их первоначальные формы уже невозможно.
К той же теории был близок и В. Крист (Christ), в 1884 г. издавшей "Илиаду", где основные и позднейшие части поэмы напечатаны крупным и мелким шрифтом.[1] Из русских ученых сторонниками этой теории являлись П. М. Леонтьев, И. Пеховский, Ф. Г. Мищенко, С. П. Шестаков, Ф. Ф. Зелинский и Вяч. Иванов.
Большое значение имели лингвистические исследования Августа Фикка, выделявшие более древние части гомеровских поэм на основании преобладания в них эолийских форм. В своих исследованиях о Гомере (1883-1887) он опровергал взгляд древних на язык Гомера как на древнеионийский диалект и считал, что эпический язык создался в городе Смирне, который принадлежал сперва эолийцам. Когда же город перешел в руки ионийцев, Гомериды выселились на остров Хиос, но и там должны были уступить влиянию ионийского диалекта и перевели свой эпос механически слово в слово на это наречие. Эолийское языковое достояние сохранилось лишь там, где перевод был невозможен по метрическим основаниям или где в ионийском наречии не оказывалось подходящего слова, с тот искусственный смешанный язык стал затем языком позднейшего эпоса.
"Теория основного ядра" опиралась на наблюдения тех противоречий и непоследовательностей, которые для "теории малых песен" послужили основанием к выделению таковых в составе "Илиады" и "Одиссеи". Однако сторонники этой теории, признавая вместе с "унитариями" общее единство плана поэм, общее впечатление их цельности, пришли к выводу, что в основе "Илиады" лежит небольшая поэма с определенным сюжетом - "Гнев Ахиллеса", значительно расширенная позднейшими вставками и распространениями.
Остановимся на анализе состава "Илиады" с точки зрения этой теории.
В основной поэме небольшого размера все части ближайшим образом относятся к упомянутому сюжету. Во-первых, завязка: ссора Ахиллеса с Агамемноном в песни I "Илиады" из-за того, что Агамемнон отнял у первого пленницу Брисеиду, а также решение Зевса, принятое им по просьбе матери Ахиллеса, морской богини Фетиды, - отомстить Агамемнону и ахейцам за обиду, нанесенную Ахиллесу успехами троянцев; во-вторых поражение ахейцев в песни XI; в-третьих, посылка Ахиллесом его друга Патрокла на помощь ахейцам в тот критический момент, когда троянцы оттесняют ахейцев до самых кораблей и грозят сжечь их и тем отрезать путь к отступлению; и, наконец, месть Ахиллеса троянцам и Гектору за смерть Патрокла, убитого Гектором· (в песни XVI), поединок Ахиллеса с Гектором (в песни XXII) и смерть последнего.
В относимых сюда критикой песнях "Илиады" I, XI, XVI-XXII, с предполагаемыми большими распространениями позднейшего времени, видят остов всего богатства, и разнообразия содержания "Илиады". В этой основной поэме, где действие быстро подвигалось к развязке, сюжет затем был распространен во всех ее частях. Между завязкою (песнь I) и поражением ахейцев (песнь XI) было вставлено, прежде всего, обширное отступление (песни II-VIII), в котором развертывается общий фон событий - война ахейцев с троянцами. В этом отступлении, однако, победителями оказываются скорее ахейцы, чем троянцы, и решение, принятое Зевсом в песни I, остается втуне. Мало того, в олимпийской сцене в начале песни IV Зевс дает Гере определенное обещание конечной гибели Трои. Главным основанием для критики выделять всю эту группу песен ив состава основной поэмы "Гнев Ахиллеса" (или "Ахиллеида") является-то, что многие сцены в составе этой группа песен мыслимы скорее в начале войны, при первом столкновении ахейцев с троянцами, чем в конце ее, на десятом году, куда они отнесены в нашей "Илиаде". Таков "Смотр со стены" ("Тейхоскопия") в песни III, где Елена называет и описывает троянским старцам героев-ахейцев, выступивших в открытое поле. Таковы сцены песни IV, где Агамемнон обходит своих витязей со словами ободрения. Наконец, сюда же можно отнести и каталоги ахейский и троянский, во второй половине песни II. С другой стороны, есть в составе той же группы песен и такая, которую мы скорее ожидали бы встретить непосредственно перед развязкой поэмы, т. е. перед гибелью Гектора. Это знаменитая сцена песни VI - сцена прощанья Гектора с Андромахой, где еще древние отмечали необыкновенную жизненность обрисовки родственных чувств и деталей в психологии ребенка. В песни V подвиги Диомеда, со столкновением героя с самими богами, стоят совершенно особняком. Представители "теории основного ядра" единодушно все эти сцены относили приблизительно к середине VIII века до н. в., так как они содержат намеки на более позднее культурное и политическое состояние Греции сравнительно с более древними частями поэмы.
Отдельно от этой группы следует рассматривать конец песни VII и песни VIII-IX. Песнь IX изображает посольство к Ахиллесу от Агамемнона, но, между тем, в песни XVI, так же как в некоторых других местах "Илиады", нет никаких признаков того, чтобы Агамемнон предпринимал эту попытку примирения с Ахиллесом. Вот причина, почему и песнь IX большинство критиков считало позднейшею в составе "Илиады". Песнь же VIII, описывающая поражение ахейцев и оканчивающаяся ночёвкой троянцев после победы на бранном поле вокруг сторожевых костров, является, по толкованию критиков, позднейшим дублетом к подлинному рассказу о таком поражении в песни XI, которое было в основной поэме.
Песнь X ("Долония") - эпизод ночного подвига Диомеда и Одиссея в лагере троянцев - признавалась еще самими древними за вставку времени Писистрата.
Вмешательство в судьбу ахейцев богов-покровителей - Геры и Посейдона - служит поводом к созданию великолепных сцен в песнях XIII-XIV. Рядом с этими сценами, блещущими всеми красками поэтической фантазии, в составе того распространения древней поэмы, которое представляют песни XII-XV, мы встречаем посредственные эпизоды, как резонерский диалог о трусости и храбрости между критскими героями Идоменеем и Мерионом (XIII, 249 слл.) или беседу раненых ахейских вождей в начале песни XIV. Вторая половина песни XV представляет, по видимому, редакционное сочетание нескольких параллельных версий описания последней атаки троянцев на ахейские корабли и ее отражение Аяксом.
"Патроклия", в которой описывались подвиги Патрокла, при отражении нападения троянцев на корабли, кончается гибелью героя. Обстоятельства битвы вокруг его тела и спасение тела из рук врагов распространены новыми подробностями и участием новых героев в песнях XVII-XVIII. В древней поэме простое появление Ахиллеса на валу ахейского лагеря заставляет врагов обращаться вспять; позднейшие поэты постарались увеличить число боев около тела и ввели новые сцены, а эффект вмешательства Ахиллеса усилили участием богини Афины с ее эгидою, которою она осеняет героев. Подобным же распространением в песни XVIII является подробное описание рельефных изображений на щите Ахиллеса работы Гефеста. Горе Ахиллеса по поводу смерти друга первоначально было обрисовано поэтом несколькими крупными штрихами: герой повергался в прах во весь свой могучий рост и оставался некоторое время безгласным, сраженный ударом судьбы. В распространениях древнего содержания поэмы в песни XIX рассуждения Ахиллеса и утешающих его героев на тему о том, что еда не идет на ум, когда душа кипит мщением, или что еда необходима для человека, что нельзя из-за душевного потрясения отказываться от поддержания пищею своих физических сил, - утрированы и риторичны. Мало понимал автор личность Ахиллеса в первоначальной редакции той сцены встречи с Энеем (песнь XX), где в уста последнего влагаются пространные рассуждения о генеалогии троянских Энеадов, терпеливо выслушиваемые Ахиллесом. Грандиозная борьба Ахиллеса с богом реки Скамандром в песни XXI получила придаток позднейшего происхождения - укрощение речного бога богом огня и "Теомахию" (схватку между богами). Игры у могилы Патрокла в песни XXIII и выкуп тела Гектора в песни XXIV - позднейшие распространения древней поэмы, уже расширенной вставками. Особенно очевидны признаки позднего происхождения "выкупа" и в языке и во множестве стихов, заимствованных из других песен.
Так представляется состав "Илиады с точки зрения "теории основного ядра", пользовавшейся почти общим признанием в конце XIX и в начале XX века. Один из ее виднейших представителей - Виламовиц-Меллендорф позднее значительно уклонился от своей прежней точки зрения. Именно, он стал представлять себе деятельность поэта "Илиады" - Гомера - гораздо более значительной чем раньше; но в то время как другой ученый, отошедший от этой теории, Георг Финслер, это решающее для эпоса поэтическое дело ставит в самый конец его развития, Виламовиц помещает его в середину процесса. Это сделал уже раньше Роде в книге "Psyche", но в другом смысле. У Роде Гомер, т. е. поэт, придумавший план "Илиады", следует непосредственно за периодом отдельной песни. Это - могучий новатор, который на место старой поэзии песен ставит нечто, чего еще не предчувствовали, чего еще никогда не было, - эпос. Это вовсе не простое расширение и обогащение созданной до него формы. В этом смысле можно назвать Роде "унитарием", так как Гомер стоит у него в самом резком контрасте по существу со всем тем, что было до него. Иначе смотрит на дело Виламовиц. У него поэт "Илиады" в известной мере органически входит в постепенное развитие эпоса. Правда, он остается и у него великим творцом поэтической концепции, на которой покоится наша теперешняя "Илиада": план и состав композиции - его собственность. Однако, когда Гомер создал по этому плану свой эпос, ионийская эпическая поэзия была уже в полном расцвете. Там уже всюду отдельная песнь развилась в стройную маленькую поэму; предварительная ступень героической песни лежала в далеком прошлом; поэтическая техника, стих и язык были развиты в совершенстве. В Ионии VIII века возникло единство "Илиады", вплоть до немногих вставок, в Ионии она получила свою нынешнюю форму, - правда, в результате работы многих лиц по процессу ее расширения, которое происходило слоями, причем целые части первоначального эпоса были в корне преобразованы.
Но и этот первоначальный вид "Илиады" Гомера не во всех своих частях оригинальная поэзия, а скорее составное образование, которое поэт построил как из собственной, так и из чужой поэзии. Значит, задачей исследования, прежде всего, является - обнажить слои, которые отложились над подлинной "Илиадой", и потом выделить составные части, которые поэт "Илиады" воспринял для своего произведения и которые, следовательно, древнее его. Виламовиц сравнивает работу исследования Гомера с методической раскопкой, при которой со сносом верхних слоев постепенно проникают в глубину.
Генезис произведении, его постепенное оформление Виламовиц мыслит так: первой концепцией была "Ахиллеида" - поэма, которая теперь образует основу песен XVIII- XXIII. Она простиралась от ночи, следовавшей за смертью Патрокла, до смерти Ахиллеса. От этой поэмы сохранились нетронутыми куски в песни XX (помимо трех значительных прибавок) и в песнях XXII-XXIII (до ст. 256). Но песнь I (вплоть до незначительной прибавки эпизода Хрисеиды) мыслится как экспозиции, которая экспонирует больше, чем только "Ахиллеиду". Следовательно, Гомер сам сочинил песнь I, когда в его уме был план всей поэмы, который уже включал в себя то, что содержится в песнях II-VII и XI-XVII.
Таково, по Виламовицу, происхождение первого большого древнегреческого эпоса. Это было мастерское произведение, новое по своему объему и по высокому искусству композиции. Оно обладало могучим воздействием благодаря своей поэтической силе. Автор древней "Илиады" был не просто составителем или редактором - он был выдающимся поэтом и предлагал сознательное, вполне зрелое искусство, обдуманное, целеустремленное, совсем далекое от детской наивности. Он действовал драматически и патетически. Большая часть действия разыгрывается в речах, предназначенных для того, чтобы характеризовать лиц, которые у поэта все носят ярко выраженный индивидуальный отпечаток. Но всего сильнее индивидуальная манера поэта обнаруживается в изображении мира богов: он создал сцены, где обнаруживается рвущийся к наслаждению, не тревожимый никакой моралью мир бессмертных людей, так восхищавший великого поэта. В нем уже виден дух будущей греческой науки и будущего свободомыслия. Через олимпийские сцены песни I и особенно песни XIV проходит плутовской подтон, который чужд и более поздним и более ранним частям "Илиады", - тон, который поразительно отличается и от грубой высокопарности битвы богов ("Теомахии") и от волшебно-сказочного мира Гефеста-кузнеца, но так же поразительно отличается и от архаической стилизации песни V или дикости, какую, например, проявляет Гера в песни IV. Над всем этим поэт "Илиады" разливает блеск полнейшей, самой свободной, естественной прелести. Он, значит, не примитивный поэт; он принадлежит уже позднему времени эпоса. Это следует и из того, что многие из чужих кусков, которые он вставил в свою постройку, показывают уже высокую степень поэтического совершенства.
Так стоит перед нами "Илиада" Гомера, как художественная постройка, которая, хотя и воздвигнута из плит разного происхождения, однако образует в целом грандиозное здание, проникнутое единством. Виламовиц сравнивает ее с древними христианскими базиликами, колонны которых взяты из различных, более древних построек. Поэт "Илиады" был первым эпиком, который сумел оформить целое из хорошо округленных частей. Этому решающему великому делу обязан он своею вечною славою.
К Виламовицу примыкает Эд. Шварц, автор книги "Zur Entstehung der Ilias" (1918). Уже название показывает, что Эд. Шварц не намерен давать анализа всей поэмы. Его этюд носит характер восполнения и частичного исправления анализа его предшественника, с которым он во многих пунктах соприкасается. В общем Шварц согласен с построением Виламовица, но считает три произведения, лежащие в основе "Илиады" (песни I, III-V и XVIII-XXII), не результатом продукции одного поэта, а простым агрегатом без внутренней связи.
Теория Эд. Шварца перемещает нас во времена Лахманна, которого Шварц напоминает тонкостью отдельных наблюдений при таком же отсутствия проницательности в вопросе о художественном целом. Такой же характер имеет и книга Беренса "Происхождение Илиады" ("Die Entstehung der Ilias", 1920). Берене также рассматривает "древнюю "Илиаду"" в как механическую контаминацию. Она состояла, по его мнению, из соединения еще более древних "Ахиллеиды" и "Патроклии" с рядом добавлений, которых у него, однако, больше, чем у Эд. Шварца.
[1] Ср. также Naber, Quaestiones Homericae. Амстердам, 1878.
СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГОМЕРОВСКОГО ВОПРОСА (ДОПОЛНЕНИЕ К ГЛАВЕ VI)
"Теория основного ядра" (Kerntheorie), господствовавшая в изучении гомеровского эпоса во второй половине XIX века, продолжает свое существование и в нынешнем столетии. В последние годы XIX века развитие этой теории было тесно связано с гипотезой о зарождении героического эпоса в эолийской среде и переходе его затем к ионийцам. В последнее время против этого тезиса раздается много возражений.
Для постановки этого вопроса в начале XX века очень характерна книга Карла Роберта "Studien zur Ilias" (1901), где дано гипотетическое построение четырех "Илиад", вплоть до самых мелких деталей. Первая из этих "Илиад", или "пра-Илиада", реконструирована Робертом в сотрудничестве с Ф. Бехтелем на эолийском наречии и состоит из песни I, первой половины и конца песни II, песни IV (ст. 422-469), песни VII (ст. 219-272), после которой вновь идет песнь IV (ст. 517-536), далее песнь V (ст. 541-575), песнь VI (ст. 5-72), затем вновь песнь V (ст. 37-47), снова песнь VI (ст. 73-85, 102-118, 23/-241, 313-364, 503-525) и т. д. Во всех этих кусках часто пропускаются отдельные стихи как позднейшие интерполяции. Затем детально перечисляются прибавления, сделанные во "второй Илиаде" (главным образом из песен XIII-XVII), и при этом утверждается, что одновременно возникла отдельная поэма "Бой у стены". "Третья Илиада" образовалась путем включения "Боя у стены" (песнь XII) и "Подвигов Диомеда" (песнь V). "Четвертая Илиада" образовалась тогда, когда были присоединены: отдельная поэма "Посольство" (песнь IX), "Погребение Гектора" (песнь XXIV) и ряд частных эпизодов, как, например, бой с рекой Скаманаром. Наконец, еще позже в "Илиаду" попали такие части, как "Каталог кораблей" (песнь II, ст. 494-759, 816-877), "Долония" (песнь X), "Битва богов" (песнь XX), "Собрание богов" (песнь IX, ст. 4-78) и самые последние, датируемые VI веком дополнения: "Прощание Гектора с Андромахой", поединок Аякса с Гектором (VII, ст. 313-482) и некоторые другие. Для хронологического распределения слоев "Илиады" Роберт широко использует книгу В. Рейхеля· "Гомеровское оружие" (Homerische Waffen, 1894) и углубляет его исследование противоречивых показаний "Илиады" о вооружении героев, находя в этих данных признаки как позднемикенского периода, так и времени раннего расцвета ионийских колоний в Малой Азии.
Кроме упомянутых выше работ Виламовиц-Меллендорфа, Эд. Шварца и Берета, следует назвать еще вышедшую одновременно с ними книгу Э. Петерсена ""Гнев Ахиллеса" Гомера и "Илиада" гомеридов" (Homers Zorn des Achilleus und der Homeriden Ilias, 1920), Петерсен реконструирует поэму "Гнев Ахиллеса", состоящую из пяти частей, с такою же детализацией, как и Роберт, но расходится с ним. Так, например, из песни I Роберт выбрасывает ст. 1-6, 63, 139, 178-179, 203-205, 212-214 и т. д., Петерсен - сс. 29-32, 52, 55, 63, 80-83, 113-115, 154-157, 160, 163-168, 176-178,189-222 и т. д. Совпадают у обоих ученых для первой половины песни I только два исключенных стиха (63 и 178).
В 1924 г. В. Берар подверг в своем издании "Одиссеи" такой же скрупулезной операции и вторую гомеровскую поэму. Так, например, песнь IV "Одиссеи" состоит у него из ст. 404-497 песни III с присоединением ст. 1-305 из песни IV по обычному тексту, ст. 1-67 из песни XV, после чего снова идут отрывки песни IV, перемешанные песнью XV. В противоположность Роберту, который исходит из данных материальной культуры, Берар утверждает, будто для него главным основанием, из которого он исходит при своем "монтаже" текста "Одиссеи", являются разночтения найденных за последние 50 лет папирусов с отрывками из Гомера. Но дело в том, что для песни IV мы имеем всего три отрывка на папирусах. Из них только один дает 165 стихов (ст. 97-261, Ox. Pap. № 953), а два других содержат; первый - 11 стихов (ст. 292-302, Ox. Pap. № 565), второй - 12 стихов (ст. 388-400, Ox. Pap. № 775). Интереснейший же Тебтунисский папирус, содержащий конец IV и начало V песни, опубликован только в 1933 г. (The Tebtunis Papyri, vol. III, № 697, стр. 25-32) и Берару не мог быть известен. Таким образом, папирусы к его реконструкции песни IV "Одиссеи" никакого отношения не имеют, и основания этой реконструкции остаются неизвестными читателю.
Все эти исследования совершенно ясно показывают, что анализ гомеровского эпоса с точки зрения "теории основного ядра" окончательно зашел в тупик. Невозможно указать хотя бы двух исследователей, реконструкции которых бы совпали. Поэтому все эти реконструкции в своих детальных построениях должны быть безоговорочно отброшены наукой. Из всего почти столетнего развития "теории ядра", если подходить к нему как к научному наследию, могут остаться лишь самые общие контуры, определяющие относительную древность различных составных частей "Илиады". Попытки же точного определения результатов творчества первого, второго, третьего и т. д. поэтов или редакторов "Илиады" должны быть признаны совершенно несостоятельными. В применении к "Одиссее" также остаются непоколебленными только общие контуры построения Кирхгофа (см. выше, стр. 120), считавшего, что окончательное объединение "Одиссеи" .принадлежит, несмотря на повторение в начале пески V "Пролога" из пески I, одному поэту.
Несколько иначе обстоит дело с той теорией, которая возникла в 80-х годах прошлого столетия и, так же как и "теория ядра", занимает промежуточное положение между воззрениями Лахманна и его прямых последователей и унитаристами. Эта чисто эклектическая концепция, называемая обычно неудачным термином "теория компиляции", или (более правильно) "теорией источников", связана с именем известного историка древнегреческой литературы Вильгельма Криста.[1] Она стала очень популярной, так как в основных чертах была сразу принята братьями Круазе и вошла в их пятитомную "Историю греческой литературы" (том I вышел в 1887 г.). Крист считал, что образы главных героев "Илиады" - Агамемнона, Ахиллеса, Аякса, Нестора и Одиссея, - в основных чертах были разработаны уже в саге о борьбе ахейских и эолийских переселенцев с туземцами, но сама поэма создана Гомером как великим поэтом, добавившим новые мотивы (в том числе "Патроклию"). Окончательный же вид "Илиаде" придали гомериды. Если бы не было крупного поэта, то более древние песни остались бы на стадии цикла отдельных былин, объединенных только общим фоном, как это имеет место, например, в русских былинах. Таким образом, в противоположность ранним представителям "теории основного ядра", Крист и Круазе творчество гениального поэта помещали не в начале процесса, приведшего к созданию известной нам "Илиады", а в конце его, допуская после этого поэта только отдельные интерполяции. В этом их отличие от "теории основного ядра", причем позднейшие представители первой теории (как, например, Виламовиц) учли это бесспорное положение, но не могли отказаться от бесплодных попыток реконструкции первоначальной основы. Поэтому основные положения "теории источников" могут считаться правильными и сейчас, хотя почти все частные выводы Криста и Круазе должны быть пересмотрены в свете наших новых взглядов на древнейшую историю Греции (см. выше главу I, § 1). В особенности должен быть пересмотрен вопрос о содержании понятий "ахейцы" и "эолийцы" (см. выше, главу II, § 2). Крист считал, что "Одиссея" создана не автором "Илиады", а другой крупной поэтической личностью. Этот поэт использовал существовавший до него "ностос" Одиссея, превратив его в поэму с драматической развязкой (месть женихам). "Телемахия" (т. е. путешествие Телемаха) была включена позже, но как отдельной поэмы ее не было.[2] В этом главное отличие от взглядов Кирхгофа. Создание "Одиссеи" отнесено к более позднему времени, чем создание "Илиады", Этот пункт в настоящее время также требует пересмотра, и в пользу отнесения окончательного создания "Одиссеи" к более поздней эпохе в настоящее время не может быть приведено достаточных оснований. "Одиссея" рассматривается сейчас подавляющим большинством гомероведов как произведение иного эпического жанра, чем "Илиада", именно - как поэма авантюрно-сказочная,, а не героическая, а следовательно, имеющая и иные источники (устная сказка, в значительной части - бродячие сказочные сюжеты). Следовательно, отражение в "Илиаде" более древней эпохи (период господства бронзы, меньшего развития торговли, меньшего разделения профессий и т. д.) свидетельствует о том, что в основе ее лежат более древние источники, восходящие в основном к позднемикенскому периоду, но не о том, что окончательное оформление "Одиссеи" относится ко времени значительно более позднему. Фольклорные сказочные мотивы могут быть также очень древними, но самый характер их приводит к тому, что в них меньше сохраняется быт эпохи их возникновения, ее couleur locale. Поэтому воскрешение разделительной теории александрийских хоризонтов, защищавшейся и в первой половине XIX века К. Лерсом, не является необходимым. Это - вполне допустимая гипотеза, но не более как гипотеза. Главным аргументом в ее пользу было бы при этом не различие "культурных стадий" (теория "Kulturstufen", развитая в особенности П. Кауэром и критикуемая Э. Дрерупом[3]), а разница в стиле, не зависящая от различия в жанре. Но такая разница как раз довольно трудно доказуема, и "эпический стиль" в узком понимании термина в обеих поэмах один и тот же.[4]
Особое положение занимают исследования Д. Мюльдера "Илиада и ее источники" (Die Ilias und ihre Quellen, 1910) и Э. Бете "Гомер. Поэзия и сага" ( Homer. Dichtung und Sage", 3 тома, 1914-1927). Оба ученых выступают с законченными оригинальными концепциями развития греческого героического эпоса. Концепции эти в целом совершенно неприемлемы, но это не исключает возможности использовать много очень важных частных наблюдений и обобщений.
Мюльдер относит создание "Илиады" к очень позднему времени, когда перед Грецией уже стояли политические задачи борьбы с Азией. Поэтому он считает ее индивидуальным созданием поэта, преследующего определенные политические цели, для которых он использовал популярные в народе образы старых саг и эпических песен. В литературном же отношении автор "Илиады" находился в большой зависимости от более ранних эпических произведений - поэм фиванского цикла и поэм о Геракле. Композиция "Илиады" есть тщательно разработанная контаминация мотивов других более ранних эпосов: Илион - это те же Фивы, ахейцы - аргосцы (поэтому они так иногда и называются в "Илиаде"), но сюжет "Фиваиды", осложненный мотивом похищения Елены, приспособлен к саге о захвате Троады фессалийцами. В этой саге главным героем был Ахиллес. Участие же богов в распре народов разработано по образцу поэм о Геракле.[5] В своих частностях концепция Мюльдера поражает своей необоснованностью и произвольностью, доходящей до нелепости: творчество Гомера представляется чем-то вроде творчества А. К. Толстого по отношению к русским былинам. Тем не менее отдельные наблюдения над взаимоотношением "Илиады" с мотивами других эпических циклов иногда очень интересны и должны быть учтены будущими исследователями.
Так же парадоксальна и концепция Бете. Он считает, что "Илиада" моложе Гесиода, и откосит ее завершение ко времени около 600 г. до н. э.,[6] в то время как К. Роберт допускал только отдельные послегесиодовские интерполяции, считая, что автор его "Четвертой "Илиады"" должен был уже знать "Теогонию".[7] Бете видит использование Гесиода в перечне рек в песни XII "Илиады" (ст. 20-23; ср. "Теогонию", ст. 340-342).[8] В стихах 13-16 песни VIII, в угрозе Зевса свергнуть ослушника его воли в Тартар, Бете указывает на чисто гесиодовское представление о Тартаре, в то время как другие места в "Илиаде" говорят об ином представлении. Как эти, так и многие другие выводы Бете являются очень спорными и субъективными. Его построение в целом они безусловно опорочивают. Таково указание на ст. 303 песни VI, где жрица Феано кладет принесенный Гекабою пеплос на колени статуи Афины: статуй таких размеров не было, по мнению Бете, раньше первой половины VII века до н. э. Это совершенно неверно, так как Бете забыгает о не дошедшей до нас, но известной по следам и обломкам деревянной скульптуре IX-VIII веков.
Уже Мюльдер в 1910 г.[9] придавал большое значение вопросу о роли в "Илиаде" Антеноридов, которым уделяет так много внимания позднейшая греческая и римская литература.[10] Бете также толкует это наличие поздних мотивов как показание в пользу позднего литературного Оформления "Илиады". Особенно он подчеркивает (т. II, стр. 316-319) указание на жрецов-профессионалов из этого рода, тогда как в основном в "Илиаде" жреческие функции исполняет басилевс, причем, по его мнению, и Хрис в песни I - тоже басилевс Хрисы. Из противоречий в топографии храмов Аполлона и Афины в Трое он делает вывод, что в момент завершения "Илиады" уже начал создаваться на развалинах старого города Новый Илион. Приведя еще целый ряд аргументов разной степени убедительности, он довольно поспешно строит свое основное заключение, парадоксально поздно датируя "Илиаду". Его выводы очень решительно отвергаются и большинством западно-европейских ученых, но результаты его частных наблюдений должны быть тщательно учтены. Взгляды Мюльдера и Бете распространения не получили. Оба эти ученых стоят вне каких-либо направлений в гомеровском вопросе, и работы их хорошо известны только специалистам.
Так же особняком стоит и концепция О. Группе,[11] на которую, поскольку она не изложена в специальной работе, гомероведы мало обращали внимания в течение 40 лет, прошедших с момента ее опубликования (1906). Группе исследует не гомеровский эпос, а мифы и сагу троянского цикла, лежащие в основе не только "Илиады" и "Одиссеи", но и всех более поздних киклических поэм.[12] Тем не менее, исследование Группе имеет большое значение и для гомеровского вопроса. Он прослеживает постепенное развитие саги, относя к ее древнейшим составным элементам образы Филоктета, Ахиллеса, Атридов, дочерей Тиндарея (ср. с этим взгляды В. Криста) Эту древнейшую сагу он связывает с Фессалией, Локридой и Этолией. Здесь же, на континенте, возникли основные образы будущих троянских героев (потомство Лаомедонта). Затем сага попадает в Пелопоннес, где в нее включаются Диомед и Одиссей - похитители палладиума. Коринф, Аркадия и Лаконика вносят в нее свои элементы, и лишь после этого сага попадает в малоазиатскую Эолию, на остров Лесбос и в Дориду, всюду подвергаясь осложнению и распространению. Только тогда она становится достоянием ионийцев, которые создают из нее гомеровский эпос и киклические поэмы. Работа Группе сейчас сильно устарела и должна быть целиком пересмотрена в свете новых исторических данных, но другого такого детального исследования истории саги пока еще нет. Бете в книге "Die Sage vom troischen Kriege" (1927) совсем не касается многих проблем, поставленных его предшественником.
На ряду с распространением "теории источников" в XX веке с особой силой возрождается "унитаризм", который в современной Англии и Америке оформился как целое направление "неоунитаристов", отделяющее себя от старых "унитаристов" типа Нича (см. выше, стр. 119).[13] Этот "неоунитаризм", в лице некоторых своих наиболее крайних представителей, доходит до крайностей, целиком отрицающих положительное значение всего изучения гомеровского эпоса в XIX. веке.[14] Первым исследователем, с особенной силой подчеркнувшим художественное единство каждой из гомеровских поэм, был Карл Роте, автор книг "Илиада как поэтическое произведение" и "Одиссея как поэтическое произведение и ее отношение к Илиаде".[15] Общее положение Роте обосновано у него глубоким анализом всех поэтических средств Гомера. Поэтика Гомера в работах Роте впервые получила свою чисто литературоведческую разработку и вызвала ряд дальнейших научных монографий, посвященных систематическому и детальному анализу отдельных моментов эпического стиля. В том же направлении развивались и работы Э. Дрерупа, выпустившего в 1921 г. после нескольких работ по частным вопросам первую часть СЕоей "Гомеровской поэтики".[16] Дреруп стремился заменить "Гомеровский вопрос" в его прежней постановке проблемою Гомера как поэта. Ценность его работ не может оспариваться, ибо они делают гомеровский эпос предметом литературоведения как особой науки, независимой от филологии в своих методах и использующей результаты последней лишь как подготовительную стадию изучения текста. Однако самый метод этих исследований, основанный на идеалистической эстетике и в очень значительной части формалистичный, для нас также является неприемлемым. В связи с этим мы не можем принять и многих конкретных выводов этих работ. Цель их поставлена правильно, но вопрос об эпическом стиле должен решаться советским литературоведением иначе. Совершенно неправильно освещается у Дрерупа и историческая обстановка развития древнегреческого эпоса.
Для изучения эпического стиля положительное значение до сих пор имеет вышедшая в 1894 г. книга Л. Эрхардта "Происхождение гомеровских поэм",[17] не получившая в западноевропейской литературе ни достаточных откликов, ни дальнейшего развития. Эрхардт, исходя из учения Штейнталя об "органичности" народного эпоса, выдвинул положение, что единство гомеровских поэм не нарушается противоречиями, вариациями мотивов, параллельными версиями и т. п., так как единство народно-эпического произведения специфически отличается от целостности произведения, созданного одним индивидуумом.[18] Вопрос о народно-поэтических корнях поэтики Гомера и их влиянии на его эпический стиль, не являющийся вместе с тем стилем народного эпоса (как думали в конце XVIII века), еще ждет своей разработки. У Дрерупа эти проблемы затронуты лишь частично. Изучение богатейшего эпоса народов СССР открывает для их разработки очень широкие возможности. Много ценного уже дают исследования акад. Владимирцева по монголо-ойротскому эпосу, но вопрос этот остается еще недостаточно освещенным: для сравнительно-исторического изучения, которое должно помочь нам выяснить социально-исторические основы зарождения большого героического эпоса в условиях разложения родового быта, требуется привлечение большего материала, чем это было до сих пор. "Давид Сасунский", "Гесериада" и "Джангар" как раз и являются таким материалом. Методология исследования дана К. Марксом в его высказываниях о греческом эпосе на заключительных страницах Введения к "К критике политической экономии".[19]
Вместе с тем, однако, сопоставление гомеровского эпоса с русскими былинами, "Калевалой", сербским или монгольским народным эпосом, с "Джангаром", "Гесериадой" и т. п. имеют ограниченное применение, так как, по крайней мере начиная с VII века до н. э., гомеровский текст, хотя бы даже он не сложился к этому времени окончательно и не получил еще форму "вульгаты", развивался уже не как устнонародное, а как чисто литературное произведение. С VI века "Илиада" и "Одиссея" жили уже так, как жило всякое античное и средневековое произведение, не напечатанное и не закрепленное авторским правом. Но для Гомера, в виде единственного исключения, действовало в античном мире и авторское право: уже в начале IV века до н. э. Антимаха Колофонского обвиняли в плагиате у Гомера.
В плане чисто литературоведческого анализа "Илиада" и "Одиссея", их образы, их метафоры, эпитеты и сравнения, их стиль вообще - также еще ждут своего исследователя с позиций марксистско-ленинской теории литературы. Это исследование должно будет критически переработать под новым углом зрения то, что уже достигнуто в работах Роте, Дрерупа и других буржуазных ученых. Но и при этом анализе придется считаться со всей той совокупностью исторических, археологических, лингвистических и этнологических проблем, которые вошли в XIX веке в состав гомеровского вопроса. Они все должны получить свое разрешение не только потому, что наша литературная наука не мыслит себе анализа поэтики вне проблемы генезиса и исторической обстановки создания данного произведения, но и потому, что гомеровские поэмы важны для нас не одною своею поэтической стороной: они - единственный письменный памятник, хранящий следы древнейшей стадии греческой культуры, которая является колыбелью новой европейской культуры. Это - то "главное наследство, которое греки перенесли из варварства в цивилизацию".
Из всего круга исторических, в самом широком смысле, проблем, входящих в гомеровский вопрос, тоже лишь очень немногие получили свое относительное разрешение. Как проблема, почти ни одна из составных частей гомеровского вопроса не может быть устранена и сейчас, а прежде всего вопрос о генезисе древнегреческого эпоса, о стадиях его развития, в частности о его "догомеровской" стадии. Этот последний вопрос, остающийся, как назвал его около полувека назад Кауэр, "проблемой проблем", должен разрешаться, с одной стороны, методом сравнительной фольклористики, с другой - в связи с реконструируемой по памятникам материальной культуры греческой "доистории", С обеих точек зрения некоторые новейшие западноевропейские работы представляют значительный интерес. В первом плане могут быть частично использованы указанная выше работа Бете и ряд статей Мойли (Meuli), затрагивающих проблему происхождения эпоса в этнографическом освещения. В плане же культурно-исторического исследования весьма ценны труды Риджуэя,[20] а затем ряд исследований М. - П. Нильссона, завершаемый его книгой "Гомер и Микены".[21] Положительное значение работ Нильссона заключается в том, что он впервые дал исчерпывающее обоснование утверждению, что гомеровский эпос во многом отражает позднемикенский период, непосредственным продолжением которого является развитие греческой культуры IX-VIII веков до н. э. На элементы культуры микенской эпохи у Гомера указывалось и ранее (например, К. Роберт, см. выше, стр. 121), но новизна положений Нильссона в истории гомеровского вопроса состоит в том, что он не противопоставляет так называемую "эпоху геометрического стиля" и позднемикенский период как нечто взаимно исключающее.[22] Иными словами, Нильссон привел изучение Гомера в соответствие с современным состоянием исторической науки (см. выше главу I, § 1). Не вступая в полемику с Дрерупом, он доказал несостоятельность теории последнего об "архаизирующей идеализации" как ключе к пониманию Гомера.[23] Архаизация бесспорно свойственна народному эпосу, и фольклорно-былинные корни эпического стиля гомеровских поэм определяют ее роль в оформлении этого стиля. Но нельзя все сводить к этому чисто литературному моменту: это значило бы отрицать значение догомеровской стадии развития героического эпоса, который, вне всяких сомнений, зародился и первоначально развивался именно в позднемикенский период, когда греческая народность уже сложилась в своих этнических особенностях на территории всей Греции и когда она начала свою экспансию за море. Дальнейшее развитие гомеровского вопроса на этой основе-пока еще дело будущего.
[1] Она изложена в „Prolegomena“ к его изданию „Илиады“ 1884 г., а затем более подробно в его книге „Homer und Homeriden“ (1886).
[2] В недавнее время Вудхауз настойчиво доказывал, что включение Телемаха, как помощника отца в мести, и его путешествия есть дело поэта, создавшего всю поэму из старого ностоса (Woodhous, The composition of Homers Odyssey. Оксфорд, 1930).
[3] См. P. Cauer, Grundfragen der Homerkritik, т. II, 3–е изд., Лпц., 1923. стр. 296—349. Критику теории см. у Дрерупа в книге „Das Homerproblem in der Gegenwart (гл. IV, стр. 128—171).
[4] Это положение обосновывается статистически Скоттом в книге „Единство· Гомера“ („The unity of Homer“, 1921).
[5] В „ретардации“ песен XIII XIV Мюльдер находит — в батальных картинах — даже влияние ранней элегической поэзии.
[6] Дальше Бете идет только один из последовательных сторонников „теории основного ядра“ — Ад. Лерхер (Lörcher, Wie, wo, wann ist die Ilias entstanden? Галле, 1920). Он полагает, что наша „Илиада“ создана на основе древнего „Гнева Ахиллеса“ в середине VI века в Олимпии.
[7] Ср. указ. соч. Роберта, стр. 559—561.
[8] Виламовиц–Меллендорф и К. Мейстер (Die Homerische Kunstsprache, стр. 232, прим. 4) видят здесь заимствование Гесиодом из „Илиады“, но Бете толкует ст. 23, где упоминается „род полубогов“ γένος ἡμιθέων как учение о героях–божествах (ср. Гесиод, Тр. и Дни, ст. 159, 160 и 167—173), совершенно чуждое гомеровским религиозным представлениям, согласно которым герои всегда — только люди.
[9] См. указ. соч., стр. 246 слл.
[10] Пиндар. Нем. V, 83; Дион Галикарн. I, 46; Страбон V,212; XII, 608; Гораций. Посл. I, 2, 9; Вергилий, Эн. I, 242 сл.; Т. Линий I, 1.
[11] O. Gruppe, Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, т. I, стр.609—718.
[12] Этому посвящена и специальная работа Бете „Die Sige vom troisctien Kriege“ (1927), составляющая третий том его исследования „Homer. Dichtung und Sage“.
[13] Наиболее серьезные работы „неоунитаристского“ направления принадлежат Вудхаузу, Скотту, Шеппарду и Шьюэну. Манифестом этого направления была статья Скотта в Classical Journal, 1920 (стр. 326—339).
[14] Ср., например, книгу В. Берара (V. Berard, Un mensonge delà science allemand;: les Prolégomènes de Fr. — Aug. Wolf. Париж, 1917).
[15] C. Rothe, Die Ilias als Dichtung·, 1910. Die Odyssee als Dichtung·und ihr Verhältnis zur Ilias, 1914.
[16] E. Drerup, Homerische Poetik, т. I. Das Homerproblem in der Gegenwart. (Мюнхен, 1921).
[17] L. Erhardt, Die Entstehung der homerischen Gedichte, 1894.
[18] Против Эрхардта резко выступил Р. Пельман (Historische Zeitschrift, № 3, 1894).
[19] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XII, ч. I, стр. 200—204.
[20] W. Ridgeway, The early age of Greece (2 тома). Ошибочной у Риджуея является его гипотеза об относительно поздней иммиграции „ахейцев“ в Пелопоннес.
[21] Μ. P. Nilsson, Homer and Mycenae, 1933.
[22] Под условным термином „эпоха геометрического стиля“ следует понимать как культуру континентальной Греции в первые 2—2½ столетия после дорийского завоевания Пелопоннеса, так и современную ей, но довольно отличную от нее культуру малоазиатской Эолии и Ионии (см. Хогарт, Иония н Восток. СПб., 1911). Каждая из этих двух культур должна рассматриваться как непосредственное продолжение культуры позднемикенского периода: первая — в изменившихся социальных условиях на континенте, вторая — в условиях значительного отрыва от старых корней и взаимодействия с местными культурами (главным образом лидийской, затем фригийской и др.).
[23] Ср. указ. выше книгу Дрерупа, гл. IX, стр. 377—466.
Глава VII ГОМЕР В ЛИТЕРАТУРАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ
1. РИМ
Из стран не-греческих гомеровские поэмы пустили корни прежде всего в Италии. "Одиссею" перевел на латинский язык для своих учеников древнеиталийским, сатурнийским размером еще Ливии Андроник (около 284-202 гг. до н. э.). Перевод этот, судя по очень немногим фрагментам и по отзывам позднейших римских писателей, был очень бледен. Но, впрочем, в школах он изучался даже во времена Горация под руководством "драчливого" Орбилия.
Настоящими подражателями Гомера были уже в древнюю эпоху два видных поэта: Невий (около 272-200 гг. до н. э.) и Энний (239-169 гг. до н. э.), особенно последний. Упорная борьба римлян с карфагенянами навела их обоях на мысль, что и римские предания, римская предыстория, даже современная, истинно героическая история заслуживают стихотворного, эпического изображения. Невий, как участник первой Пунической войны, изложил в своей поэме "Bellum Punicum", написанной сатурнийскими стихами, не только события этой и следующих войн, но и древнейшую историю Рима, начиная с гибели Трои и странствий Энея, прародителя будущего Рима. Мало фрагментов мы имеем и от этой поэмы, но все-таки на них видно влияние и "Илиады" и "Одиссеи". Между прочим, как у Гомера, у Невия жизнь людей направляется богами, которые постоянно вмешиваются в человеческие дела. Некоторыми подробностями этой поэмы впоследствии воспользовался для своей "Энеиды" Вергилий. Теснее примыкал к Гомеру Энний, оск по происхождению и грек по образованию. Он сам считал себя истинным преемником Гомера, который будто бы явился ему во сне и благословил его на создание эпической поэмы. От его "Анналов" (в 16 книгах) до нас дошло до 600 стихов, из которых видно, что Энний не только воспроизводил гомеровские образы и сравнения, а также и другие приемы греческой эпической поэзии, но и наделял гомеровскими чертами римских деятелей, им выводимых. Как и у Невия, поэма Энния начиналась с падения Трои и с римской предыстории. Но было и крупное отличие: Энний ввел в римскую литературу греческий эпический гексаметр и приспособил его к особенностям латинской фонетики; это нововведение повлекло за собой создание высокого стиля в необработанном до тех пор латинском языке, а так как Энний был, помимо того, писателем несомненно талантливым, то его поэма надолго оставила явные следы в дальнейшей римской литературе. Нам трудно судить о том, в какой мере от него зависели позднейшие эпики - Гостий (с его "Bellum lstricum") или современник Катулла и Цезаря Варрон Атацинский (с его "Bellum Sequanicum"), так как от этих поэм до нас почти ничего не дошло; но в классический период его большими поклонниками были Цицерон, особенно же Лукреций и Вергилий: у обоих этих поэтов много реминисценций из Энния; оба они усвоили характерный для Энния и вообще для древнейшей римской литературы прием аллитераций в начальных слогах слов. При этом известное подражание стилю и аллитерациям Энния у Вергилия, несомненно, зависело от его желания придать архаический налет своей поэме, которая прославляет Энея как прародителя Августа и предшественника величавых старинных героев римской истории.
Вергилий очень широко пользовался Гомером: мифология и боги играют и у него большую роль; многие образы и сравнения, иногда целые стихи, заимствуются целиком. Сама "Энеида" совмещает в себе и "Одиссею" и "Илиаду". Тем не менее, велики и отличия "Энеиды" от гомеровских поэм: в ней нет и не могло быть чуждой вергилиевскому времени патриархальной естественности и простоты; на ее стиле сильно отражаются успехи римского красноречия, с одной стороны, и композиции, свойственной греческим трагикам, с другой: эпизоды излагаются сжато, каждый из них эффектен как сцена из драмы. Цель Вергилия не просто повествовательная, но и назидательная; подобно Августу, поэт желает примерами древнеримских героев содействовать возрождению в современном ему римском обществе старинных добрых нравов и благочестия. Поэма эта стала для римлян глубоко национальной. Как художник Вергилий обнаруживает несомненную способность к обрисовке душевных движений своих героев и героинь: ср. особенно роман Дидоны и Энея (песнь IV и конец песни I), где ему оказала известную помощь александрийская поэзия и, в частности, эпос Аполлония Родосского об Аргонавтах. Но ярко очерченных характеров у него, вообще говоря, нет: сам главный его герой Эней отличается нерешительностью и постоянной зависимостью от воли богов.
2. ИТАЛИЯ
В истории воздействий Гомера на итальянскую литературу особенно интересна эпоха уже вполне развитого Ренессанса в XVI веке и отражение гомеровского влияния на "Освобожденном Иерусалиме" Тассо.
Первым гуманистам, например Петрарке, при всем их желании, не у кого было выучиться греческому языку. Лишь один из приезжих византийцев, Пилат (в 1360 г.), по настоянию Боккаччо, переводил Гомера с голоса на латинский язык; но толковал он его аллегорически. Лишь в 1396 г. появляется во Флоренции ученый грек Мануил Хрисолора и начинает преподавать греческий язык. Для изучения языка молодые итальянцы отправляются также в Византию и привозят оттуда греческие книги. Позднее (в середине XV века) в Ферраре занимает кафедру греческого языка ученый грек Феодор Газа, а во Флоренции - Аргиропуло, учитель известного гуманиста А. Полициано; последний, как раньше него Марсупини, уже сам переводит Гомера вергилиевским стилем. Теперь сама Италия имеет собственные издания текста Гомера, выпущенные знаменитым венецианским издателем Альдом Мануцием. Делаются попытки новых переводов Гомера. В XVI веке знакомство с Гомером и греческой литературой уже широко распространено в Италии. Но реминисценции из Гомера у первого итальянского эпика Триссино ("Италия, освобожденная от готов") пока еще элементарны и поверхностны.
Гораздо более проникнут Гомером Тассо в своем "Освобожденном Иерусалиме".
Но главное, его заимствования из Гомера свидетельствуют о серьезном понимании основных или в том или другом отношении характерных гомеровских сюжетов. К ним относится, прежде всего, ссора вождей, занимающая у Тассо такое же центральное место, как и в "Илиаде"; их примиритель Петр-пустынник напоминает гомеровского Нестора. Есть у Тассо и обзор войска, и объяснение (со стены Иерусалима) имен христианских вождей, и сон Готфрида, напоминающий сон Агамемнона в песни II "Илиады", есть сцена посылки - на предмет примирения - к поссорившемуся с Готфридом Ринальдо (отголосок гомеровской сцены посольства к Ахиллесу Одиссея, Аякса и Феникса), и примирившийся Ринальдо, подобно примиренному Ахиллесу, помогает Готфриду и крестоносному войску в победе.
Поединок Арганта с Танкредом и Раймондом, изменнический выстрел Орадино, являющийся нарушением договора, вмешательство высших божеств и ада, соответствующие вмешательству богов у Гомера; недовольство войска, подстрекаемого бунтовщиком Арджиллано (ср. гомеровского Терсита) - недовольство, усмиряемое величавым выступлением Готфрида, процессия иерусалимских женщин к их лживому богу и многое другое, - все это очень знакомые мотивы Гомера.
С XVI века, со времени франко-итальянских войн, завязываются тесные культурные связи между Италией и Францией. В последней, несмотря на укрепляющееся преподавание греческого языка, преобладает латинская стихия Ренессанса; вполне естественно, что она всегда была очень сильна и в самой Италии. Поэтому, хотя в XVIII веке частично пробиваются здравые, хотя бы и несколько туманные суждения о Гомере (особенно у знаменитого философа Вико, который считал поэмы Гомера созданием всего греческого народа), но известная для этого времени работа Чезаротти, подводящая итоги изучению Гомера, не свидетельствует о большом прогрессе в понимании Гомера: Чезаротти усиленно изучал Гомера, но ставил его ниже Оссиана; далее, он приступает к оценке Гомера с заранее составленной теорией эпоса, и это лишает его суждения как о целом, так и об эпизодах; например, он находит прямо недостойным Ахиллеса то, что он отдает Брисеиду, но готов бороться за всё другое, что попытаются отнять у него. Началу XIX века принадлежат интересные по своему благозвучию и воодушевлению переводы Гомера на итальянский язык, сделанные Фосколо и Монти.
3. ФРАНЦИЯ
Систематическое изучение греческого языка и литературы во Франции начинается относительно поздно, преимущественно со времени основания Collège de France (1530). Эта же эпоха выдвинула крупнейших эллинистов и издателей греческих произведений: Анри Этьена (Henricus Stephanus), Сомеза (Salmasius), Жозефа Скалигера. Последний, впрочем, как известно, был слишком пропитан латинской литературой и потому не умел ценить греков; например, он отдавал предпочтение ходульным трагедиям Сенеки перед трагедиями Эврипида. Широкое знакомство с греческой литературой и Гомером видно у Раблэ в его романе "Гаргантюа и Пантагрюэль".
К той же эпохе относятся и первые французские эпопеи: Ронсара ("Франсиада"), Шаплена ("Девственница"), Скюдери ("Аларих, или Побежденный Рим") и Демаре ("Хлодвиг или христианская Франция"). Но в них близости к Гомеру почти нет, да и сами поэмы эти были весьма посредственны; впоследствии Вольтер имел основание утверждать, что французы менее других народов способны к эпической поэзии.
Гомера знает, но не в подлиннике, а в латинском переводе Лемер, автор "Illustration de Gaule et singularités de Troye", который производил франков от троянцев и писал свою историю, начиная с Ноя и продолжая Троянской войной и непосредственно предшествующими ей событиями.
Но важно то, что, подобно итальянцам и англичанам, французы изучают античные литературы для усовершенствования своей собственной, а также заботятся о разработке национального литературного языка по образцу языков античных. Поэтому у них уже в 1545 г. появляется неполный перевод Гомера на французский язык, принадлежащий Салелю, который считал Гомера отцом всех наук и искусств.
Эпоха Людовика XIV была эпохой процветания французской классической драмы, преимущественно в латинском риторическом стиле. Это не помешало самому Расину, большому знатоку греческой литературы, быть высокого мнения о Гомере. Гомера очень ценит и Буало в известном месте песни III "Art poétique" (ст. 295 сл.): Гомер, по его словам, образован самой природой; его творения - обильная сокровищница занимательности; все, чего он касается, обращается в золото; все в его руках получает новую прелесть; всюду он развлекает и никогда не утомляет; счастливый жар одушевляет его речи; он не сбивается с пути и не делает слишком длинных отступлений в сторону; в стихах его, правда, нет методического порядка, но его тема сама собой слаживается и развивается. "Любите же его творения, но любите истинной любовью: найти в них удовольствие - это значит получить большую пользу" (ср. там же, IV, 155: "воскрешая героев древних веков, Гомер воодушевлял мужество к великим подвигам").
Но были и противники. Довольно характерна для этого времени поэма Перро, прочитанная в Академии под заглавием "Век Людовика XIV". В ней проводится мысль о превосходстве новейшей литературы над всей древностью; о Гомере, которого автор, очевидно, не знал, сказано, что если бы он родился в нынешнее время, то избежал бы многих промахов.
Более серьезные суждения о Гомере (в начале XVIII века) у Дюба (Dubas). Неправы, по его мнению, Перро и его единомышленники, утверждающие, что у Гомера много неправдоподобного и что самый век его отличается грубостью. Дюба говорит, что поэтически правдоподобно то, что возможно при предполагаемых условиях; извинять гомеровские нравы грубостью века незачем, если изображение исторически правильно.
Лучшее понимание Гомера мы встречаем во второй половине XVIII века; Жан-Жак Руссо, с его культом природы и естественной простоты, восхищен Гомером. Ему нравятся сады Алкиноя, которые тогдашним французским критикам казались слишком простыми и недостаточно украшенными. Он хвалит естественность Навсикаи, которая мечтает о предстоящей свадьбе и сама заботится о своем белье.
С той же точки зрения подходит к Гомеру и Дидро: "Как прекрасна простота, как плохо мы сделали, отдалившись от нее! Если хотите понять, что внушает скорбь отцу, который только что потерял сына, послушаем Приама. Если хочешь знать, каковы истинные слова отца, который припадает с мольбой к ногам убийцы своего сына, послушай того же Приама перед Ахиллесом ..."
Эти мысли проникли и в "Poétique française" Мармонтеля: например, его не удивляет, что божество мы можем представить себе только человеческими средствами. Трогательные сцены у Гомера имеют силу не для одного народа, но для всего человечества, и в этом отношении "Одиссея" выше "Энеиды".
С другой стороны, прямым порицателем Гомера был Вольтер (в статьях "Sur la poésie épique, приложенных к "Генриаде"), который ставит его ниже не только Вергилия и Тассо, но и третьестепенного испанского эпика Алонсо де-Эрсилья. Сходные и притом бесцветные соображения о Гомере дает Лагарп в своем "Lycée". Равным образом, патентованный поэт конца XVIII и начала XIX века и переводчик Вергилия аббат Делиль ("парнасский муравей", по замечанию Пушкина) считает Вергилия несравненно выше Гомера даже там, где тот ему подражает. Немудрено поэтому, что в Царскосельском лицее, по свидетельству Пушкина (в начале "Евгения Онегина"), было принято "бранить Гомера, Феокрита" (последнего Лагарп также ставит ниже его подражателя Вергилия). Одним словом, и Вольтер, и Лагарп, и Делиль в своих суждениях сделали огромный шаг назад сравнительно с Буало.
В конце XVIII века появляются интересные переводы на французский язык, принадлежащие Рошфору и Жену. В специальных статьях Рошфора немало правильных суждений о Гомере, которого он, подобно· Монтескьё и Дидро, ставит выше Вергилия и выясняет разницу между ними исторически. Так, по его словам, Вергилий употреблял чудесное только потому, что око было освящено традицией и ему представлялось подходящим для украшения эпоса. Он жил при утонченном дворе, под властью государя, а Гомер - среди простой, неутонченной жизни. У Вергилия все, включая богов, дышит дыханием urbanitatis (столичного изящества), у Гомера - откровенностью и подлинно республиканским характером, который хочет угодить всему народу рассказом о подвигах его предков. Нравы, обычаи, мнения отделены от нас тремя тысячелетиями. Но если гнев Ахиллеса, гордость Агамемнона, нежность Андромахи знакомят нас с сердцем человека, то Гомер принадлежит нашему времени. У Мерсье, противника переводов Гомера на французский язык, проскальзывают в 1784 г. мысли, родственные мыслям Вольфа: именно, он считает "Илиаду" возникшей из нескольких рапсодий, старейшая из которых, собственно гомеровская, подверглась впоследствии изменениям и интерполяциям.
Наиболее глубоким ценителем древней Греции (как это отмечал и наш Пушкин) был знаменитый поэт Андре Шенье, между прочим, разделявший взгляды Винкельмана на красоту в греческом искусстве.
4. АНГЛИЯ
Как в Италии и Франции, Ренессанс принес с собой в Англии усовершенствование национальной литературы и языка на основе изучения античных языков и их литератур.
Интерес к греческому языку пробуждается в Англии довольно рано. Его горячим поклонником был друг Эразма - Томас Мор, жители "Утопии" (1518) которого ставят греческий язык выше других. Уже в 1540 г. была учреждена кафедра греческого языка в Кембридже, но в общем до конца XVII века в широких кругах на переднем плане стояли латинские, а не греческие авторы. Гомера если и знают, то либо толкуют его аллегорически, либо ставят ниже Вергилия, либо считают наставником мудрости. Великим событием был английский перевод Гомера, принадлежавший Чапману (Chapman) и выходивший частями, начиная с 1599 по 1615 г. Чапман выработал для перевода выразительный и сильный стиль и проявил большое воодушевление, так что его труд стал достоянием английской литературы, как у нас "Одиссея" в переводе Жуковского. Эпоха Елизаветы, связанная с жестокими внешними войнами и внутренней партийной борьбой, поднятой пуританами, а также с глубоким проникновением в английскую жизнь завоеваний Ренессанса и итальянского влияния, - полна большого духовного подъема, который тем более содействовал процветанию национальной литературы, что иностранные влияния не заглушали старой народной английской поэзии.
Эта героическая эпоха естественно привела к попыткам создания эпических произведений, посвященных отчасти национальной предыстории и истории. Но в эпопеях этого времени и ближайшего поколения нет тенденции исходить из какой-либо определенной теории и следовать какому-либо определенному образцу. Так, например, очень начитан в Гомере Спенсер. Из Гомера он черпает не только отдельные выражения и сравнения, но и многие яркие мотивы и сюжеты; например, пещере Морфея ведет двое ворот: одни - из гладкой слоновой кости, другие - не из рога, как у Гомера, но покрыты серебром; ср. далее, обманчивый сон, посылаемый Морфеем для одурачения рыцаря Георга; золотую цепь судьбы, прикрепленную к трону Зевса; описание ада и мук Тантала; сад Армиды, соответствующий парку Кирки (Цирцеи); оплакивание дочерью Нерея Симоэнтой своего тяжело раненого сына, наподобие Фетиды; толпу молящихся, одетых в белое дев в подражание молящимся троянским женщинам; побежденные герои скрываются с глаз победителя, как Эней с глаз Ахиллеса, и т. д., и т. п. При этом, впрочем, некоторые гомеровские мотивы трактуются аллегорически. На ряду с Гомером Спенсер находится под влиянием Ариосто и Вергилия.
В английской эпической поэзии после Спенсера отзвуки Гомера уже не так часты. Их немало в знаменитом "Потерянном рае" Мильтона, но эта богословская поэма в духе кальвинского исповедания в самом принципе очень далека от Гомера.
В XVII веке в Англии сильно распространяется французское влияние, соединенное с предпочтением латинского греческому, и, например, один из переводчиков Горация в конце XVII века желает, чтобы Англия обогатилась переводами древних, и прежде всего Вергилия: а Гомер ему несимпатичен из-за ссорящихся героев и недостойных богов.
Некоторый прогресс наблюдается у эпика Драйдена (Dryden.) Из героической или исторической поэмы он склонен почти совсем удалить дидактический момент.
Прелесть, наглядность, счастливое понимание мысли, использование ее фантазией и приспособление к предмету в правильном словесном выражении, - вот задача эпоса. Но зависимость от французов вызывала у Драйдена колебания, и в конце своей деятельности, как переводчик Вергилия, он защищал его подражательность, находя, что Вергилий улучшал оригинал; но когда Драйден переводил Гомера, то находил, что именно Гомер был ближе к его собственному гению и что без Гомера не было бы и Вергилия: в Гомере в эти моменты он восхищался неутомимо стремительным характером рассказа; даже лучшее создание Вергилия - "Дидона" навеяна Гомером, и Дидона - поэтическая дочь Калипсо.
Современник Драйдена - Уоттон (Wotton) ввел в оборот важную "теорию среды" и в полемике с французом Перро, который сводил успехи поэзии к накоплению наблюдений и правил, между прочим, указывал, что простота древних в отношении чувств - признак не грубости, но здравости, в противоположность утонченности, восхваляемой Перро.
Заслуживают внимания мысли Попа, переводчика Гомера в XVIII веке, хотя он и не расстался с методом аллегорического толкования. Он хвалит фабулы Гомера, особенно гнев Ахиллеса, как фабулу "Илиады", - "самый краткий предмет, который когда-либо избирал поэт, но который обогащен всякого рода историями... Позднейшие поэты множеством фабул разрушили единство действия и слишком растянули границу времени. Но важные черты они заимствовали у Гомера". Мнения Попа и его перевод высоко ценились современниками, и, например, поэт Аддисон находил, что Поп сделал для Гомера то же, что Драйден для Вергилия.
5. ГЕРМАНИЯ
В Германии а также в Швейцарии и в Нидерландах Возрождение на первых порах было исключительно латинским, и тогдашние ученые, писатели и критики, находившиеся под сильным впечатлением от "Энеиды" Вергилия, тем самым были лишены правильного масштаба для оценке Гомера и своеобразной патриархальной культуры, которую он описывает, вдобавок в стиле, близком к стилю устной народной поэзии. Да и вообще родной язык в этих странах был в загоне; в то время как писатели романские (итальянцы, испанцы и французы), а также английские, усовершенствовали свою родную речь на основе изучения стиля античных писателей, великий Эразм, обладавший несомненно большим литературным талантом, виртуозно писал по-латыни на все темы, начиная с бытовых и кончая богословскими и учеными, но свой родной голландские язык знал лишь настолько, чтобы объясняться с прислугой. Видный германский филолог Гессе (Эобан) употребил целых десять лет на перевод всей "Илиады" гладкими латинскими гексаметрами, но пользы собственно для немецкой литературы от этого не воспоследовало.
Далее, гуманистам указанных стран досталось от средних веков опасное для литературного критика наследство, восходящее еще к стоикам, - злоупотребление аллегорией при толковании античных писателей, в данном случае Гомера. Наконец, гуманизм в этих странах был оттеснен реформацией, которая, хотя и рекомендовала изучение греческого языка, однако прежде всего в интересах толкования текста священного писания; изучение античных писателей в общем не отвергалось, но оценивались они преимущественно с моральной точки зрения. Подобная оценка была распространена и на Гомера, хотя его поэмы сами по себе не ставили себе моралистических задач.
Великий латинист Эразм читал Гомера по-гречески и в общем не был ему враждебен, как это утверждает его итальянский критик Чезаротги. У него много реминисценций из Гомера; около ста гомеровских стихов он признал пословицами и поместил в свой знаменитый сборник "Adagia", снабдив их латинским стихотворным переводом. Он допускает Гомера и для начального образования в качестве веселого рассказчика ("отца шутки"), занимательного для детей, причем эти занимательные рассказы могут быть полезными и с моральной точки зрения: забавно для детей, что спутники Одиссея обращаются в зверей, но вместе с тем мальчик усваивает из этого важную мораль, что те, кто позволяет увлекать себя страстями, не люди, а звери. Моралистическая точка зрения применена им и к гомеровскому представлению о богах: их ни одно благоустроенное государство не пожелало бы иметь своими чиновниками, равно как ни один порядочный гражданин не пожелал бы иметь жену, похожую на гомеровских богинь. Впрочем, и в этом пункте Эразм обнаруживает некоторую снисходительность; недостойные сообщения Гомера о богах даже полезны для юношества, предостерегая его от языческого суеверия.
Рейхлина (который был первом профессором греческого языка в Базеле) и Гуттена Гомер занимал лишь мимоходом; первому принадлежит изречение, что Гомер своей ложью не пощадил ни бога, ни мира. Гуттен заинтересовался историей киклопов и Одиссея; он же сравнивал оказанный ему дружественный прием в Венеции с приемом Одиссея Алкиноем. В школах укрепляется греческий язык, и сотрудник Лютера Меланхтон очень рекомендует изучение Гомера, преимущественно, однако, с целями моральными и практическими: изучение языка ведет к умению говорить, которое высоко ставит и Гомер, приписывавший Одиссею замечательный дар слова. Сам Гомер обещает учить вещам важным и почетным и призывает к себе занимающихся науками из любви к добродетели.
Для Лютера, как и для Меланхтона, Гомер - источник мудрости и учености; но Лютер отдает дань и его огромному литературному таланту, благодаря которому он прославил троянские события, сами по себе незначительные.
Представление о Гомере как мудреце разделяет и ученый гуманист того времени Камерарий, отмечая, впрочем, красивую форму, под которой скрыта эта мудрость. Но он идет и несколько дальше, намекая на пользу реальных знаний о древности в целях лучшего понимания ее писателей.
Морально-практического взгляда на Гомера держался и цюрихский реформатор Цвингли, большой его почитатель. Однако ни он, ни ученые швейцарские эллинисты не закрывали глаза и на поэтическую стихию в гомеровских поэмах; но они не обходились без аллегорического толкования их эпизодов: например, превращения спутников Одиссея в животных.
По мнению одного из этих ученых, история с лотофагами показывает, что никакое сладострастие не побеждает добродетели, а история Полифема - что пьянство вредно и добродетель состоит в воздержанности.
Литературная критика Германии в XVII веке мало интересуется Гомером. Вдобавок, особенно со времени Тридцатилетней войны, Германия попадает под французское влияние, и потому нередко высказывается взгляд на превосходство Вергилия над Гомером.
В начале XVIII века Лейбниц относится к Гомеру уклончиво к Гомер потому представил богов и героев в смешном виде, что писал не для Августа, а для древней греческой черни, которую нужно было увеселять. Хорошо знавший Гомера Галлер ставит его ниже Вергилия, и, кстати сказать, ниже вошедшего в моду Оссиана. Он не находил у Гомера учения о нравственности, ценил только прощание Гектора с Андромахой и речь Гектора перед смертным боем; в "Илиаде" он видел победу насилия, в "Одиссее" - торжество хитрости, а сам Одиссей был для него противен. Впрочем он ценил Гомера как искусного бытописателя.
Ничего существенного не дает недаровитый, но авторитетный теоретик классической поэзии Готтшед, кроме, пожалуй, похвал гексаметру, который он предлагает, однако, переводить александрийскими стихами без рифм.
Мало общего с Гомером имеет и пресловутая "Мессиада" Клопштока, с ее высокопарным слогом и богословскими и моралистическими тенденциями. Клопшток читал Гомера и пользовался некоторыми его частными сюжетами, но, конечно, был далек от более или менее верного его понимания.
Как бы то ни было, успехи университетского преподавания греческого языка (особенно в Нидерландах, которые выдвинули крупнейших филологов - Рункена и Валькенара) повысили к середине XVIII века интерес к культуре и поэзии древней Греции. Он особенно окреп в среде представителей так называемого Sturm und Drang'а (периода "бури и натиска"), а господствовавший среди них - по стопам Руссо - лозунг возврата к природе мало-помалу проложил пути к действительному пониманию Гомера как поэта.
Из деятелей этого периода прежде всего выделяется Винкельман, автор знаменитой "Истории искусства" и пламенный поклонник Гомера как не превзойденного живописца, признанного пророка греческой красоты. Его восхищало чувственное впечатление, которое он получал из описаний и от языка Гомера. Идеал красоты, который внушили ему Гомер и Платон, он искал не в римских статуях, а в снимках с греческих изображений в Дрезденском собрании. Историю искусства он понимает с невиданной до того времени глубиной; Он выдвигает соединение влияний неба и почвы, свойств народа и воспитания, государственные формы и религии в одно органическое целое, откуда высота греческого искусства объясняется как бы сама собой.
Через несколько лет после появления "Истории искусства" Винкельмана выходит в свет (в 1766 г.) "Лаокоон" Лессинга. Из этого сочинения видно, как внимательно изучал Лессинг Гомера и как Гомер помог ему в установлении его важной теории о границах поэзии и изобразительного искусства.
Интересны также его замечания (несомненно, навеянные "Поэтикой" Аристотеля) об особенностях описаний у Гомера, который любит изображать действие по мере его возникновения: "Если, например, поэт хочет показать читателю колесницу Геры, то Геба должна составить ее кусок за куском; мы видим части колесницы не как они имеются, но как они под руками Гебы соединяются". Любопытна также его мысль, что, судя по вступлению к "Одиссее", приключения этого героя были воспеты раньше Гомера или на ряду с ним и другими поэтами; таким образом, "Одиссея" принадлежит к "Ностосам", т. е. к поэмам о возвращении героев из-под Трои.
Но здравое понимание Гомера как поэта пока еще продолжало натыкаться на слишком субъективные взгляды старомодных ученых педантов. Так, Клотц ("Epistulae homericae", 1764) после неумеренного восхваления Гомера порицал его за смешные сцены с Гефестом и Терситом, считая их непозволительными в серьезном эпосе. Эти соображения не стоили бы упоминания, если бы они не послужили толчком к глубоким, не потерявшим своего значения даже до нашего времени, мыслям Гердера на существо гомеровской поэзии. О Терсите он уже в молодых годах, полемизируя с Клотцем, выразился, что это голос "греческой черни, которая должна теперь или никогда объясниться", и что в вопросе о соединении серьезного и смешного нельзя подходить к Гомеру с понятиями нашего времени.[1] У Гердера развивается историческое понимание литературных явлений: например, описание у Ариосто красоты Альчины он объяснял господствовавшими тогда в Италии вкусами.
Это историческое понимание, к величайшей пользе для дела, переходит затем у Гердера в сравнительно-историческое. Он уже предполагает, что истоками гомеровских поэм были создания устной народной поэзии - песни, баллады, сказки, саги, мифы. Он призывает своих соотечественников к изучению невскрытого еще сокровища немецкой народной поэзии и с пламенным воодушевлением говорит об Англии, поэзия которой, благодаря интересу к древним балладам, стала национальной и породила Чосера, Спенсера, Шекспира.
Для понимания Гомера необходимо знание его времени и способность как бы перенестись в него и приспособиться к нему. Народные сказки, саги, мифология представляют собой результат народной веры и чувственного воззрения, сил и порывов, когда люди мечтают о том, чего они не знают, верят в то, чего не видят, и со всей нераздельной душой творят. Представления Гомера о богах, природе, земле, морали ограничены его временем и его сагой. Но истина и мудрость, с какой он сплетает живое целое, прочное очертание его характеров, не напряженная, тихая манера его рассказа, неутомимо текущая с его уст музыка - делают его в истории человечества единственным в своем роде. Непосредственная близость Гомера к жизни, к природе и божеству дает Гомеру огромное преимущество перед (модным тогда) Оссианом: у него мы видим действие, которое в туманных фигурах Оссиана лишь предчувствуется. Кто хочет создавать богов и героев, тот пусть учится у Гомера; ведь у Оссиана одна фигура похожа на другую. Оссиан в такой же степени субъективен, как Гомер объективен: здесь все само собой рассказывается - там трудно следить за темно слаженными эпизодами чувственного.
Ознакомлению широких кругов немецкого общества с Гомером, разумеется, много содействовал стихотворный перевод Фосса. Всем известно, как Шиллер и Гёте с молодых лет любили и ценили Гомера и, кстати, как на Шиллера неприятно подействовала теория Вольфа, разлагающая Гомера на составные части. Гёте сначала отнесся к ней сочувственно, но затем также отверг. Уже глубоким стариком он говорил Эккерману (1 февраля 1827 г.): "Вольф уничтожил Гомера, но поэме он повредить не может; в этой поэме та же чудодейственная сила, что и у героев "Валгаллы", которые утром разрубаются на куски, а в обед, опять сидят за столом". Воспитанный с юности в культе природы и естественности, Гёте и до старости сохранил то же представление о естественности и человечности Гомера: так, по вопросу о непосредственном влиянии богов на дела людей он говорит тому же Эккерману (24 февраля 1830), что в этом у Гомера заключается необыкновенная нежность и человечность: "Я благодарю бога, что прошли уже те времена, когда французы называли это воздействие une machine épique (эпической машиной)". Не входя в подробности отношения этих обоих великих поэтов к греческой литературе вообще, не будем забывать, что гётовская поэма "Герман и Доротея" была своего рода немецкой "Одиссеей".
[1] Впрочем, уже и Лессинг в своих „Письмах антикварного содержания“ признает „торжественную гармонию эпоса“ причудой и весьма кстати ссылается на античного комментатора Евстафия, который считает смешное приемом Гомера снова войти в колею, когда пылкость и волнение действия становятся слишком бурными. Другими словами, здесь речь идет о разумном соединении пафоса с ἦθος’ом (жанром), ибо напряженный пафос без примеси жанра был бы монотонным.
Глава VIII ГОМЕР В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Интерес к поэзии Гомера перенесен был к нам вместе с усвоением византийской культуры. Наша культура, соприкасаясь с западной, быстро стала с ней на один уровень. Вместе с этим то, что интересовало книжных людей на Западе, нашло живой отклик и у нас. Это видно из того что в XII веке митрополиту Клименту Смолятичу приходится оправдываться против обвинения в увлечении "еллинской мудростью", именно- Гомером, Аристотелем и Платоном,[1] хотя., по видимому, он все-таки не знал их в подлиннике. Во многих сочинениях, которые переводились или переделывались На славянский язык, нередко упоминались или даже пересказывались произведения Гомера. Назовем, например, "Хронику" Иоанна Малалы VI века, которая была переведена на славянский язык уже в X веке. В ней целиком вся пятая книга посвящена рассказу "О троянских временах". Среди повестей, занесенных к нам в XI-XII веках и пользовавшихся большим успехом, была "Александрия", нечто вроде исторического романа об Александре Македонском. Тут в разных местах делаются ссылки на Гомера и упоминаются герои "Илиады".
В XV веке занесен был к нам югославский перевод "Притчи о Трое". К тому же веку относится переделка этого сюжета под названием "Притчи о кралех". Источником для всех этих обработок послужил так называемый "Дневник Троянской войны", относящийся к III веку н. э, приписанный греку Диктису и фригийцу (т. е. троянцу) Дарету. Отрывок этого сочинения найден в 1907 г. на египетском папирусе III века н. э. Полностью это сочинение известно в латинской обработке "Ephemeris belli Troiani" и "Historia de excidio Troiae". В этой притче рассказываются отдельные эпизоды из Троянского цикла, начиная с рождения Париса, о похищении Елены, об Ифигении ("Цветане") и т. д. Повесть кончается рассказом о возвращении и смерти Агамемнона и мщении за него Ореста. Из того же источника берет свой сюжет "Повесть о создании и пленении Тройском и о конечном разорении, еже бысть при Давиде, царе июдейском", представляющая изложение всего троянского цикла.[2] "Написа же повесть о Тройском пленении творец Омир"- сказано в конце этой "Повести". Это показывает, что подлинного Гомера автор не имел перед собою, а пользовался различными переработками. На Западе вся история Троянской войны была еще раз переработана на латинском языке в XIII веке итальянцем Гвидо де Колумна под названием "История разрушения Трои" (Historia destructions Troiae). Это сочинение в XV веке попало и к нам и получило у нас широкое распространение. При Петре I оно было напечатано в числе первых книг, напечатанных гражданским шрифтом, в 1709 г., и за сто с лишним лет - до 1817 г. выдержало шесть изданий. Оно называлось: "История, в ней же пишет о разорении града Трои фригийского царства и о создании его и о великих ополчительных бранех, как ратовашася о ней царие и князи вселенныя и чего ради толико и таковое царство траянских державцев низвержеся и в поле запустения положися".[3]
В "Повести о взятии Царьграда" в 1453 г. Нестора - Искандера XVI века отмечают явные следы не только этих повестей,[4] но и непосредственно гомеровской поэзии. Есть ссылки на Гомера и в летописях, но эти ссылки, по мнению исследователей, скорее всего взяты из какого-нибудь сборника вроде "Пчелы".[5] Несомненные отклики поэзии Гомера встречаются в житийной литературе, именно - в "Четьих Минеях", как митрополита Макария (ср. житие Михаила Клопского), так и Димитрия Ростовского (ср. житие Патрикия Прусского, Екатерины, Василия Великого и др.). А Иван Грозный в письмах к Курбскому сравнивает его с предателями Трои. Максим Грек свободно цитировал и Гомера, и Гесиода, и философов (Платона и Аристотеля), и историков и т. д.
В XVII веке в России заметно усилилось культурное движение, стала больше сознаваться необходимость образования, открывались греческие и латинские школы и даже устраивались театральные представления. Естественно, что среди образованных людей того времени повысился интерес к античной культуре и литературе, в частности и к Гомеру. Среди рукописей, привезенных с Афона Арсением Сухановым по распоряжению Никона, были и произведения Гомера, Гесиода, Эсхила и др. Симеон Полоцкий, один из славных представителей литературы конца XVII века, человек с весьма широким образованием и прекрасно знавший западную литературу, в своем стихотворении "Орел российский", прославляя царя Алексея Михайловича, сравнивает его с орлом. Он обращается по классическому образцу к Музам - Каменам и заявляет, что никто из прежних писателей не мог бы достойным образом выполнить эту задачу:
Омир преславный в стихотворении
Не могл бы пети о сем явлении.
Мелетий Смотрицкий пытался даже ввести в нашу поэзию "метрическое" стихосложение, гексаметры, подобные гомеровским, основанные на количестве слогов.
В XVIII веке русская литература переживала свою пору классицизма. Вместе с этим возобновился интерес и к Гомеру. Любопытно, однако, что знакомство с Гомером в русском переводе началось в это время не с "Илиады" и "Одиссеи", а с пародийной поэмы, случайно приписанной Гомеру, - с "Войны лягушек и мышей". Перевод этого произведения был издан под заглавием: "Омиров бой жаб и мышей, изданный Илиею Копиевичем (Копиевским) в Амстердаме у Ивана Тессинга на русском и латинском языке" - в 1700 г. Перевод этот был неполный и изобиловал полонизмами. Новый перевод этой поэмы вышел в Петербурге в 1772 г. под заглавием: "Омирова Ватрахиомахия, то есть война мышей и лягушек, перевел с латинского стихами Василий Рубан". Несколько попыток перевода на русский язык "Илиады" в начале XVIII века остались ненапечатанными.[6] Широкое распространение получила в рукописных списках книга под названием: "Случаи Телемаховы, сына Улиссова", помеченная 1724 годом. Это - первая попытка перевода на русский язык нравоучительного романа Фенелона (1651-1715) "Les aventures de Telémaque". Перевод этот, по видимому, принадлежит Андрею Хрущову, который был казнен вместе с А. П. Волынским, известным кабинет-министром при Анне Иоанновне.
В это время знатоками античного мира были у нас А. Д. Кантемир (1709-1744), Петр Буслаев (1700 - L755) и др., у которых знакомство с Гомером обнаруживается в различных образах, заимствованных из его поэм. Но особенно хорошо знали Гомера В. К. Тредияковский и М. В. Ломоносов. Крупной заслугой Тредиаковского была попытка создания русского героического гексаметра. Хотя искусственность и тяжеловесность его стихов вызвала много насмешек, и говорили даже что он приковал этот стих к позорному столбу, однако такие наши писатели, как Радищев, Дельвиг и Пушкин, относились с уважением к его опыту, и в настоящее время попытка Тредиаковского получила справедливую и высокую оценку.
Точно так же не мог обойти Гомера и наш гениальный ученый М. В. Ломоносов, прекрасно знавший оба древних языка и давший в своих переводах много образцов из произведений античных авторов. Ломоносов упоминает произведения Гомера, как образец художественного творчества, в статье "О пользе книг церковных в Российском языке". Говоря здесь о поэзии и непреходящей ценности произведений античной литературы, он так определяет их значение: "Последовавшие поздние потомки, великою древностью и расстоянием мест удаленные, внимают им с таким же движением сердца, как бы их современные одноземцы. Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без рвения?" В своей "Риторике" он представляет "Илиаду" и "Одиссею" как образцы "смешанных вымыслов", которые "состоят из правдивых вещей или действий, однако таким образом, что через разные выдуманные прибавления и отмены с оными много разнятся". Ломоносов пробовал даже сам переводить Гомера, и памятником этого остаются 55 стихов из восьмой, девятой и тринадцатой песен "Илиады".[7] Вводя в нашу поэзию тоническое стихосложение, Ломоносов дал образцы гекгаметра; однако переводы из Гомера сделаны ямбами, частью нерифмованными. И задумав эпическую поэму о Петре I, Ломоносов стал писать ее, в духе своего времени, по образцу не Гомера, а Вергилия.
Сумароков в своей "Эпистоле о стихотворстве" 1747 г. среди поэтов, достойных славы, в первую очередь называет Гомера. Тредиаковский возмущался тем, что Сумароков, прославляя Екатерину, вспоминает "баснословна" Гомера и "ложных богов". Впрочем, сам он в своей "Тилемахиде" отдал обильную дань Гомзру и через посредство Фенелона пользовался сюжетом из Гомеровой "Одиссеи". Ко времени Екатерины относятся первые печатные переводы Гомера с греческого на русский язык, именно; к 1776-1778 гг. относится первый прозаический перевод "Илиады" Петра Екимова, изданный Академией Наук, а затем к 1778 г. - стихотворный перевод "Одиссеи", сделанный Петром Соколовым. Вскоре после этого, в 1787 г., сделана была первая попытка стихотворного перевода "Илиады", шесть песен в переводе так называемыми александрийскими стихами - Ермила Кострова. Они были напечатаны в "Вестнике Европы" за 1811 год. Песни VII, VIII и часть песни I найдены были в его бумагах. Перевод этот, несмотря на все его неточности, пользовался большим успехом среди современников, особенно нравился его "превыспренний" тон. В. В. Капнист приветствовал его такими стихами:
Седьмь знатных городов Европы и Асии
Стязались кто из них Омира в свет родил?
Костров их спор решил:
Он здесь в стихах своих
России Отца стихов установил.
Да и сам Гнедич, начиная свою работу над Гомером, находился всецело под влиянием этого труда.
Александрийский стих в поэтике французского классицизма, господствовавшего тогда в нашей литературе, признавался обязательной формой эпической поэзии, и перевод Кострова надолго закрепил у нас эту форму стиха.
Тему об Ахиллесовом гневе, как типичный сюжет для эпической поэмы, упоминает и Сумароков в своей "Эпистоле", и Богданович в "Душеньке". Автор "Россиады" Херасков, подражавший в этой поэме Вергилию, в другой своей поэме "Владимир" откликается на недавнюю находку "Слова о полку Игореве", сравнивая ее автора с Гомером. Державин считает Гомера образцом художественного вкуса. Гомеру наряду с другими величайшими мировыми поэтами придавал высокое значение автор "Путешествия из Петербурга в Москву" (1790 г.) А. Н. Радищев. Под видом разговора с неизвестным писателем, повстречавшимся ему на станции в Твери, Радищев пишет: "Омир, Виргилий, Мильтон, Расин, Волтер, Шекеспир, Тассо и многие другие читаны будут, доколе не истребится род человеческий". Замечательно, что уже Радищев почувствовал натянутость установившейся в его время наклонности поэтов к применению ямбических стихов для эпической поэзии и высказал мысль, что поэмы Гомера надо переводить не ямбами, как Костров, а гексаметрами, чтобы приблизить перевод к подлиннику. Карамзин в 1796 г. перевел александрийскими стихами отрывок из песни VI "Илиады" под названием "Гектор и Андромаха". В 1808 г. отрывок из песни VII "Илиады" о единоборстве Гектора с Аяксом перевел Мерзляков. В противоположность своим предшественникам, он первый сделал свой перевод гексаметрами. Несколькими годами позже (в 1815 г.) Капнист сделал попытку перевода нескольких отрывков из "Илиады" размерами простонародной речи,[8] но эта попытка успеха не имела, и Державин отнесся к ней совершенно отрицательно.
Особой силы интерес к Гомеру достигает в начале XIX века. Он усилился в связи с развитием романтического направления в литературе. Уже Батюшков под влиянием Шиллера пишет стихотворение "Судьба Одиссея". Он же переводит из Мильвуа стихотворение "Гезиод и Омир соперники", где дана переделка античного сказания о состязании Гомера с Гесиодом. Пушкин еще юношей прочитал обе поэмы Гомера в французской переводе Битобе и в стихотворении "Городок" в число любимых поэтов называет Гомера. В 1823-1825 гг. появился прозаический перевод "Илиады", а в 1826-1828 гг. прозаический же перевод "Одиссеи" Мартынова. Полный прозаический перевод "Илиады", сделанный в 1820-1830 гг. по заказу Александра I профессором Петербургского университета Димитрием Поповым, хранится в Публичной библиотеке вмени Салтыкова-Щедрина в Ленинграде.[9]
Но высший интерес к Гомеру нашел свое завершение в переводе "Илиады" Гнедича, который в полном виде появился в 1829 г. Для Гнедича этот перевод был действительно трудом всей жизни. Он потратил на него двадцать лет - с 1809 по 1829 г. Этот труд надо рассматривать не только как важное литературное явление, приобщившее наше общество и нашу литературу к одному из величайших произведений мировой поэзии и обогатившее нашу литературную речь новыми образами и выражениями, но и как результат большой научно-исследовательской работы, поскольку автор, занимаясь им, производил ценные изыскания для более глубокого понимания текста. Читая в литературных кругах отдельные части своего перевода, а также печатая их в различных повременных изданиях, он сумел заинтересовать своим делом многих друзей и знакомых и нашел у многих из них живой отклик. Выдающиеся знатоки античного мира С. С. Уваров и А. Н. Оленин[10] приняли участие в его работе и помогли ему специальными исследованиями по языку и археологии. Н. И. Гнедич прекрасно знал греческий язык и воспользовался для своего перевода лучшими научными изданиями текста. Первоначально он задался целью довести до конца начатый перевод Кострова и перевел пять песен (VII-XI), но, изучая глубже источники, он по совету С. С. Уварова[11] начал всю работу заново и стал переводить "Илиаду" гексаметром, по нескольку раз перерабатывая отдельно публикуемые ее части. Но и после издания полностью всего перевода Гнедич продолжал над ним работать для последующих изданий, и после его смерти найдено было много новых поправок в его личном экземпляре.
Характеризуя весь труд Гнедича в целом, весьма важно отметить те принципы, которыми он руководствовался. Он изложил их главным образом в предисловии к изданию 1829 г. Интересен его глубокий исторический подход, которого часто нехватало даже выдающимся ученым. "Надобно переселиться в век Гомера, сделаться его современником, жить с героями и царями-пастырями, чтобы хорошо понимать их". И он стремился дать в своем переводе подлинного, неприкрашенного Гомера, для чего "переводчику Гомера должно отречься от раболепства перед вкусом гостиных, перед сею утонченностию и изнеженностию обществ, которых одобрения мы робко ищем, но коих требования и взыскательность связывает, обессиливает язык". И свою задачу Гнедич понимал весьма широко: "Надо переводить нравы так же, как и язык". Он видел в мире гомеровских героев эпоху "юности человечества" и искал способов выразить его отличительные особенности. Стараясь передать текст Гомера так, как он его понимал, Гнедич путем кропотливых изысканий вырабатывал стих и соответствующий этому язык, в котором обыкновенные слова сочетаются с редкими и своеобразными архаизмами и славянизмами. "Отличительные свойства поэзии, языка и повествования Гомерова, - говорит он в предисловии, - суть простота, сила и важное спокойствие".
Потративши столько труда на изучение Гомера, Гнедич, что и естественно, не мог обойти и волновавший весь ученый мир в то время вопрос о происхождении гомеровских поэм. Этим вопросом Гнедич интересовался уже при начале своей работы. Отклики на него можно видеть в его поэме "Рождение Гомера" и в примечаниях к ней, в предисловии к переводу издания 1829 г., а также в заметках из его записной книжки. Он был знаком с сочинениями Вико, Вуда, Вольфа, Чезаротти, Фосса и др. и вынес отрицательное мнение о новой теории. "Сей скептицизм нашего времени, - писал он, - поднял из мрака гипотезы софистов александрийских, дабы ввести в сомнение то, о чем свидетельствует целый свет древний. Но сомнение далеко еще от истины". Полный негодования против этих "книжников", богатых завистью, но духом обедневших", он писал в своей поэме:
Гомера слава им представилась мечтой.
Тяжелым бременем, для одного безмерным,
И заблуждением гордясь неимоверным,
Они бессмертное наследие певца
Терзают и делят меж многими певцами.
Это - ясный ответ на "теорию малых песен" (см. выше стр. 116 сл.), О впечатлении, которое произвел перевод Гнедича в литературных кругах, лучше всего свидетельствует знаменитое двустишие Пушкина, относящееся к 1830 г.
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи,
Старца великого тень чую смущенной душой.
Появление перевода Гнедича открыло новый мир перед русскими читателями. Пушкин это прекрасно выразил в стихотворении "С Гомером долго ты беседовал один" (1832). В глазах Пушкина потускнели теперь французские классики и Вергилий с его знаменитой "Энеидой". При сравнении с "Илиадой" она уже стала казаться Пушкину "немного тощей", а сам ее автор "чахоточным". Еще раньше, едва познакомившись с отрывками из нового перевода "Илиады" гексаметром, Пушкин обращается к Гнедичу с такими стихами:
О ты, который воскресил
Ахилла призрак величавый,
Гомера музу нам явил
И смелую певицу славы
От звонких уз освободил -
(Письмо к Гнедичу от 24 марта 1821 г.).
Вместе с Пушкиным переживали увлечение Гомером и Дельвиг, и Кюхельбекер и др. Интересовался Гомером и Крылов, который даже перевел отрывки из песни I "Илиады" и песни I "Одиссеи".
Точно так же был захвачен интересом к поэзии Гомера и Гоголь. Особенно ясно обнаруживается у него влияние Гомера во второй редакции "Тараса Бульбы" и в "Мертвых душах", которые он писал во время своего пребывания в Италии. В числе немногих любимых книг, какие были у него в это время в Риме, Анненков[12] называет "Илиаду" в переводе Гнедича (подлинника Гоголь не знал). В ожидании перевода "Одиссеи", над которым в то время работал Жуковский, Гоголь в письме к Языкову говорит, что "вся Россия приняла бы Гомера, как родного". Он высказывал уверенность, что "Одиссея" "произведет у нас влияние, как вообще на всех, так и отдельно на каждого". В последние годы жизни, когда Гоголь был во власти мистических и славянофильских настроений, он видит в Гомере средство нравственного возрождения. "На страждущих и болеющих от своего европейского совершенства, - пишет он, - "Одиссея" подействует. Много напомнит она им младенчески прекрасного, которое (увы!) утрачено, но которое должно возвратить себе человечество, как свое законное наследство".[13] Влияние гомеровского стиля с его богатыми сравнениями, повторениями и эпитетами можно видеть у Гоголя в "Тарасе Бульбе", написанном первоначально в 1833-1834 гг. и в окончательном виде опубликованном в 1841 г. Сюда принадлежат, например, такие места: "Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг останавливается распластанный на одном месте и бьет оттуда стрелой на раскричавшегося у самой дороги самца-перелела, так Тарасов сын Остап налетел вдруг на хорунжего и сразу накинул ему на шею веревку". Или еще более обстоятельное сравнение при описании смерти Кукубенка. Любопытно трафаретное повторение вопросов Тараса: "А что, паны, есть еще порох в пороховницах? Не ослабела ли казацкая сила? Не гнутся ли казаки?" Самое описание битвы в виде ряда сцен единоборства между отдельными героями с чертами эпического гиперболизма, с речами героев, с отступлениями биографического характера, с сравнениями и эпитетами (например, земля-"глухоответная"), - все это живо напоминает Гомера. Все эти места, столь типичные для эпического стиля, появились впервые именно во второй редакции. Таким образом, было бы недостаточно видеть в этом отклики лишь русских народных песен и, в частности - украинских "Дум", которыми много пользовался Гоголь при работе над своей повестью. Не меньшее, если даже не большее, воздействие поэзии Гомера на Гоголя видно в "Мертвых душах". Здесь важны не отдельные частности, не внешние черты стиля (в которых также видно влияние Гомера), а прежде всего самая концепция произведения. Письма Гоголя к друзьям из времени его работы над "Мертвыми душами" полны рассуждений, касающихся "Одиссеи" в переводе Жуковского. Он пишет даже, что это дело он принимает так близко к сердцу, как свое собственное, и успех его рассматривает как успех собственного произведения. Самый перевод он характеризует со свойственным ему увлечением, как "венец всех переводов, когда-либо совершавшихся на свете, и венец всех сочинений, когда-либо сочиненных Жуковским".[14] В содержании поэмы, хотя и сказочном, он видит глубокое общечеловеческое значение и думает, что в ней содержится много поучительного. Разница культуры, разница мировоззрений, даже религии не может помешать этому, и всякий человек, пишет он, "извлечет из "Одиссеи" то, что ему следует из нее извлечь... то есть, что человеку везде, на всяком поприще, предстоит много бед, что нужно с ними бороться, - для того и жизнь дана человеку, - что ни в каком случае не следует унывать, как не унывал и Одиссей". Если вдуматься в тот смысл, который Гоголь влагает в "Одиссею", можно заметить, что это его толкование живо напоминает сюжет "Мертвых душ", словно из "Одиссеи" он заимствовал основную концепцию своего произведения - показать,, всю громаднонесущуюся жизнь" под углом зрения своего героя. Идею постепенного усовершенствования человека он предполагал провести в трех частях своей поэмы, как назвал он свое произведение, вызвав этим недоумение Белинского и многих других.
Не прошел Гоголь и мимо "гомеровского вопроса", высказав крайне отрицательное отношение к новым теориям. "Как глупы немецкие умники, - пишет он в одном из писем, - выдумавшие, будто Гомер -· миф, а все творения его - народные песни и рапсодии!" Особенное символическое значение приобретает для него образ самого Гомера: "слепец, лишенный зрения, общего всем людям, и вооруженный тем внутренним оком, которого не имеют люди!"
Достоевский также был под обаянием Гомера. То, что под конец его жизни было выражено им в речи о Пушкине, в ранние годы он уже связывал с Гомером. В письме к брату своему Михаилу Михайловичу 1840 г. (таким образом, даже ранее Гоголя) он писал, возражая против сопоставления Гомера с Виктором Гюго: "Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гюго. Вникни в него, брат, пойми "Илиаду", прочти ее хорошенько (ты ведь не читал ее, признайся). Ведь в "Илиаде" Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос - новому".
Высокого ценителя поэзия Гомера нашла в лице Белинского, который во многих своих статьях ставит его в образец как "бессмертного, вечно юного старца", как "простодушного гения", который "сосредоточил в лице своем всю современную мудрость", и особенно противопоставляет его наивную простоту и жизненность "нарядному щеголю" Вергилию. ""Илиада" и "Одиссея", - замечает он, - будучи национально-греческими созданиями, в то же время принадлежат всему человечеству". Он с большой чуткостью отметил высокое художественное значение таких сцен, как расставание Ахиллеса с Брисеидой в песни I, тоска Ахиллеса об убитом Патрокле в песни XXIII, встреча Приама с Ахиллесом в песни XXIV "Илиады", У Белинского мы находим замечательную характеристику поэмы Гомера: "Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественного совершенства; но она не поглощает всего нашего внимания; не ей исключительно удивляетесь вы: вас более всего поражает и занимает разлитое в поэзии Гомера древнеэллинское мироощущение и самый этот древнеэллинский мир. Вы на Олимпе среди богов, вы в битвах среди героев; вы очарованы этой благородной простотой, этой изящной патриархальностью героического века народа, некогда представлявшего в лице своем целое человечество; но поэт остается у вас как бы в стороне, и его художество вам кажется чем-то уже необходимо принадлежащим к поэме, и потому вам как будто не приходит в голову остановиться на нем и подивиться ему". Вместе с Гнедичем, Гоголем и Жуковским Белинский протестует против отрицания единого авторства поэм.[15]
Пример Гнедича увлек затем Жуковского, который в 1842-1849 гг., не зная греческого языка, но пользуясь при работе деятельной помощью ученого Грасгофа в Дюссельдорфе, сделал полный перевод "Одиссеи". Еще ранее, в 1828 и в 1829 и затем в 1849-1851 гг. он перевел отдельные отрывки из песен I, VI, XVII-XX "Илиады". Увлекшись на склоне лет поэзией Гомера, он писал в 1845 г. И. В. Киреевскому: "Он [Гомер] - младенец, постигнувший все небесное и земное и лепечущий об этом на груди у своей кормилицы-природы. Это - тихая светлая река без волн, отражающая чистое небо, берега и все, что на берегах живет и движется; видишь одно верное отражение, а светлый кристалл отражающий как будто не существует. В письме к С. С. Уварову в 1847 г. Жуковский писал: "Перешедши на старости в спокойное пристанище семейной жизни, мне захотелось повеселить душу первобытною поэзиею, которая так светла и тиха, так животворит и покоит, так мирно украшает все нас окружающее, так не тревожит и не стремит ни в какую туманную даль... Муза Гомера озолотила много часов моей устарелой жизни". Жуковский придавал такое значение своему переводу, что называл его своим "лучшим, главным поэтическим произведением" (письмо от 11 ноября 1847 г.).[16]
Изменились времена: романтическое направление сменилось реалистическим. Но и тогда критик нового революционно-демократического направления - Чернышевский - признает высокие качества Гомера. Он видит в нем поэта "детски простого душой".[17] Отмечая относительность всех суждений о красоте, он указывает, что для понимания Гомера, как и всякого другого поэта прошлых времен, надо представить себе окружающие условия. "Если мы не перенесемся мыслью в патриархальное общество, песни Гомера будут оскорблять нас цинизмом, грубым обжорством, отсутствием нравственного чувства". С той же точки зрения он отмечает, что, хотя Гомер служит образцом[18] для новой эстетики, его "поэмы бессвязны".[19] В этом взгляде, по видимому, сказываются отклики западных теорий о дробном составе поэм.
Высокую оценку поэзии Гомера находим мы у Тургенева и Льва Толстого. Еще в 1840 г., находясь в Германии, Тургенев в письме от 8 сентября выражает сожаление, что не взял с собою Гомера. "Душа желает поплавать в эпическом море", - пишет он. (Он имеет в виду известный перевод Фосса.) Вот что писал Тургенев в своем ответе на магистерском экзамене в 1841 г.: "Поэмы Гомера представляют нам настоящий, лучше сказать, единственный образец эпической поэзии: и все, что желали бы мы встретить в подобного рода стихотворениях, в изобилии встречается нами в "Илиаде" и "Одиссее": простота, сила, вдохновение, самое привлекательное описание древних нравов и обычаев, самое живое описание битв и много другого, чего нельзя исчерпать в немногих словах". Интересно, что, написав свои рассказ "Певцы", помещенный в "Записках охотника", он вспоминает Гомера. В письме к П. Виардо от 27 октября (7/XI) 1850 г. он говорит: "Детство всех народов сходно,, и мои певцы напомнили мне Гомера".
Понять Гомера, даже еще не читая его в подлиннике, сумел Л. Н. Толстой. В пору, когда он усердно изучал греческий язык, он уже уловил, как мало передают подлинную сущность Гомера все имеющиеся переводы. В письме к Фету от декабря 1870 г. он так представляет отношение между Гомером и его переводчиками: "Пошлое, но невольное сравнение: отварная дистиллированная вода и вода из ключа, ломящая зубы, с блеском и солнцем и даже соринками, от которых она еще чище и свежее. Можете торжествовать: без знания греческого нет образования".
И в наши дни А. М. Горькому гомеровский образ "презренного Ферсита" казался еще вполне жизненным в буржуазной журналистике.[20]
Как ни говорил Гнедич о простоте Гомера, он все-таки не передал ее надлежащим образом, и его перевод грешит излишней высокопарностью, а обилие архаизмов и славянизмов затрудняет понимание его языка. Уже Пушкин после восторженного отзыва о нем испытал разочарование. Перевод Жуковского, несмотря на то, что сделан не с подлинника, довольно близок к нему и значительно проще, чем перевод Гнедича. Однако оба эти перевода, сыгравшие важную роль в ознакомлении с поэзией Гомера и ставшие классическими, соответствовали взглядам своего времени на технику перевода и в настоящее время нуждаются· в уточнении и обновлении.
В 50-х годах XIX века сделал попытку перевести "Илиаду" (песни I-XII) языком и размером наших былин проф. Ордынский.[21] Однако эта попытка придать греческому произведению облкк иной культуры,, естественно, не имела успеха. Тогда же П. М. Леонтьев, знакомя нашу публику с знаменитым трудом Грота "История Греции", поддерживал отстаиваемую им теорию "основного ядра" (Пропилеи, т. II, отд. II,. стр. 1-99, М., 1857). В 60-х" годах обстоятельное исследование о Гомере написал наш выдающийся ученый Ф. Ф. Соколов в статье "Гомеровский вопрос" (Журн. Мин. Нар. Проев., 1886, №№ 11 и 12,. Труды Ф. Ф. Соколова, СПб., 1910, стр, 1-148), где он весьма обстоятельно и убедительно отстаивает точку зрения "единства". Другие наши ученые держались по преимуществу теории "основного ядра" (см. выше,, стр. 118 сл.). В 1896 г. выпустил новый перевод "Илиады" Н. Н. Минский (4-е изд. в 1935 г.). Написанный более современным языком, он уступает по точности Гнедичу и вместе С тем не передает величавости подлинника.
В наше время делалось и делается много попыток перевода отдельных мест из поэм Гомера и даже попыток полного их перевода, но они· не имеют серьезного научного значения. Недавно скончавшийся наш маститый писатель В. В. Вересаев на основе перевода Гнедича сделал новый перевод "Илиады", который отредактирован проф. И. И. Толстым. Перед самою своею смертью Вересаев успел закончить и перевод "Одиссеи" - совершенно независимо от перевода Жуковского.
[1] См. Н. К. Гудзий. История древней русской Литературы, М., 1945, стр. 96.
[2] А. Н. Пыпин. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских, СПб., 1857, стр. 306—316.
[3] А. Н. Пыпин. Указ. соч., стр. 61 сл.; А. С. Орлов. Переводные повести феодальной Руси и Московского государства XII XVII вв., Л., 1934, стр. 43—45.
[4] А. С. Орлов. Древняя русская литература, М. —Л., 1937, стр. 263, 273 сл.
[5] А. Н. Пыпин. Указ, соч., стр. 50 сл.
[6] А. Н. Пыпин. История русской литературы, т. III, изд. 4–е, СПб., 1911, стр. 396.
[7] См. П. Шуйский. Русские переводы Илиады, „Лит. критик“, 1935, № 10 стр. 163.
[8] Чтения в Беседе любителей русского слова“, 1815, кн. 17
[9] Указание проф. С. И. Соболевского.
[10] Археологические труды А. Н. Оленина, т. I, в. I, СПб,, 1877.
[11] „Письмо к Н. И. Гнедичу о греческом гексаметре“, „Чтения в Беседе любителей русского слова“, 1813, кн. XIII.
[12] П. В. Анненков. Гоголь в Риме. Воспоминания и критические очерки, т. I, М., 1877, стр. 200.
[13] „Выбранные места из переписки с друзьями“, т. VII.
[14] Письма, т. III, стр. 11.
[15] Ср. В. Р. Лобанов. Белинский в его воззрениях на античный мир. Гермес, 1911, стр. 168-172, 190—194 и 216—221.
[16] О переводе Жуковского см. С. П. Шестаков, Жуковский, как переводчик Тонера (Чтения в Обществе любителей русской словесности при Казанском университете), Кавань, 1902; П. Н. Чербяев, Как ценили перевод „Одиссеи“ Жуковского современные в последующие критики“. Филол. записки, 1902, вып. II III.
[17] Чернышевский, О поэзии. Избранные философские сочинения. М., 1938, стр. 439.
[18] Чернышевский, Эстетические отношения искусства к действительности. Избранные философские сочинения, стр. 333.
[19] Там же, стр. 334.
[20] А. М. Горький, О литературе, стр. 452.
[21] Отечественные записки, 1853, тт. 86—88.
Глава IX КИКЛИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ И ГОМЕРОВСКИЕ ГИМНЫ
1. КИКЛИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ
Поэмы Гомера оставались на долгое время образцом для позднейших поэтов, создавших целый ряд эпических произведений, посвященных различным отделам мифической истории Троянской войны (а также других циклов сказаний). Сюжеты этих поэм остались незатронутыми в "Илиаде" и "Одиссее". Начиная с первой половины VIII века, от Арктина Милетского до современника Писистрата - Эвгаммона Киренского с его "Телегонией", продолжается пора интенсивного эпического творчества, примыкающего к традиции Гомера.[1] Влияние Гомера отражалось здесь на всем стиле, на способах эпического изображения действия, на приемах характеристики персонажей, на формах описаний, сравнений, на применении речей действующих лиц, на традиционных эпических формулах и т. д.
Ни одна из этих поэм до нас не дошла. На основании "Поэтики" Аристотеля (гл. 23) мы можем сделать бесспорное заключение, что они пользовались исключительной популярностью и послужили основным источником, из которого черпали свои сюжеты трагические поэты V-IV веков до н. э. Последовательность же рассказа в поэмах троянского цикла восстанавливается по сухому пересказу в "Хрестоматии" некоего Прокла,[2] время которого датируется различно (от II до V века н. э.), и в других наших мифографических источниках (псевдо-Аполлодорова "Библиотека"). К сожалению, Прокл преследовал, скорее, цели мифографические, а не цели передачи поэтического содержания данной поэмы.
Вследствие этого его пересказы почти не позволяют делать предположений о художественных достоинствах этой обширной послегомеровской эпической литературы. Мы не моя ем представить себе, как пользовался тот или другой поэт выигрышной ситуацией, намеченной самим сюжетом поэмы, как мог он развивать на этой канве свои характеристики героев, борьбу их чувств и настроений. Живопись на вазах древнего, так называемого чернофигурного стиля, также указывающая на популярность эпического цикла, позволяет делать некоторые заключения об отдельных ситуациях. Далее, разработка многих сцен этого же эпоса в трагедии заставляет нас предполагать, что по крайней мере некоторые элементы описания и характеристик даны были уже в их эпическом источнике. Так, зная, что в "Киприях" рассказывалось о принесении в жертву Агамемноном своей дочери Ифигении,[3] мы не можем отрешиться от мысли, что великолепные сцены борьбы противоположных чувств у отца и военачальника и у Ифигении в ее героическом решении пожертвовать собою для счастья родины, на которых зиждется драматический интерес трагедии Эврипида "Ифигения в Авлиде", были уже в этой поэме. С другой стороны, мы не должны забывать некоторых отличий в разработке фабулы киклического эпоса и трагедии. Например, дети Эдипа в киклической поэме "Эдиподии" были от второй его жены Эвриганеи,[4] а не от Эпикасты.
Следует заметить, что многие из тех ситуаций и сцен, какие намечаются в пересказе Прокла, представляются благодарною темою для опытного художника слова, а этот опыт, эти выработанные приемы были налицо у киклических поэтов, прошедших школу аэдов с гомеровской традицией. В самом выборе сцен и положений эти поэты руководились, по видимому, эффективностью сюжета, возможностью развернуть в отдельном мотиве все свое искусство блестящего описания или психической характеристики.
В 1894 г. были найдены в римской и иерусалимской рукописях более полные отрывки псевдо-Аполлодоровой библиотеки, содержащие изложение сюжетов киклических поэм,[5] и это несколько пополнило наше представление о киклическом эпосе.
У нас есть еще один источник для знакомства с киклическими поэмами, относящийся уже к изобразительному искусству. Это - две "Илионские таблицы" со сценами из отдельных киклических поэм, расположенных в том же порядке, как они значатся в списке их. Однако "Титаномахии" и "Эдиподии" здесь нет. В "Таблицах" изображения начинаются с "Фиваиды". "Фиваиду" упоминает Павсаний как поэму, приписываемую Каллином Гомеру. Сам Павсаний (IX, 9, 5), добавляя, что с Каллином были согласны многие достойные внимания люди, считает эту поэму лучшей после "Илиады" и "Одиссеи".
"Эдиподия" (600 стихов) рассказывала о судьбе фиванского царя Эдипа, послужившей сюжетом для трех трагедий Софокла. Однако "Эдиподия" описывала судьбу царя Эдипа в согласии с "Одиссеей" (XI, 271 280), но в иной трактовке, чем трагедии Софокла.[6] Расхождение заключалось прежде всего в том, что матерью четверых детей Эдипа была не Иокаста (в "Одиссее" - Эпикаста), а другая его жена -· Эвриганея (см. Павсаний IX, 5, 10 сл.). Один эпиграфический памятник приписывает поэму лакедемонянину Кинефону, жизнь которого историк IV века н. э. Евсевий Кесарийский, неизвестно по каким соображениям, относит к 50-й олимпиаде (580-577 гг.).
Продолжением "Эдиподии" являлась киклическая "Фиваида", где сюжетом была борьба сыновей Эдипа - Этеокла, завладевшего отцовским престолом, и Полиника, изгнанного им из Фив и нашедшего приют и защиту у аргосского царя Адраста. В "Фиваиде" был описан неудачный поход семи вождей из Аргоса против Фив, имевший целью вернуть фиванское царство Полинику. Продолжением ее были "Эпигоны", рассказ о походе следующего аргосского поколения, окончившемся взятием Фив. В этом походе участвовал также Диомед, сын Тидея, будущий герой Троянской войны. Византийский лексикограф X века Свид псевдо-геродотовская биография Гомера (см. выше, гл. V, § 1), говорят, что Гомер написал "Фиваиду" близ Кумы, после изгнания своего из Смирны. Но уже Геродот сомневался, что эта поэма была написана Гомером,[7]
После "Фиваиды" следовал троянский цикл. Первой поэмой были "Киприи" в одиннадцати книгах. Они начинались с космогонического мотива, изложенного в форме совещания между Зевсом и Фемидой, после чего Зевс принимал решение облегчить страдающую от перенаселения землю возбуждением Троянской войны. В дошедшем до нас тексте этого места слова "совершалася Зевсова воля" (Διὸς ἐτελείετο βουλή) буквально совпадают со ст. 5 песни I "Илиады", что, очевидно, должно было подчеркивать единство идеи, проникающей весь троянский эпический цикл. Затем рассказывалось о свадьбе Пелея (отца Ахиллеса) ■с морской богиней Фетидой (на этой свадьбе произошел спор богинь •о красоте), о суде Париса, о похищении Елены, о призыве Атридов ко всем греческим героям, о сборе войска в Авлиде, о первом безуспешном походе ахейцев в Тевфранию, царство Телефа. Первая часть поэмы оканчивалась бурею и разрушением отходивших судов. В следующей части описывался ход событий второго предприятия против Илиона: вторичный сбор в Авлиде, принесение в жертву Ифигении, отплытие, оставление укушенного змеею Филоктета на острове Лемносе на пути в Троаду, высадка ахейцев на троянском берегу и первые бои перед Троей. Поэма оканчивалась троянским "Каталогом" в подражание каталогам в песни II "Илиады".[8] Поэма приписывалась иногда Гомеру, но· Геродот (II, 117) отвергает это мнение. Автором ее называли Стасина Кипрского или Гагия Трезенского.
И название самой поэмы и происхождение одного из авторов, которому она приписывалась, останавливают на себе наше внимание. Остров Кипр с давних пор находился в тесных отношениях с ахейским культурным кругом. Остров был очень рано колонизован греками из Пелопоннеса (что сказывается и в сходстве кипрского диалекта с аркадским).[9] Колонизация эта имела место раньше, чем время заимствования греками северносемитического письма; некоторые современные ученые относят ее даже к XIV веку до н. э. Несмотря на дальность расстояния, греческие поселенцы на Кипре остались в сношениях с родиной. Об этом свидетельствует в "Илиаде" (XI, 21 сл.) упоминание о друге Агамемнона кипрском царе Кинире. На очень древнюю связь с Троадой указывает и сходство керамики Гиссарлыка-Трои с Кипром, а также сага об основании города Гергифы в Троаде кипрским племенем гергиков (Афиней VI, 256b).
Следующая поэма "Эфиопида" (в пяти книгах) была названа так в честь союзника троянцев, эфиопского царя Мемнона. Поэма тесно примыкала к концу "Илиады". На помощь троянцам прибывает амазонка Пенфесилей. Ее убивает Ахиллес, которого внезапно охватывает любовь· к убитой. Ферсит издевается над любовью Ахиллеса к своей жертве. Ахиллес убивает его за эти насмешки и уезжает на остров Лесбос, чтобы очиститься от вины в убийстве; обряд очищения совершает над ним Одиссей. Со сценой Ахиллеса и умирающей Пенфесилеи, как и со многими другими популярными сценами троянского эпического цикла, мы знакомимся по многочисленным изображениям на греческих вазах. Поело Пенфесилеи на помощь троянцам выступает Мемнон, царь эфиопов, сын богини Эос; его доспехи выкованы Гефестом. Он убивает Антилоха, молодого друга Ахиллеса (повторение мотива Патрокла из "Илиады") последний же убивает Мемнона, который становится бессмертным благодаря своей матери-богине, почитаемой троянцами. Но и сам Ахиллес, в тот момент, когда он почти вторгся в Трою, поражен меткой стрелой Париса. Конец поэмы представляет собою описание погребения Ахиллеса и игр на его могиле. Это - подражание играм "Илиады". Возможно, что далее шел спор между Одиссеем и Аяксом Теламонидом из-за оружия Ахиллеса и самоубийство Аякса.
Автором этой поэмы, богатой как самостоятельными мотивами, так и подражаниями мотивам "Илиады", считался Арктин, сын Телеса из Милета, которого Евсевий относил к 1-й олимпиаде (776-773 гг.),, а Свида - к 9-й (744-741 гг.). И то и другое является сомнительным. Намеки "Эфиопиды" на "Одиссею", по мнению Бласса, определяют для Арктина время около 651-650 гг. "Эфиопида" должна была возникнуть позже "Одиссеи", так как оплакивание Ахиллеса на его погребальном ложе Фетидою в сопровождении Муз и Нереид (Од. XXIV, 48-64) представляет собою оригинал для такого же описания в "Эфиопиде". С другой стороны, так как Ахиллес переносится прямо с погребального костра на остров Левку в Черном море (Тендровская коса), то время основания черноморских колоний является основанием для приблизительной датировки поэмы. Но, вместе с тем, нет необходимости предполагать окончательное завершение "Илиады" до создания "Эфиопиды": хотя отношение Ахиллеса к Гектору и Патроклу в "Илиаде" и напоминает отношение Ахиллеса к Мемнону и Антилоху, автор "Эфиопиды" мог воспользоваться не обязательно готовой "Илиадой" в том виде, как она оформилась к VI веку, а ее основным зерном ("Ахиллеидой", или "Гневом Ахиллеса").
Тому же Арктину приписывалась "Гибель Илиона" (Ἰλίον πέρσις). Поэма начиналась приготовлениями к завоеванию Трои, историей с деревянным конем, Лаокооном и Синоном (все это известно нам также по "Энеиде" Вергилия). Затем следовала с нагромождением ужасов мрачная картина занятия города. В конце появлялась грозная фигура гневной богини.[10]
"Малая Илиада" (Ἰλιάς μικρά) в четырех книгах, самая обширная по материалу из троянских поэм. По извлечению Прокла, она начиналась спором из-за оружия Ахиллеса и оканчивалась втаскиванием троянцами в город деревянного коня. Но на самом деле "Малая Илиада" была обширнее и содержала также занятие города. Конец ее совпадал, таким образом, с концом "Гибели Илиона". Прокл предпочел рассказать этот заключительный эпизод по Арктину, хотя в начале своего изложения включил кое-что из более ранних событий. Это видно из сохранившегося вступления. За спором Аякса и Одиссея и самоубийством Аякса в "Малой Илиаде" следовал призыв новых боевых сил со стороны греков и троянцев, смерть Париса от стрелы Филоктета и Эврипила от руки Неоптолема, нового вождя греков. Затем шли дальнейшие события до раздела военной добычи после падения Трои. Автором поэмы признавался вообще Лесх (Павсаний пишет: Λέσχεως), сын Эсхимена из Пирры на Лесбосе. По Евсевию, Лесх жил в 30-й олимпиаде (660-657 гг.),. но, всего вероятнее, время его жизни надо относить уже к VI веку.
"Возвращения" (Νόστοι) Гагия Трезенского описывали возвращение из-под Трои ахейских героев. Здесь изображалась гибель второго Аякса, сына Оилея, который в поэме Арктина "Гибель Илиона" оскорбил алтарь божества. У этого алтаря искала защиты вещая дева Кассандра. Неоптолем с доставшейся ему при разделе троянской добычи Андромахой попадал во Фракию и к молоссам, где происходила сцена взаимного узнавания между ним и Пелеем, отцом Ахиллеса. Сюжет этот использован Эврипидом в трагедии "Андромаха". Далее в той же поэме говорилось о блужданиях Нестора и Менелая, известных нам по "Одиссее" (песни II-IV). Менелай был занесен ветром в Египет, а потом все же попал на родину. Фигурировали в поэме Гагия и Диомед, и Другие герои. Но центральным пунктом в этой поэме, несомненно, являлась злосчастная судьба аргосского царя Агамемнона, который, после благополучного прибытия домой, погиб вместе со своей пленницей Кассандрой от козней своей жены Клитеместры и ее любовника Эгисфа. На эту судьбу Агамемнона указывает и "Одиссея" (XI, 418-426):
Но возрыдал бы ты горько, узрев там ужас, когда мы
Вкруг кратера и полных столов с питьем и едою
В пышных чертогах лежали и пол весь залит был кровью.
Жалобный-жалобный голос услышал я дщери Приама,
То Клитеместра коварная грудь пронзила Кассандре.
Над холодеющим телом моим в предсмертных мученьях
Руки вздымал и опять опускал я, она же бесстыдно
Прочь отошла и даже в Аид отходящему очи
Мне рукою закрыть не хотела с лобзаньем прощальным.
(Перев. С. П. Шестакова)
Малолетний сын Агамемнона Орест воспитывался вдали от Микен. Выросши, он вместе со своим другом Пиладом мстит за отца и убивает Эгисфа. К этому моменту возвращается после скитаний и Менелай. Сюжет этот использован Эсхилом в трилогии "Орестея", но Эсхил перенес действие в Аргос и заставил Ореста убить не только Эгисфа, но и мать Клитеместру.
Наконец, "Телегония" Эвгаммона (из греческой африканской колонии Кирены) описывала те самые приключения Одиссея, которые предсказал ему в подземном мире провидец Тиресий (ср. Од. XI, 121 сл.). Это же рассказывает Одиссей Пенелопе на их брачном ложе (XXIII, 264 сл.). Телегон был сыном Одиссея от Кирки. В поисках отца он прибывает на Итаку, но приняв Одиссея за врага, убивает его. Здесь мы имеем распространенный эпический сюжет о бое отца с неузнанным сыном, который в разных вариантах встречается в русском, древнегерманском и иранском эпосе.
Близко подходили к киклическим поэмам по своему характеру и другие поэмы, уже не связанные с темой Троянской войны или фиванских походов.
Такова, например, поэма о взятии Эхалии (на острове Эвбее) Гераклом (Οίχαλίας ἅλωσις), которая приписывалась Креофилу Самосскому. Самосскую школу аэдов некоторые считают конкурировавшей со школами, распространявшими поэмы Гомера (см. выше, гл. VI, § 1). В поэме рассказывалось о состязании Геракла с сыновьями царя Эврита в стрельбе из лука. Победивший Геракл должен был получить руку Иолы, сестры побежденных. На эту тему была написана не дошедшая до нас трагедия Иона "Эвритиды" Не получив обещанного, Геракл предпринял поход против Эхалии и разрушил ее. Сюжет является очень древним, так как упоминается уже в "Одиссее" (VIII, 224 сл.; XXI, 25 сл.): лук Одиссея является тем самым луком, из которого стрелял и Геракл, состязаясь с сыновьями Эврита. Есть ученые (Д. Мюльдер), которые полагают, что многое в поэмах Гомера взято из более древнего цикла о Геракле. Сюжет "Взятия Эхалии" примыкает к другому эпизоду того же цикла, который был использован Софоклом в трагедии "Трахинянки", где жена Геракла Деянира губит его из ревности к Иоле, которую Геракл привозит с собою в Трахины.
Среди других поэм можно отметить еще "Фокаиду" Фесторида, который упоминается в биографиях Гомера. Некоторые ученые отождествляют ее с "Миниадой", где описывалось разрушение Гераклом Орхомена, но, судя по дошедшим фрагментам, она включала в себя и другие эпизоды: умерщвление Мелеагра Аполлоном, путешествие Тесея и Пирифоя в Аид, - сопровождаемые обширными описаниями подземного царства и наказаний, которые терпят смертные, оскорбившие богов (например, Амфион, Фамирид). Эти описания очень сходны С песнью XI "Одиссеи", но в них еще отсутствует перевозчик Харон. Что же касается основного сюжета этого эпоса (падение Орхомена), то он несомненно содержит в себе отклики на реальные исторические события. Археология подтверждает смену в Беотии гегемонии Орхомена господством более южного центра - Фив. "Миниада" приписывалась также некоему Продику.
Есть также свидетельства о существовании большого эпоса (в 500 стихов) "Данаиды" (ср. "Просительницы" Эсхила). Незначительные отрывки показывают, однако, что сюжет трактовался здесь несколько иначе, чем у Эсхила.
[1] В настоящее время отнесение Арктина к VIII веку отрицается (см. ниже, стр. 151).
[2] Велькер („Der epische Cyclus“, т. I, 2–е изд., 1882) отличает этого грамматика Прокла от неоплатоника Прокла и относит его ко II веку н. э. „Хрестоматия“ Прокла дошла до нас также лишь в извлечениях, сохраненных византийским памятником IX века („Библиотека патриарха Фотия“).
[3] В „Киприях“ было два похода под Трою: сначала в Мисию (эпизод Телефа), потом из Авлиды, когда на пути на острове Лемносе был покинут Филоктет.
[4] Схолии к „Финикиянкам“ Эврипида, стр. 53.
[5] То есть поэм „кругом“ (κύκλω), охватывающих собою все содержание того или иного комплекса героических мифов.
[6] Corssen, Die Antigone des Sophocles. Берлин, 1908.
[7] Ср. также показание Геродота (V, 67) о запрещении тиранном Клисфеном Сикионским исполнения рапсодами гомеровских поэм. Грот в своей „Истории Греции“ (т. II, ч. 2) относил это указание к „Фиваиде“.
[8] Некоторые ученые полагают, что „Каталог“, как очень поздняя интерполяция в „Илиаде“, попал туда из „Киприй“.
[9] См. выше, главу II, стр. 33.
[10] Мы следуем предложению К. Лерса перестановки конечных фраз эксцерпта. Двум эксцерптам Прокла предшествовала другая книга, где описывалась постройка деревянного коня, мнимый отъезд ахейцев, посылка за Неоптолемом, похищение Палладия.
2. ГОМЕРОВСКИЕ ГИМНЫ
Кроме двух больших эпических поэм, под именем Гомера в рукописях дошел до нас сборник гимнов к богам, из коих большинство (28) небольших, от 3 до 22 стихов каждый. Все они написаны гексаметром, так как предназначались не для хорового пения, а представляли собою небольшие введения προοίμια - молитвы, обращенные к богам, исполнявшиеся рапсодами на празднествах в честь данного бога перед тем, как приступить к исполнению героической былины. На такое назначение указывают и заключительные стихи многих из этих гимнов: "начав с тебя, перейду я к иной песне" (разумеется восхваление, история эпического героя). Все гимны написаны гексаметром, который и в дальнейшем остался размером этого рода поэзии (ср. гимны Каллимаха, Клеанфа, см. ниже, т. II).
В составе сборника находится и несколько обширных гимнов, по-священных разным богам, в несколько сот стихов каждый. Они излагают законченную мифическую историю бога (ареталогию), включающую в себя его рождение, его приключения и деятельность, основания его культа в разных областях Греции и т. д. На этих гимнах мы остановимся подробнее. В мелких же гимнах свойства божества и намеки на мифы о нем выражаются в нагромождении эпитетов. Мы начнем наш обзор с наиболее важного гимна - к Деметре, хотя в ряде рукописей сборника он совсем отсутствует, а там, где он есть, он занимает пятое место.
Гимн к Деметре (495 стихов). Сюжетом гимна служит история похищения владыкой подземного царства Аидом у богини плодородия. Деметры дочери ее Персефоны. С этим связана в гимне мифическая история основания культа обеих богинь в аттическом деме Элевсине и происходивших там "мистерий".
Предполагая уже совершившимся синойкизм (объединение городских общин) в Аттике, - в частности, присоединение к Афинам Элевсина, гимн восходит ко времени не раньше VI века до н. э.[1]
Деметра, в отчаянии от потери дочери, стерев с своего лика все признаки божественного происхождения, удаляется с Олимпа на землю и поселяется в Элевсине, у царской четы Келея и Метаниры, принимая на себя роль няньки их новорожденного сына Демофоонта. Она погружает своего питомца по ночам в огонь, чтобы сделать его бессмертным.
Случайно заметившая это Метанира приходит в ужас и запрещает Деметре делать это. Последняя, разгневавшись, открывается элевсинцам, приказывает воздвигнуть себе храм и садится в нем одна, погруженная в тоску. На земле же между тем начинается засуха. Мать Деметры Рея уговаривает Аида согласиться, чтобы Персефона проводила у него только треть года, а остальную часть времени находилась у матери.
Зевс приказывает Аиду повиноваться, и плодородие земли восстанавливается, когда мать и дочь возвращаются на Олимп.
Рея приказывает Деметре вернуть земле плодородие.
... И ей не была непослушна Деметра,
Выслала тотчас колосья на пашнях она плодородных,
Зеленью буйной, цветами широкую землю одела
Щедро. Сама же, поднявшись, пошла к владыкам державным, -
С хитрым умом Триптолему, смирителю коней Диоклу,
Силе Эвмолпа, а также владыке народов Келею, -
Жертвенный чан показала священный и всех посвятила
В таинства. Святы они и велики. Об них ни расспросов
Делать не должен никто, ни ответа давать на расспросы:
В благоговеньи великом к бессмертным уста замолкают.
Счастливы те из людей земнородных, кто таинства видел,
Тот же, кто им непричастен, по смерти не будет вовеки
Доли подобной иметь в многосумрачном царстве подземном.
(Перев. В. В. Вересаева)
Гимн заканчивается обращением аэда к обеим богиням, просьбой ниспослать ему счастливую жизнь за песню. В этом гимне мы имеем древнейшее свидетельство об основании тайного элевсинского культа с посвящением в него избранных "мистов" (лиц, посвященных в мистерии). Этот культ имел огромное значение в истории развития· греческой религии вплоть до самых последних времен. Сыграл он известную роль и в оформлении христианского богослужения.
Гимн, как мы видим, называет имена и других царей Элевсина, кроме Келея: Триптолема, Диокла и Эвмолпа. Из них Триптолем играет большую роль в аттическом элевсинском культе как божество, разделяющее с богинями почитание верных.[2]
Жрецы, якобы происходящие из рода Эвмолпидов, заведывали элевсинскими мистериями вплоть до VI века н. э. Из Геродота (VIII, 65) мы знаем, что уже в 480 г. число адептов элевсинских мистерий, связанных с таинственными обрядами культа Деметры и Коры, в дэме Элевсине достигало тридцати тысяч. У Аристофана, в его комедии "Лягушки" (самый конец V века до н. э.), выводится хор мистов в подземном мире. Они поют: "Мы одни пользуемся и в подземном царстве Аида солнцем и светом, мы, которые посвящены и провели жизнь богобоязненно по отношению к своим и чужим". Это находится в прямой связи с приведенными выше стихами (ст. 480-482) из гомеровского гимна к Деметре.
Гимн к Аполлону Делосскому и Дельфийскому, занимающий в сборнике первое место, рассказывает о рождении Аполлона и его странствиях. После этого следует обычное заключение певца, а затем, после какого-то пропуска, излагаются борьба Аполлона с драконом Пифоном (ср. стихотворение Пушкина: "Лук звенит, стрела трепещет") и история основания дельфийского храма с оракулом этого бога. Уже Фукидид (III, 103) цитирует стихи из гимна, первая часть которого (178 стихов) обыкновенно рассматривается как отдельный, самостоятельный гимн к Аполлону Делосскому. В стихах, цитируемых Фукидидом, поэт обращается к молодым девушкам, сообщая о сам ом себе, что он - "слепец, а живет на скалистом Хиосе". Эта первая часть гимна по своему происхождению связана с островом Делосом, где существовал старинный культ Аполлона. Фундаменты храма, гигантской статуи Аполлона и жертвенника ему до сих пор показывают туристу на Делосе. Афиняне в 426 г. (Фукидид III, 103) восстановили здесь древнее празднество Аполлона, прекратившееся еще при Писистрате.
Дельфийский гимн (вторая часть гимна к Аполлону, 368 стихов) создан, во всяком случае, до 548 г., когда пожар уничтожил первый дельфийский храм, позже восстановленный. Знаменитый дельфийский храм с прорицалищем имел в истории Греции не только идейное значение, как элевсинские культы, но в лице своих жрецов играл и большую политическую роль.
Гимн к Гермесу (580 стихов). Гимн рассказывает, что родился Гермес рано утром, в полдень он уже изобрел кифару, а к вечеру украл у старшего брата, Аполлона, стадо коров. Здесь прекрасно охарактеризован бог изобретений и торговли, мастер воровства и плутней. Чрезвычайно удачно схвачен автором гимна легкий, грациозный тон, соответствующий самой природе воспеваемого бога. Пронырливая и шаловливая природа бога-непоседы проявляется с самого младенчества. Это - продувной плут, который ловко водит за нос своего старшего брата. Богу-младенцу приписывается в гимне изобретение семиструнной кифары, а так как мы знаем, что последняя была изобретена в конце VII века до н. э. Терпандром, то и гимн не мог быть сочинен раньше этого времени. Вот образчик стиля гимна (Гермес видит черепаху, из брони которой устраивает лиру):
Бросив взгляд, засмеялся и тотчас вымолвил слово:
"Знаменье славное, пользы великой, не стану бранить я.
Здравствуй, милейшей породы плясунья, за пиром товарка.
По сердцу мне ты пришлась, черепаха, в горах ты ютишься.
Ну-ка внесу тебя в дом, на пользу большую мне будешь.
Будешь от чар мне защитой, пока живой остаешься;
Если ж умрешь, вот когда запоешь ты чудесные песни".
(Перев. С. П. Шестакова)
Гимн к Афродите (293 стиха). Этот гимн в ярких красках изображает эпизод посещения пастуха Анхиза на горе Иде богиней Афродитой, разделяющей с ним ложе, чтобы породить Энея, родоначальника славного рода Энеадов. Поэт умеет соблюсти такт и возвышенный тон в своей щекотливой теме. Божественная натура и пленительная красота богини обрисованы тонкою кистью. По языку это самый гомеричный (ὁμηρικωτατος) из гимнов. Он - старейший из дошедших до нас больших гимнов, но все-таки относить его ко времени раньше VII века до н. э. нет оснований.
Фрагмент большого гимна к Дионису. Сохранившиеся в рукописи (бывшей Московской, теперь Лейденской) отрывки указывают на существовавший некогда большой гимн к богу Дионису. Здесь тоже описывалось учреждение культа бога и история его рождения.
Гимн к Пану (49 стихов). Пан, сын Гермеса и нимфы Дриопы, веселый козлоногий бог пастбищ, бродящий по горным дубравам и играющий по вечерам на свирели, изображен в этом гимне в лирических тонах на фоне греческой природы. Этот, образ вошел именно в таком виде в позднейшее искусство.
Гомеровские гимны принадлежат, несомненно, поре еще живого эпического творчества. Это ряд пластических образов богов с их разнообразными характерами: Деметра, образ печальной матери в ее неутешном горе по дочери; Аполлон, светлый бог, в блеске красоты и могущества; Гермес, с его игривым тонким умом; Афродита, полная красоты и женской стыдливости, покоряющая чарами все живое.
Значение гомеровских гимнов, получивших это название только в связи с тем, что они вышли из тех же школ аэдов, из которых вышел и гомеровский героический эпос, очень велико. Для исследователя древнегреческой мифологии и религии они дают древнейшую форму ареталогии главных божеств. Дальнейшее развитие образов этих божеств в поэзии и в изобразительном искусстве было бы для нас во многом непонятно без гомеровских гимнов. Для историка же литературы они представляют интерес и сами по себе, как замечательные художественные произведения, доступные нашему читателю в прекрасном русском переводе В. В. Вересаева. Позднейшие поэты (например, Каллимах) пытались подражать, этим гимнам, но не могли подняться до уровня дышащей в них подлинной поэзии.
Греческие культы с очень давних пор знали и другой род гимнов - лирические песнопения. Древнейшие формы таких гимнов до нас не дошли. О свидетельствах, на основании которых мы судим о них, сказано ниже, в разделе "Лирика".
[1] А. Н. Деревицкий („Гомерические гимны“. Харьков. 1889, стр. 83—86) склоняется к мнению, что этот гимн появился раньше синойкизма; он ссылается на упоминание „правящих царей“ в Элевсине как самостоятельном городе. Мы следуем мнению Велькера, Преллера, Вилямовица–Меллендорфа и др.
[2] 1 Ср. Fourcart. Recherches sur l’origine et la nature des mystères d’Eleusis 1895, p. 26.
Глава X ГЕСИОД И ДИДАКТИЧЕСКИЙ ЭПОС
1. СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ДИДАКТИЧЕСКОГО ЭПОСА
Континентальная Греция, в своем социально-экономическом развитии значительно отставала от малоазиатской Ионии, где принял свою окончательную форму древнегреческий героический эпос. Однако в конце VIII и в начале VII века до н. э. и там заметны большие социальные сдвиги. Разложение родового быта усиливается. Экономически окрепшие роды делаются зачатком правящего класса, обедневшие роды становятся к ним в оппозицию. Ускоренным темпом развивается и расслоение внутри родов. В тех областях Греции, где земледелие играло главную роль, разбогатевшая родовая аристократия - "люди лучшие" (οἱ ἄριστοι.) начинают закабалять и эксплуатировать остальную массу населения. Постепенно складывается тип мелкого земельного собственника, разоряемого поборами аристократов - "дароядцев" (δωροφάγοι).[1] Об этих поборах, как "добровольных" (δωτῖναι) так и обязательных (θέμιστες) говорится уже в гомеровском эпосе. Теперь они ложатся на производящее население еще более тяжелым бременем.
Новые социальные условия большинства населения не могли не привести и к созданию новой идеологии, - идеологии протеста против бесправия массы и произвола знати. Выразителями этого протеста выступают отнюдь не только бедняки (πένητες), презрительно называемые теперь "худшими", "жалкими" (οί χείρους, οἱ κακοί, οἱ δειλοί), но и земледельцы среднего достатка. С другой стороны, аристократия стремится охранить крупное землевладение законодательный путем. О таком законодательстве в Беотии упоминается в "Политике" Аристотеля (11, 9, 7).
Средний слой свободных землевладельцев очень консервативен в своей экономической деятельности. С их стороны наблюдаются попытки сопротивляться новым формам хозяйства, в которых на первое место выдвигается морская торговля, обещающая легкую наживу, но связанная с большим риском. Они стремятся найти идейно-моральное оправдание старому патриархальному укладу, при котором мелкое сельское хозяйство находилось в лучших условиях. Из этого стремления и вырастает новый поэтический жанр - дидактический эпос, образцом которого является дошедшая до нас поэма беотийского поэта Гесиода "Труды и Дни" (Ἔργα καὶ ἡμέραι), датируемая обычно концом VIII или началом VII века. Гесиод - первая реальная личность в древнегреческой литературе. Она отчетливо выступает из самого произведения.
Дидактический эпос резко отличается от героического. В основе первого лежат мифы о героях. Поэтические образы этих героев сложились еще в доклассовую эпоху, когда мифы были достоянием всего народа. В трактовке их более поздними певцами-аэдами, обслуживавшими уже аристократическую верхушку разлагающегося родового общества, сказались противоречия переходного периода, - периода оформления первых классовых расслоений.
Но первооснова героических сказаний и мифов - народное творчество, еще не отражающее этих расслоений.
Поэтика героического эпоса также определялась его народными корнями. Переходя в устной форме от одного поколения певцов к другому, поэмы о героях в устах мастеров своего дела (аэдов и рапсодов) застыли в своей поэтической технике, которая во многом сковывала индивидуальность поэта. Образовалась своего рода рутина, которой поневоле подчинялся всякий новый деятель в этой области художественного творчества. Если эпический певец говорил о себе: "я самоучка" (αὐτοδίδακτος), "бог внушил мне разные законы песен", - то это значило, что он сам уже не отдавал себе отчета в том, как он достиг своего искусства; он получал его как нечто готовое, в результате полного господства сложившейся рутины над индивидуальным творчеством.
Личность поэта не обнаруживалась в его произведении. Большая или меньшая степень талантливости, разумеется, сказывалась в тех или других частях эпоса, но мы тщетно стали бы искать здесь отпечатка индивидуальных черт характера, собственных мыслей и идеалов отдельных поэтов.
В этом отношении Гесиод представляет собою совершенно новое явление в истории древнегреческой литературы. В его поэме мы знакомимся с определенной личностью не только потому, что он сам сообщает в ней сведения о своем отце, о брате, о переселении отца из эолийской Кумы (в Малой Азии) в Беотию, где
Близ Геликона осел он в деревне нерадостной Аскре,
Тягостной летом, зимою плохой, никогда не приятной.
(Тр. и Дни, ст. 639--640).[2]
Индивидуальность автора выясняется не только из того, что поводом к написанию "Трудов и Дней" послужил совершенно реальный факт - тяжба автора с его братом Персом. Эта индивидуальность сказывается также и в том, что вся поэма отражает бытовые привычки и нравственный уклад жизни автора и окружающей его обстановки. В героическом эпосе мы ничего подобного не найдем. Хотя фигуры некоторых героев (например, Нестора, Одиссея, Приама) проступают в своей конкретности сквозь "общие места" эпического стиля, они все же слишком еще подчинены правилам изображения героя вообще. Быт, который в "Одиссее" описывается значительно конкретнее, чем в "Илиаде", не есть еще нечто такое, чем заполнена жизнь самого автора, в чем он кровно заинтересован. Эту-то личную заинтересованность мы и встречаем впервые у Гесиода.
[1] Гесиод, Тр. и Дни 38 и 221.
[2] Все цитаты из Гесиода („Трудов и Дней“ и „Феогонии“) и нумерация стихов даны по переводу В. В. Вересаева,
2. ГЕСИОД И ЕГО ПОЭМА. ТРУДЫ И ДНИ"
Автор поэмы "Труды и Дни" - прежде всего человек, исполненный высокого уважения к труду. Он сам привык к суровым условиям повседневной жизни, к тяжелым работам, которые вознаграждаются скудным результатом. Поэтому он и берется так смело за свою серьезную задачу: дать свод завещанной веками народной мудрости, установить ее кодекс в стихотворной форме, в поэме, которая должна была служить как бы писанным законом для человека, привязанного к земле как источнику существования. Подчиненный этой руководящей идее, он открыто глядит в лицо всем тем разочарованиям и огорчениям, какие являются уделом труженика в течение долгого ряда лет и кладут свой отпечаток на его настроение. Задача смелая, свидетельствующая о большой нравственной силе автора, закаленного тяжелым житейским опытом. В то время как обыкновенно поэзия отвращается от реального мира, чтобы в мире идеального искать забвения от скуки и тревог жизни, здесь перед нами поэт, который, не менее другого располагая способностью дать волю своему воображению и погрузиться в область мифа, предпочитает не порывать своих связей с землей и обыденной жизнью.
Мало того, что он не пренебрегает мелочами жизни, сухими практическими наставлениями, техническими описаниями, --он даже их любит, во-первых, ради них самих, во-вторых, ради их пользы, так как они могут служить указаниями, как лучше делать нужное дело. Реализм его поэзии коренится в существе самого его характера. Он для него не школьная доктрина, а отражение уклада его жизни, самых сокровенных его мыслей и чувств.
Как крестьянин Гесиод склонен к недовольству, к ворчливости, к обвинению людей и обстоятельств в том, что так тяжела его жизнь, к преувеличению разочарований, к умалению выгод своих занятий. Но при всем этом он далек от упадочных настроений. С огромным терпением борясь против трудностей, наслаждаясь редкими мгновениями физического и душевного отдыха, он в глубине души чувствует удовлетворение тем, чего достигает благодаря своей работоспособности, энергия, благоразумно. Особенно характерно для него сочетание этих различных элементов. "Труды и Дни"-произведение индивидуальное в настоящем смысле слова, носящее печать личности автора, как и позднейшая лирическая поэзия VII-VI веков, например творчество Архилоха.
Поэма "Труды и Дни" состоят из следующих частей, довольно ясно выделяющихся по самому своему содержанию.
Первая часть (до ст. 317) есть увещание брата Перса, вызванное стараниями последнего оттягать у поэта часть отцовского наследства при помощи неправедных судей. Поэт развивает в ряде эпизодов мысль о господстве в мире несправедливости: а) в изображении двух Эрид, т. е. распри доброй и дурной, благородного соревнования и ссоры (ст. 11- 26); б) в истории Пандоры, посылаемой Зевсом людям в наказание за похищение огня с неба Прометеем (ст. 42-105); в) в картине смены на земле поколений от золотого до железного века, с наступлением которого отлетели с земли благородное негодование и стыд (αἰδὼς καὶ νέμεσις)·, г) в басне о соловье и ястребе, которая должна иллюстрировать бесправное положение небогатого труженика по отношению к аристократам (ст. 202-212); д) в рассуждении о неправде (σχόλια δίκη) и беззаконии (ἀτασθαλία), губящих род человеческий (ст. 213-285); е) в призыве к Персу вернуться на нелегкую стезю добродетели, обитающей на неприступной вершине, и обратиться к труду (ст. 286-316).
Остановимся на первых трех эпизодах.
В рассказе о двух Эридах поэт вохваляет ту из них, которая олицетворяет соревнование, питающее собственнический инстинкт, и побуждает стремиться к обогащению:
Видит ленивец, что рядом другой близ него богатеет,
Станет и сам торотиться с посадками, с севом, с устройством
Дома. Сосед соревнует соседу, который к богатству
Сердцем стремится.
(Ст. 21-24)
Вторая Эрида только отвлекает от полезного труда, заставляя терять время на бесплодные для бедняка судебные процессы:
Не поддавайся Эриде злорадной, душою от дела
Не отвращайся, беги словопрений судебных и тяжеб,
Некогда времени тратить на всякие тяжбы и речи
Тем, у кого невелики в дому годовые запасы
Вызревших зерен Деметры, землей посылаемых людям.
Пусть, кто этим богат, затевает раздоры и тяжбы
Из-за чужого достатка.
(Ст. 28-34)
Весьма интересен эпизод о Пандоре, сотворенной Гефестом из земли и воды.
... Афине
Зевс приказал обучить ее ткать превосходные ткани,
А золотой Афрэдите - обвеять ей голову дивной
Прелестью, мучащей страстью, грызущею члены заботой.
Аргоубийце ж Гермесу, вожатаю, разум собачий
Внутрь ей вложить приказал и двуличную, лживую душу.
(Ст. 63-68)
Пандора - орудие мести Зевса людям за похищение с неба огня Прометеем, сыном Иапета, о котором поэма Гесиода является древнейшим свидетельством. Недальновидный брат Прометея Эпиметея (что значит по-гречески "крепкий задним умом") принимает Пандору в дар от богов, хотя Прометей предупреждал, чтобы он ничего не брал от Зевса. Наделенная даром льстивых вкрадчивых речей, Пандора сняла крышку с рокового сосуда, где таились всевозможные бедствия и вредоносные болезни, и наслала их на смертных.
Только Надежда одна в середине за краем сосуда
В крепком осталась своем обиталище, - вместе с другими
Не улетела наружу: успела захлопнуть Пандора
Крышку сосуда по воле эгидодержавного Зевса,
Тысячи к бед улетевших меж нами блуждают повсюду.
Ибо исполнена ими земля, исполнено море.
(Ст. 96-101)
Этот мотив пессимизма повторяется в поэме и дальше, например в ст. 174-175:
Если бы мог я не жить с поколением пятого века!
Раньше его умереть я хотел бы, иль позже родиться,
и во всей картине железного века, которая заканчивается словами: "От зла избавленья не будет" (ст. 201).
Картина смены веков имеет совершенно исключительное значение в мировой литературе. Поэт впервые запечатлел в ней представление античности о непрерывном регрессе в сфере духовной и материальной. Она является развитием более общего изречения житейской мудрости у Гомера (Од. II, 276):
Редко бывают подобны отцам сыновья, но по большей
Части все хуже отцов, лишь немногие лучше.
Перенесение в далекую, незапамятную древность состояния земного совершенства - учение о "золотом веке" - свойственно народным представлениям и известно у многих народов.[1] К нему надо отнести и библейское учение о земном рае, основанное на вавилонских мифах.[2] Но это общее представление развито Гесиодом в целую систему ступенеобразного падения человечества. Если сравнить схему Гесиода с более поздними литературными оформлениями той же мысли, например в "Метаморфозах" Овидия (I, 89-150), то мы замечаем одно существенное отличие. У Овидия непрерывное падение, образно выражаемое в понижении ценности металла, которым обозначается "век": золото, серебро, медь, железо. У Гесиода нисхождение временно задерживается: четвертое поколение - это герои, герои Троянской и Фиванской войн; время жизни этого поколения не определяется никаким металлом. Сама схема, безусловно, древнее времени Гесиода. Герои - вне ее. Это осложнение, вероятно, есть дань авторитету героического эпоса, хотя против его идеологии и направлена оппозиция того класса, к которому принадлежит Гесиод. Авторитет гомеровских героев заставил автора вывести их за рамки мрачной картины третьего ("медного") поколения.[3]
Мы находим легенду о смене веков в античной литературе, кроме Овидия, у Арата, отчасти Вергилия, Горация, Ювенала и Бабрия.
Вторая часть поэмы (ст. 317-382) представляет собою цепь разрозненных наставлений морального характера. За нею следует третья, основная и наибольшая по размеру часть, собственно "Труды" земледельца, настоящий сельскохозяйственный кодекс (ст. 383-617), заканчивающийся словами: "Вот как дели полевые работы в течение года!" Несмотря на обилие чисто практически советов и технических описаний (например, подробнейшее описание изготовления плуга, ст. 427-436), и эта часть довольно художественна. Характерна, например, пластичность образа холодного северо-восточного ветра Борея (ст. 507-517)
К нам он из Фракии дальней приходит, кормилицы коней,
Море глубоко взрывает, шумит по лесам и равнинам.
Много высоковетвистых дубов и раскидистых сосен
Он, налетев безудержно, бросает на тучную землю
В горных долинах. И стонет под ветром весь лес неисчетный.
Дикие звери, хвосты между ног поднимая, трясутся, -
Даже такие, что мехом одеты. Пронзительный ветер
Их продувает теперь, хоть и густо-косматы их груди.
Даже сквозь шкуру быка пробирается он без задержки,
Коз длинношерстных насквозь продувает. И только не может
Стад он овечьих продуть, потому что пушисты их руна, -
Он, даже старцев бежать заставляющий силой своею.
Не менее художественно описание летнего зноя, когда и труженику-земледельцу выпадает часок отдыха в тени скалы, за кубком вина (ст. 582-595)
В пору, когда артишоки цветут и, на дереве сидя.
Быстро, размеренно льет из-под крыльев трескучих цикада
Звонкую песню свою средь томящего летнего зноя, -
Козы бывают жирнее всего, а вино всего лучше,
Жены всего похотливей, всего слабосильней мужчины,
Сириус сушит колени и головы им беспощадно.
Зноем тела опаляя. Теперь для себя отыщи ты
Место в тени под скалой и вином запасися библинским.
Сдобного хлеба к нему, молока ст козы некормящей,
Мяса кусок от телушки, вскормленной лесною травою,
Иль первородных козлят. И винцо попивай беззаботно.
Сидя в прохладной тени и насытивши сердце едою,
Свежему ветру Зефиру навстречу лицо повернувши,
Глядя в прозрачный источник с бегущею вечно водою.
Это описание знойного лета было впоследствии переложено лирическим поэтом VII века до н. э. Алкеем в следующих стихах:
Сохнет, други, гортань! Дайте вина! Звездный ярится Пес,
Пекла летнего жар тяжек и лют; жаждет, горит земля.
Не цикада- певец. Той нипочем этот палящий зной!
Все звенит да звенит в чаще ветвей стрекотом жестких крыл,
Все гремит, - а в лугах злою звездой никнет сожженный цвет.
Вот пора! помирай! Бесятся псы, женщины бесятся.
Муж без сил: иссушил чресла и мозг пламенный Сириус.[4]
(Перев. Вяч, Иванова)
Другие мотивы поэзии Гесиода также воспроизводятся в позднейшей греческой литературе. Так, Добродетель, обитающая на неприступных вершинах, куда ведет нелегкая стезя, -мотив, повторяемый Симонидом Кеосским. Изображение доброй и злой жен, воспроизведенное Семонидом Аморгским в его "Зеркале женщин", позже в бесчисленных повторениях распространяется в европейских литературах языческого и христианского времени.
Ко второй часта поэмы примыкает отрывок, содержащий наставления по мореплаванию (ст. 618-694), в котором мы находим автобиографические указания поэта. Однако то, что сообщается им о посещении города Халкиды на острове Эвбее (ст. 651-662), считается критикою подлизанным, так как этому противоречит ст. 650, где говорится о том, что поэт никогда не плавал по морю.[5]
Третья часть (ст. 695--764) содержит ряд общих предписаний по поводу различных житейских обстоятельств, начиная с наставлений о женитьбе (ст. 695-705). Затем речь идет об отношении к товарищам (ст. 705-723), к чему отчасти примешиваются всякие суеверные приметы, как, например (ст. 750-752):
Мало хорошего, если двенадцатидневный ребенок
Будет лежать на могиле. - лишится он мужеской силы;
Или двенадцатимесячный: это нисколько не лучше.
Наконец, четвертая часть - календарь, указывающий, что в какой день надо делать, по существу же это свод различных суеверий. При этом различаются дни счастливые и несчастливые (ст. 825):
То, словно мачеха, день, а другой раз - как мать человеку.
Поэма в 828 стихов полного единства не представляет. В научной литературе на этот счет имеются самые разнообразные мнения. Особо следует выделить точку зрения А. Кирхгофа и Фикка, применявших к поэме Гесиода "теорию основного ядра" гомеровских поэм (см. выше, главу VI, стр. 120) и в своих изданиях выделявших различными шрифтами то, что принадлежит древней поэме от позднейших добавлений.
По свидетельству Павсания (IX, 31, 4), "беотийцы, живущие около Геликона, говорят, ссылаясь на предание, что Гесиод ничего другого не сочинил кроме "Трудов"; да и из них они исключают вступление - обращение к Музам, говоря, что поэма начинается с того места, где речь идет о "Распрях". Там, где находится источник, они показывали мне даже свинцовую доску, большая часть которой пострадала от времени; на ней написаны "Труды"". Он добавляет, что, по другим свидетельствам, Гесиод сочинил много поэм, а именно: "О женщинах, или "Великие Эои", "Феогонию", "На гадателя Мелампа", "О схождении в Аид Тезея с Пирифоем", "Наставления Хирона Ахиллесу" и все, что содержится в "Трудах и Днях".
[1] Этнограф Ф. Гребнер отмечает его у индейцев Центральной Америки (F. Gräbner, Der Weltbild der Primitiven, стр. 122).
[2] Сходные моменты находят и в индийской философии. Ср. R. Roth. Der Mythus von den fünf Menschengeschlechter bei Hesiod und die indische Lehre von der vier Weltalter. Тюбинген, 1860.
[3] Ср. E. Rohde, Psyche, т. I, 3–е изд., crp. 98.
[4] „Бесятся псы“—вольность переводчика.
[5] Ад. Кирхгоф (SB d. Preuss. Ak. d. Wiss, 1892, стр. 265 сл.) доказывал, что именно это место из „Трудов и Дней“ дало повод к написанию „Состязания Гомера с Гесиодом“, возникшего еще в эллинистическую эпоху (не позже III века до н. э.), но дошедшего до нас в той обработке, какую это сочинение получило в середин· II века н. э.
3. СТИЛЬ ГЕСИОДА И ЧЕРТЫ РЕАЛИЗМА В НЕМ
Поэтический реализм, как программа-декларация, вложен в уста обитательниц родины Гесиода, "Муз, геликонских богинь", в другом приписываемом ему сочинении - в "Феогонии". Об этих музах там говорится (ст. 22-23):
Песням прекрасным своим обучили они Гесиода
В те времена, как овец под священным он пас Геликоном.
Музы же говорят Гесиоду (ст. 27-28):
Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду.
Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем.
Если "Феогония" принадлежит другому автору (что почти несомненно), то античная традиция все же связывала идею правдивого повествования и реального изображения действительности с Гесиодом, как родоначальником дидактического эпоса. Стиль и поэтическая манера "Трудов и Дней" вполне соответствует этому. Эта поэма имеет глубочайшие народные корни, которые воспринимаются в ней непосредственно, а не проступают сквозь более позднюю идеологию выделяющейся из родового общества землевладельческой знати, как это имеет место в гомеровских поэмах. В самих "Трудах и Днях" Гесиод также говорит (ст. 10):
Я же, о Перс, говорить тебе чистую правду желаю.
Народные корни целиком определяют стиль Гесиода. От них идет реальность его образов и метафор, незатейливость его изречений, меткость выражений, наконец, местами и юмор. Пессимизм поэта, обусловленный тяжелым положением беотийского крестьянства, сочетается с пламенной верой во всепобеждающую силу труда. Последовательного пессимистического учения мы у него не находим, он верит в конечное торжество справедливости (ст. 273):
Верю, однако, что Зевс не всегда же терпеть это будет!
Для нового жанра Гесиод использовал эпический стих, уже доведенный до совершенства авторами героических поэм. Он использовал и искусственный эпический язык в основе которого лежало ионийское наречие, но в его языке встречаются и беотизмы. Некоторые ученые высказывали предположение, что поэма "Труды и Дни" была первоначально сочинена на местном диалекте (беотийском или локридском), а затем переработана на общепринятом эпическом языке. Эта гипотеза не имеет, однако, серьезных оснований.
4. "ФЕОГОНИЯ"
Дошедшая до нас под именем Гесиода поэма "Происхождение богов", или "Феогония" (Θεογονία), едва ли принадлежит тому же поэту-крестьянину, которому принадлежит поэма "Труды и Дня". Она представляет древнейший известный нам у греков опыт - свести воедино не только историю богов, но и историю происхождения мира. Это, таким образом, не только феогония, но и космогония. Она не только предшествует позднейшим попыткам греческой натурфилософии объяснить происхождение всего сущего из единого начала, но и сама является в значительной степени не оригинальным творчеством автора, отражающим его собственное миропонимание, но сводом взглядов, которые сложились в еще более раннюю эпоху. Вступление представляет собою совершенно ясное наслоение нескольких редакций воззваний к Музам. В одной из этих редакций (ст. 24-32) говорится о том, как Музы сообщили Гесиоду искусство песни.
Прежде всего обратились ко мне со словами такими
Дщери великого Зевса-царя, олимпийские Музы:
"Эй, пастухи полевые, - несчастные, брюхо сплошное!
Много умеем мы лжи рассказать за чистейшую правду.
Если, однако, хотим, то и правду рассказывать можем!"
Так мне сказали в рассказах искусные дочери Зевса.
Вырезав посох чудесный из пышно-зеленого лавра.
Мне его дали и дар мне божественных песен вдохнули,
Чтоб воспевал я в тех песнях, что было и что еще будет.
Таким образом, при всей указанной выше разнице "Трудов и Дней" и "Фесгонии", и здесь подчеркивается реалистический характер нового поэтического жанра - дидактического эпоса - в отличие от героического эпоса гомеровской традиции. Там аэд мог давать волю своей фантазии, вводя богов в качестве персонажей в самые различные ситуации своего повествования о человеческих деяниях. Здесь только собираются в систематическом виде те сведения о богах, которые для каждого грека должны были быть чем-то непреложным. Правда, общеобязательного богословия в древней Греции не существовало ни тогда, ни позже: мифология никогда не имела такого канона, отступление от которого считалось бы отступлением от религии. Поэтому мифологические родословные имели так много различных вариантов. Тем не менее, автор излагает свою "Феогонию" не как создание своей Музы, к которой обращается поэт в начале "Илиады" или "Одиссеи"; он не просит ее только "воспеть" те или иные подвиги или приключения. Чувствуется известный объективизм в словах:
Всё расскажите: как боги, как наша земля зародилась,
Как беспредельное море явилось шумное, реки,
Звезды, несущие свет, и широкое небо над нами;
Кто из бессмертных подателей благ от чего зародился,
Как поделили богатства и почести между собою.
Как овладели впервые обильноложбинным Олимпом.
С самого это начала вы всё расскажите мне, Музы,
И сообщите при этом, что прежде всего зародилось.
После этого идет изложение космогонической системы в связи с историей происхождения богов.
Началом всего поэт считает Хаос. Позже явилась земля - Гея (происхождение ее из Хаоса не указано) с Тартаром в своем лоне и Эрос (Любовь). Эрос, таким образом, является у Гесиода одним из самых старших богов, чем подчеркивается роль стихии, любви в истории мироздания. Это напоминает нам роль Любви и Ненависти в позднейшей философской системе Эмпедокла (см. ниже, глава X, стр. 176). Из Хаоса происходят Эреб и Ночь; а от их брака - Эфир и День.
Земля, далее, рождает Небо (Οὐρανός), Оры, Понт (т. е, море). От ее сочетания с Ураном происходит старшее поколение богов: титаны, в числе их Океан[1] и титаниды (женщины-титаны), три киклопа и три сторуких существа. Из титанов и титанид, которых было по шести, нужно особенно отметить, кроме Океана, следующих: Иапета (отца Прометея), Рею (мать Зевса), Фемиду (Правосудие, мать Ор и Мойр), Мнемосину (мать Муз).
Нет сомнения, что подобные чудовищные образы принадлежат наивному народному воображению на ранних ступенях его религиозной жизни. Стройный, подчиненный требованиям человеческого разумения мир богов Гомера устраняет все сказочное, сверхъестественное. Это показывает, что "Феогония" Гесиода отражает более древние религиозные воззрения, продолжавшие жить в континентальной Греции и в VIII-VII веках до н. э. Гомеровский же эпос отразил уже рационализм, зарождавшийся в передовых ионийских колониях.
В сухом перечислении имен первого поколения богов центральное место занимает эпизод оскопления Урана Кроносом, вступающим в заговор со своей матерью Геей. Их беседы напоминают речи действующих лиц у Гомера. Из пены, взбившейся вокруг брошенного в море полового органа Урана, является Афродита, из капель его крови, упавших на землю, - Эринии.
Ночь, "не вступая ни на чье ложе", порождает Смерть, Сон, Судьбу, Гнев, Обман, Любовь (половую - φιλότής) и многих других демонов такого характера. Во всем этом отделе следует отметить обилие и искусственное (путем удвоения сходных понятий) скопление целого ряда отвлеченных сущностей, играющих роль божеств.
От старшего сына Понта Нерея и дочери Океана Дориды рождаются Нереиды. Море в жизни греков, по самой природе страны, играло большую роль, и потому оно всегда занимало их воображение: то оно отливает чудными красками при блеске солнца, в спокойной зыби волн, то грозно поражает ужасом во время бури, таит страшных чудовищ в разверзающейся его пропасти (изменчивый морской старец Протей у Гомера в IV песни "Одиссеи"). Море вызывает разнообразные призраки легких, грациозных, красивых Нереид, еще и до сих пор живущих в фантазии греческого простолюдина. хотя новогреческое νεράιδα уже изменило свою природу (призрак, являющийся особенно в часы полуденного отдыха), или пугающих взор чудищ, какими населяет морское дно и наша сказка.
К фантастическим, сверхъестественным образам, известным нам и по изображениям в древнегреческой скульптуре и вазовой живописи, принадлежат и дальнейшие поколения "Феогонии", связанные с морской стихией. Ирида (радуга), Гарпии, седые от рождения Граи и Горгоны. От титаниды Тефии и Океана рождаются сыновья-реки (ποταμοί, по-гречески - мужского рода) и дочери Океаниды. Для грека длинный перечень имен всех этих морских дев имел смысл вследствие прозрачности значения названий по языковому составу. Вереница имен разнообразится также красивыми эпитетами.
Далее рассказывается о втором поколении от титанов. В нем мы встречаем Гелиоса (солнце), Селену (луну), Эос (зарю), звезды, ветры, снова целый ряд отвлеченных понятий, мать Аполлона и Артемиды Лето (Латону) и Гекату, особенно почитаемую, как здесь говорится, и богами и смертными. Большой интерес представляет включенный в "Феогонию" гимн к Гекате (ст. 411-452).
Наконец поэт доходит до поколения олимпийских богов. Это - дети Кроноса и титаниды Реи: Гестия, Деметра, Гера, Аид, Посейдон и Зевс. С ними мир вступает в новую эпоху. Она начинается со свержения Зевсом старого владыки богов - Кроноса, глотавшего своих детей от Реи. Этот рассказ является параллельным истории свержения Урана Кроносом.
От Иапета и океаниды Климены родились: Атлант, Менетий, Прометей и Эпиметей. С этим поколением связана в "Феогонии" знаменитая история Прометея в его столкновении с Зевсом. Впервые в "Феогонии" Прометей является покровителем людей и страдальцем за них, т. е. в той роли, которую дает ему впоследствии трагический поэт Эсхил в "Скованном Прометее". Сохранившаяся трагедия восполнялась двумя другими в трилогии "Прометеиде" - "Прометеем освобожденным" и "Прометеем, носителем огня" (πυρφόρος). Как похититель огня с неба для смертных, он чтился и в Афинах обрядом бега с факелами (лампадодромия). Впоследствии величественный образ титана Прометея, борющегося с Зевсом из-за блага человечества, вдохновляет и поэтов новой Европы (Гёте, Шелли).
Особый интерес представляет в "Феогонии" эпизод "Титаномахии"- попытки титанов свергнуть царство Зевса (ст. 617-726). Помощниками Олимпийца в этой грандиозной борьбе, описываемой поэтом с большою внушительностью, является младшее поколение богов. (ст. 674-685):
Вышли навстречу Титанам они для жестокого боя,
В каждой из рук многомощных держа по скале крутобокой.
Также Титаны с своей стороны укрепили фаланги
С бодрой душою. И подвиги силы и рук проявили
Оба врага. Заревело ужасно безбрежное море,
Глухо земля застонала, широкое ахнуло небо
И содрогнулось; великий Олимп задрожал до подножья
От ужасающей схватки. Тяжелое почвы дрожанье,
Ног топотанье глухое и свист от могучих метаний
Недр глубочайших достигли окутанной тьмой преисподней.
Так они друг против друга метали стенящие стрелы.
Тех и других голоса доносились до звездного неба.
Титаны громоздят горы одна на другую. Помощниками Зевса являются также сторукие Котт, Бриарей и Гиэс. Титаны терпят поражение и низвергаются в недра земли. Подробное описание в этом месте поэмы Тартара противоречит тому, что мы находим в поэме раньше, и, по видимому, оно чуждо первоначальному тексту "Феогонии". Под конец "Феогония" переходит в "Героогонию", генеалогию героев, рожденных от связей богов со смертными женщинами.
Поэмы "Труды и Дни", принадлежащая Гесиоду, и "Феогония", ему приписываемая и переходящая в "Героогонию", определяют два новых направления в греческой литературе: собственно дидактическое ("Труды и Дни") и генеалогическое. Произведения генеалогического направления, от которых до нас дошли лишь ничтожные отрывки, (см. следующий параграф), знаменуют собою новые задачи литературы - попытку закрепить в памяти предания о происхождении и истории знатных родов в разных областях Греции. Это первые наивные летописи., предшествующие появлению хроник (Ὥροί) по отдельным греческим, городам.
[1] Еще у Гомера Океан есть θεῶν γένεσις. е. тот, кто дает рождение богам
5. ЩИТ ГЕРАКЛА И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ" ПРИПИСЫВАЕМЫЕ ГЕСИОДУ
Под именем Гесиода известно также произведение в 480 стихов, носящее название "Щит Геракла" (Ἀσπίς Ἡρακλέους). Оно состоит из двух мало связанных друг с другом частей: рассказа о рождении Геракла (ст. 1-56) и описания ряда сцен, изображенных на щите Геракла. Здесь мы видим Геракла в борьбе со змеями, Лапифов в борьбе с кентаврами, Аполлона среди муз, Персея, преследующего Горгону. Это описание щита Геракла есть бесспорное подражание "Щиту Ахиллеса" в песни XVIII "Илиады". Сопоставление же первой части "Щита Геракла" с дошедшими до нас отрывками так называемых "Эой" (Ἠοῖαι от греч. ἤ οἴη - "или такая, какова"), посвященных знаменитым женщинам, матерям героев, - позволяет сделать предположение, что это произведение связано с не дошедшим до нас "Каталогом женщин" (Κατάλογος των γυναικῶν), с которым должна быть связана и заключительная часть "Феогонии" (со ст. 965). Свида указывает, что это произведение состояло из пяти книг. Формула "или такая, какова" говорит о том, что едва ли следует допускать какую-либо строгую систему в расположении отдельных "Эой". О женщинах, бывших в связи с богами, говорится также в песни XI "Одиссеи" (ст. 235-327). Вопрос о толковании такой формы генеалогии, как пережитков матриархата, является очень сложным и спорным и не может быть решен вследствие незначительности данных текста, не позволяющей судить об идее всего произведения. Из "Каталога женщин" нам известно несколько десятков фрагментов по нескольку стихов. В последнее время к ним присоединяются небольшие и плохо сохранившиеся отрывки на папирусах. Однако и этих фрагментов достаточно, чтобы отнести "Каталог женщин" к той поэтической школе, которая связана с именем Гесиода, но вместе с тем отметить сильное влияние Ионии, аристократическим родам коей уделена здесь большая роль.
Принадлежность "Щита Геракла" Гесиоду оспаривалась еще александрийскими грамматиками. В настоящее время никто не смотрит на него как на цельное произведение, и потому вопрос о происхождении каждой из его двух частей должен рассматриваться отдельно. Некоторые исследователи выделяют и во второй части два первоначально существовавших отдельно произведения: отрывок из "деяний" Геракла и описание изображений на его щите, не связанных с его собственными подвигами. В языке средней части всей поэмы находят сходные черты с "Трудами и Днями"; их истолковывают как влияние последних. На ряду с этим отмечают и следы влияния больших гомеровских гимнов. Все это заставляет относить "Щит Геракла" к эпохе более поздней - вероятнее всего, к VI веку до н. э., но не позже; так, изображение борьбы Геракла с Кикном на троне Бафикла, описанное у Павсания (III, 18, 10) и датируемое началом V века до н. э., безусловно вдохновлено нашей поэмой. Отнесение же "Щита Геракла" к творчеству Гесиода объясняют теперь беотийским происхождением всех частей этого произведения: Геракл был фиванским героем, и его имя было связано с прошлым этого города, когда он успешно боролся с Орхоменом за гегемонию Фив в Беотии.
Гесиоду приписывалось еще сочинение "Великие труды" (Μεγάλα ἔργα), от которого нам известно только два ничтожных фрагмента, связанные с темой похода Аргонавтов. С его именем связывалось и много других, несомненно более поздних произведений дидактического и генеалогического направления (о них см. ниже, главу XI).
Глава XI ЭПИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ ПОСЛЕ ГЕСИОДА
1. ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЕ ПОЭМЫ
После Гесиода греческий эпос клонится к упадку; в VII и VI веках вновь расцветший жанр элегической и лирической поэзии оттеснил его на задний план; но и в это время не было недостатка в опытах в эпическом размере. Из них старшими по возрасту являются поэмы в форме генеалогий, служившие продолжением древних саг.
Эпического поэта Эвмела, сына Амфилита, из рода коринфских Вакхидов, позднейшие писатели помещают во времена Архия, основателя Сиракуз (около 740 г. до н. э.). Его главным произведением были Κυρινθιακά, где излагалась древнейшая завещанная сагой история Коринфа. Эта поэма была переделана в прозу, и такой пересказ ее упоминается Павсанием (II, 1, 1). Им же упоминается просодий (лирическое стихотворение) об Аполлоне Делосском, которое Эвмел сочинил для мессенцев (IV, 4 и 33). Но его предположение (V, 19, 10), что Эвмелу же принадлежат и стихи о ящике Кипсела, не соединимо с прочими показаниями о времени нашего поэта.
Кинефон из Лакедемона (которого не надо смешивать с хиосским рапсодом Кинефоном) также был поэтом генеалогического жанра, к которому принадлежат все приписываемые ему сочинения о Медее, Елене, Оресте. Кроме того, Кинефон предположительно считался древними и автором "Эдиподии", "Малой Илиады" и древнейшей "Гераклеи". Время его жизни не установлено. Евсевий относит его к 50-й олимпиаде (580-577 гг.), что, без сомнения, слишком рано; другие источники считают, что он жил позже Эвмела.
А с и й, сын Амфиптолема с острова Самоса, тоже сочинял генеалогии, которые использовал еще Павсаний. Афинею (р. 525) мы обязаны сохранением нескольких стихов о роскоши самосцев с описанием, как они идут к храму Геры в одеждах, ниспадающих до земли, с золотыми цикадами в волосах. Но эти стихи едва ли принадлежат генеалогическому эпосу Асия. Скорее они входили в состав особой поэмы сатирического характера. Афиней приводит также насмешливую элегию на свадьбу поднимающегося из речного ила бога Мелеса.
Херсий из Орхомена жил около 40-й олимпиады, во времена Периандра, как это указывается в "Пире семи мудрецов" Плутарха. В биографии Гесиода Херсию приписывается эпиграмма на могильном памятнике Гесиоду в Орхомене.[1]
Автором "Навпактских песен" (Ναυπάκτια ἔπη), генеалогического труда о знаменитых женщинах по образцу "Эой", был, по Павсанию (X, 38, 11), либо милетец Керкопс, либо Каркин из Навпакта. В поэме, где главным действующим лицом была Медея, трактовалась сага об Аргонавтах. Поэтому она в схолиях не раз приписывалась Аполлонию Родосскому.
Специальным циклам отведены были следующие поэмы: 1) "Атфида" (Ἀτθίς) Гегесиппа, из которой четыре стиха приводит Павсаний (IX, 29, 1 ), не имевший уже этой книги в руках; 2) "Форонида" неизвестного автора, использованная в качестве источника логографами Геллаником и Акусилаем; 3) "Алкмеонида", автор которой жил не раньше VI века, так как он называет братом Пенелолы Левкадия, а Страбон (452), ссылаясь на "Алкмеониду", считает Левкадия эпонимом коринфской колонии Левкады, основанной при Кипселе или Периандре; 4) "Феспротида", упоминаемая Павсанием (VIII, 12) и, конечно, тождественная с Мусеевой поэмой "О феспротах" (Περί τῶν Θεσπροτῶν); 5) "Гераклеи" (Ἡρακλεῖαι) - несколько поэм, авторами которых назывались разные лица и среди них, как автор наиболее популярной поэмы, Писандр Родосский; 6) "Тезеида" (Θησείς) Дифила, неизвестного времени; 7) "Аримаспия" (Ἀριμάσπεια) Аристея Проконнесского, в трех книгах. Все эти произведения обогатили мир греческой мифологии новыми фабулами.
Об авторе и содержании "Аримаспии" сообщает некоторые данные Геродот (IV, 13-16). Согласно данным Геродота, Аристей происходил из знатной фамилии Проконнеса (колонии милетцев на Пропонтиде). Автор прославился как φοιβόλαμπτος т. е. творец чудес, вдохновляемый Аполлоном.[2] Со своей родины он совершал далекие путешествия на север, до исседонов, и рассказывал в поэме фантастические вещи о народах тех отдаленных стран: об одноглазых аримаспах, о стерегущих золото грифах, о гипербореях, киммерийцах, скифах и др. Время его расцвета Свида относит к 50-й или к 58-й (548-545 гг.) олимпиаде, т. е. к правлению Кира и Креза. Геродот (IV, 15) считает, что он жил за 240 лет до его времени.
[1] Павсаний IX, 38, 10.
[2] См. Touruier, De Ariatea Proconnesio et Arimaspeo poemate. Париж, 1863.
2. ГИЕРАТИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
Эпический гексаметр и гомеровский диалект были легко усвоены оракулами и жрецами, потому что, по видимому, гиератическая поэзия еще до Гомера пользовалась гексаметром. Оракулы же и тайный культ искуплений появились лишь после начала олимпиад (778 г.). В поздней части "Илиады", в "Посольстве" (Ил. IX, 404), только упоминается о сокровищах, которые замыкает в себе медный порог бога, посылающего стрелы, и лишь в поздней части "Одиссеи", именно в расширении "Ностоса" Одиссея (Од. VIII, 79 сл.), мы находим упоминание об оракуле, данном Аполлоном ахейцам в Пифоне (Дельфах). Гесиод говорит в своих подлинных произведениях об этих священных местах, но лишь позднейшие подделыватели приписывали ему "прорицательную поэзию" (ἔπη μαντικά). В последующее время под влиянием жречества Дельф и разбившегося в VI веке тайного культа орфиков появилась значительная литература мистических поэм, написанных в эпическом размере.
Сюда принадлежат, прежде всего, изречения оракулов (χρησμοί), которые с VI века становились более многочисленными и более искусственными; до нас они сохранились только в случайных ссылках на них у историков и грамматиков.
О гиперборейце Абарисе, который, по Геродоту (IV, 36), расхаживал со стрелой, подаренной ему Аполлоном, Свида упоминает как об авторе скифских изречений оракулов, поэмы о путешествии Аполлона к гиперборейцам, поэмы об очищениях и "Феогонии" в прозе. Свида помещает его в 53-ю олимпиаду (568-565 гг.).
Критянину Эпимениду, который, по Диогену и Свиде, очистил в 46-ю олимпиаду (596-593 гг.)[1] Афины от преступления Клеона, приписывалась генеалогическая поэма, связанная с "Феогонией", история сказочных тельхинов, сочинения о жертвах и очищениях и другие произведения в стихах и в прозе.
Ономакрит, изгнанный Гиппархом, потому что был уличен Ласом Гермионским в подделке оракулов, но позднее снова появившийся у персидского царя как друг Писистратидов, не только содействовал тиранну, обладавшему вкусом в искусстве, в его поощрении литературных занятий, но и сам сочинял эпические поэмы. Судя по цитатам у Павсания (VIII, 31 и 37; IX, 35), они также примыкали к "Феогонии". Но больше всего он использовал свое искусство в стихосложении для подделки поэм, имевших хождение под именем Мусея и Орфея. Прежние исследователи заходили, однако, слишком далеко, приписывая Ономакриту все дошедшие до нас орфические гимны.
Рядом с Ономакритом упоминается в подобной же роли еще Зопир из Гераклеи, Никий из Элей и пифагорейцы Бронтин и Керкопс. Всех их считали составителями таких мистических поэм.
[1] По Платону (Законы I, 692 сл.), он жил за десять лет до греко–персидских войн.
3. ПОЗДНИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
Эпос, в собственном смысле, т. е. героическая поэма, и в послегесиодовское время представлен некоторыми значительными, даже удостоенными приема в канон поэтами.
Паниасид из Галикарнаса, дядя или двоюродный брат историка Геродота, который, по свидетельству Климента Александрийского (Stromata VII, 266), нашел в 460 г. смерть в боях за освобождение своего родного города от тиранна Лигдамиса, пробудил эпическую поэзию к новой жизни. Своей славой он обязан "Гераклее" в четырнадцати книгах (9000 стихов), в которою он вплел и "Взятие Эхалии". В сохранившихся небольших отрывках говорится о борьбе Геракла с немейским львом, с гидрой, о спуске его в подземное царство для освобождения Тезея и Пирифоя, о плавании по Океану в Эрифею, об умерщвлении своих детей, о пребывании у Смфалы. "Взятие Эхалии" изложено, по видимому, по Креофилу Самосскому. Кроме того, в элегическом размере он сочинил поэму об ионийцах (Ἰωνικά, 6000 стихов), в которой рассказывал историю основания ионических колоний. Отрывки ее, дошедшие до нас, дышат поэзией и веселым настроением. Александрийские грамматики включили Паниасида в канон поэтов, а их современники (Каллимах, Феокрит, Эвфорион) широко черпали сюжеты своих эпиллиев из его "Гераклеи".
Херил Самосский, младший современник и почитатель Геродота, с которым мы в конце Пелопоннесской войны встречаемся как со спутником полководца Лисандра, а затем видим его рядом с трагиком Агафоном и комиком Платоном, - взялся за современную историю в своей поэме "Персеида" (Περσηίς. или Περσικά). Подобно Эсхилу, он прекрасно обосновывает в сохранившемся "Вступлении" (προοίμιον) свой план тем, что после того как все поделено, не остается ничего другого, как искать нового пути. Сюжетом "Персеиды" была победа афинян над персидским царем Ксерксом; она исполнялась по постановлению афинского народного собрания публично, вероятно на Панафинеях, наряду с Гомером. Вторая поэма - "Самосские песни" (Σαμιακά) рано забылась.
Антимах из Колофона, автор "Фиваиды", жил после Пелопоннесской войны. Он славился своей элегической поэмой "Лида" (Λύδη, где он старается утешиться в смерти своей возлюбленной Лиды, рассказывая о несчастных любовных происшествиях мифических времен. Антимах стоит уже на пороге эллинистического периода хотя и жил почти за три четверти века до походов Александра. Поэтому о нем целесообразнее говорить дальше в связи с изложением развития эллинистического эпоса (см. т. II).
4. ФИЛОСОФСКИЙ ЭПОС
Отпрыском дидактического эпоса является эпос философский. "Феогония" Гесиода считалась еще и в VI веке преддверием философской спекуляции. Это было естественно в то время, когда не было никакой прозы и философия искала идеала не в сухом изложении, но пользовалась поэтической формой и эпическим гексаметром.
Такой поэтический жанр Диоген Лаэртский называет "философствованием поэтическими средствами" (φιλοσοφεῖν διὰ ποιημάτων). Если вначале элементы философии были в нем тесно связаны с религиозным поучением, то впоследствии (уже в середине VI века до н. э.) они становятся самоцелью, и именно в формах философского эпоса развивается деятельность одной из важнейших греческих философских школ - элеатов, или элейской школы. Позже в V веке, в той же форме излагает свое учение Эмпедокл. Поэты-философы элейской школы резко порвали с традицией дидактического эпоса, отказавшись от мифологических представлений как базы для космогонических учений, но они продолжали формально-стилистическую традицию этого эпоса. Основой же их учения о космосе было понятие "природы" (φύσις). Однако, в противоположность ионийским физикам, они трактовали натурфилософские вопросы чисто идеалистически.
Первым элеатом был Ксенофан из Колофона, родившийся около 565 г.[1] и после 540 г. покинувший родную Ионию, на которую надвигались персы (ср. фр. 22, Дильс), и переселившийся в качестве рапсода в фокейскую колонию Элею (в Лукании). Возможно, что эмиграция Ксенофана была связана с его оппозицией демократическому строю Колофона и что он был связан с Пифагорейским союзом.[2] Надо полагать, что на родине он не только обучался искусству рапсода, но и познакомился с ионийской философией (ср. фр. 19 и 20d). Восприняв эпическую традицию, Ксенофан относился к Гомеру критически (фр. 22d), и некоторые ученые находят в его стиле влияние его земляка, элегического поэта Мимнерма. Ксенофан резко ополчался также против гомеровского антропоморфизма, что отметил В. И, Ленин в своих "Философских тетрадях" ("Боги по образу человека").[3]
О Ксенофане как элегике будет говориться в дальнейшем (в главе XII, §8). Для развития эпоса важна его поэма "О природе" (Περί φύσεως), от которой до нас дошло 19 фрагментов. В ней он излагает свое учение об элементах мироздания, о воде и земле как источниках органической жизни, т. е. оказывается весьма близким к философии ионийских физиков (фр. 27, 29, 30, 33), Но вместе с тем другие фрагменты показывают, что Ксенофан отрицал роль чувств как источников познания и выдвигал учение о бытии, независимом от чувственного мира, которому противостоит "небытие".
Продолжателем Ксенофана были Парменид из богатого аристократического рода в Элее (род. около 540 г. до н, э.). От его поэмы "О природе" до нас дошло тоже 19 фрагментов (всего 162 стиха). В лице Парменида, который углубил идеалистические моменты философии Ксенофана, мы имеем бесспорно не только философа, использующего стихотворную форму, но и крупнейшего поэта. В его творчестве видят влияние гомеровской Νεκυία (Песнь XI "Одиссеи") и Гесиода. Поэта, странствующего по всему миру в поисках знания, дочери солнца, Гелиады, приводят к воротам, от которых идут пути дня и ночи. По просьбе Гелиад Дика, богиня справедливости, открывает ему эти ворота и благосклонно напутствует его, сообщая, что отклонение от низменных путей большинства людей на которое он решился, приведет его к истине и откроет ему, в чем заблуждаются люди. Как можно усмотреть из фрагментов, истина, открываемая Пармениду Дикою, это - понимание бытия как абстрактной метафизической материи, тождественной с мышлением, в противоположность которому мир чувственных восприятий является неустойчивым и не обладающим настоящей реальностью. Учение Ксенофана о бытии и небытии здесь развито и углублено, а кроме того, излагается в поэтических образах, в смелых метафорах, для которых поэт создает неологизмы (ὑδατορίζος - о земле, νυκτιφαής - о луне). Эта поэтичность изложения делает иногда мысли Парменида довольно неясными: он чужд точной философской терминологии.
Еще крупнее, как поэт, Эмпедокл из Акраганта (приблизительно 495-415 гг.). В своем учении он соединял элейскую философию с пифагорейством. Как философа его надо сближать с Анаксагором (см. ниже, т. II, раздел 4-й). По своим политическим взглядам он был демократом и занимал в Акраганте видные общественные должности. По свидетельству Плутарха, он вел борьбу против аристократии. С этим надо связывать то обстоятельство, что творчество Эмпедокла, возникнув в русле идеалистической традиции, привело его к материализму в его механистической форме. Эмпедокл сыграл огромную роль в развитии античного естествознания и оказал сильное влияние на Эпикура и Лукреция. Эмпедокл учил о том, что стихии, из которых состоит космос, соединяются и разъединяются под влиянием "любви" (φιλὀτης) и вражды (νεῖκος). Это учение он изложил в поэме "О природе" (около 2000 стихов), стилистически подражая древнему эпосу "Наставления Хирона". В другой поэме - "Очищения" (Καθαρμοί) поэт обращается к согражданам с нравоучительными наставлениями в духе орфическо-пифагорейской этики.
[1] Другие Принимают дату около 580 г. (см. Дынник, Очерк истории философии классической Греции, М,, 1936, стр. 78).
[2] Ср. фр. 7d и Диог. Лаэртский IX, 20, и ниже, главу XII, §8.
[3] В. И. Ленин, Философские тетради. Госполитиздат, 1934, стр. 263.
5. ПАРОДИИ НА ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС
Сатирические произведения также приписывались Гомеру. Древнейшей сатирической поэмой является "Маргит" (название дано по герою пьесы, нескладному болвану, который "много знал, но все плохо"). По сохранившемуся вступлению можно судить о том, что действие разыгрывалось в Колофоне, что дало повод самого Гомера считать колофонцем. Гомеру приписывал эту поэму еще Архилох (по схолиям Евстратия к "Никомаховой этике" Аристотеля, VI, 7). Этого предания держались без колебания Платон и Аристотель. Последний ставит "Маргит" рядом с "Илиадой" и "Одиссеей", возводя к ней комедию, так же как он возводил трагедию к героическим поэмам. К комедии подходили, во всяком случае, многие места "Маргита". Позднее у древних появились сомнения, причем "Маргита", как и "Одиссею", считали созданием Гомера в зрелом возрасте (Дион. Хрисостом, 53, р. 275 г). Только источник Свиды делает автором карийца Пигрета из Галикарнасса, брата Артемисии. Это, вероятно, надо понимать так, что Пигрет вставлял только ямбические эподы, так как есть сведения и о том, что он потешался, вставляя в Гомера пентаметры. Вступление к "Маргиту" звучало так:
Из Колофона пришел вдохновенный певец престарелый.
Музы слугою он был и далекоразящего Феба;
В руках же нес он лиры сладкозвучный дар.
Другой поэмой, прославившейся благодаря метопам селинунтского храма, была "Керкопия", где изображались мальчишеские выходки двух братьев Керкопов и рассказывалось их порабощение Гераклом. Она примыкала к приписываемому Креофилу Самосскому "Взятию Эхалии".
Сохранилась шуточная поэма "Батрахомиомахия" ("Война мышей и лягушек"). Это пародия, примыкавшая к животной басне, с веселой шуткой, без едкой сатиры. Царь лягушек Фисигосат, сын Пелея, предлагает мыши Психарлаксу провезти ее на своей спине к своему дому. Сначала переезд происходит совершенно благополучно, но вдруг появляется водяная змея; обе очень пугаются; лягушка ныряет, мышь захлебывается. Начинается жестокая война между мышами и лягушками, которой полагает конец Зевс. Зевс сперва разгоняет сражающихся ударами молнии, но, когда это не помогает, посылает на мышей войско раков. Забавно образованы имена мышей: Лизун, Глодатель хлеба, Поедающий сыр, Проскальзывающий в нору. В остроумной пародии описывается вооружение героев и батальные сцены по образцу "Илиады".
Поэтому понятно, что поэма находила много читателей. С Гомером эту пародию связывать нельзя. Возможно, что она является произведением упомянутого Пигрета из Галикарнасса.
ЛИРИКА
Глава XII ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИРИКА (введение)
1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ В ГРЕЦИИ. ПЕРЕХОД ОТ НАРОДНОЙ ПЕСНИ К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Аристотель говорит в первой главе своей "Поэтики": "Мы не могли бы дать никакого общего названия произведениям в форме триметров, или элегий, или каких-нибудь других подобного рода метров. Только соединял с названием метра слово "творить", называют одних - творцами элегий, других - творцами эпоса, давая авторам названия не по сущности их творчества, а по общности их метра".
Александрийские ученые ввели термин "лирический" и стали называть лирическими поэтами (οἱ λυρικοί) тех поэтов, которые составляли стихотворения элегическим, ямбическим, трохеическим и другими размерами, в отличие от поэтов эпических, пользовавшихся гексаметром.
В таком значении термин "греческая лирическая поэзия" остался и до настоящего времени. Это термин условный. Он не обозначает того, что все произведения, относящиеся к этому жанру, исполнялись под звуки лиры. Элегия и ямб не всегда сопровождались музыкальным аккомпанементом; ямбические стихи исполнялись иногда под звуки флейты. Мелос соединялся с аккомпанементом различных инструментов.
Основываясь только на форме произведения, в греческой литературе к лирике относят все, что имеет метрическую форму, кроме шестистопного гексаметра - метра, исключительно присвоенного греческому эпосу. В зависимости от метра греческая лирика делится на элегию, ямб и мелос.
Основы греческой лирики лежат так же далеко в глуби веков, как и основы греческого эпоса. Ее истоки - народное творчество, народная песня. Песня была тесно связана с жизнью греческого народа. Можно сказать, что лирическая поэзия стояла ближе к жизни, к быту греков, чем эпос, даже в эпоху его процветания. Предметом эпоса были подвиги героев; в эпосе воспевались выдающиеся люди. Для лирики не требовалось особых подвигов. Песни прежде всего были связаны с обыденным трудом вследствие естественной связи работы с ритмикой движений. Уже в гомеровских поэмах упоминается о рабочей песне. За работой поют Кирка (Цирцея) и нимфа Калипсо; упоминаются и другие виды песен: ахейцы прославляют пэаном Аполлона (Ил. I, 472 сл.); на щите Ахиллеса было изображено исполнение гимна в честь Лина, соединенное с пляской и музыкой (Ил. XVIII, 490 сл.). Пели песни и греческие рабы, и земледельцы, и ремесленники; пели нищие, прося подаяния; песни пели и у колыбели ребенка и у гроба близких людей. Древнейшими образцами надгробных песен служат причитания над телом Гектора в "Илиаде" Гомера. На пирах у греков гости по очереди пели песни. Это-застольные песни, сколии (σκόλια). Некоторые песни сопровождались танцами (гипорхемы). Времена года, в особенности радостное наступление весны, встречались соответствующими песнями. Кроме песен, имевших личный характер, были песни, исполнявшиеся целыми хорами, - это песни, прославлявшие богов на праздниках, гимны и песни процессий (προσόδια). С песнями ходили греки и на бой с врагом.
2. БЫТОВЫЕ ОСНОВЫ ГРЕЧЕСКОЙ ЛИРИКИ. СВЯЗЬ ЕЕ С МУЗЫКОЙ
Мы видим, как тесно связана была песня с жизнью греческого народа, как разнообразны были ее мотивы. Лирика создавалась в глубинах народной жизни. Здесь вырабатывались ее богатое содержание и ее метры. Но долгое время лирическая поэзия была отодвинута на задний план другим видом поэтического творчества - эпосом. Это зависело от политических и социально-экономических условий жизни древней Эллады.
В VII-VI веках до н. э. в жизни Греции происходит глубокий переворот. Прежняя царская власть, делившая свои права с народом и советом старейшин, начала уступать в большинстве греческих государств-городов самовластной тираннии. В Сикионе захватывает власть тиранн Орфагор (670 г. до н. э.), в Коринфе - Кипсел (655 г.), в Мегарах - Феаген (625 г.) и др. Захват власти тираннами продолжался и в VI веке до н. э. В 560 г. в Афинах захватывает власть Писистрат. Понятно, что эпос, прославлявший подвиги древних царей и героев, не мог встречать особого внимания при дворах тираннов. Им нужны были не аэды, а певцы, которые воспевали бы их собственное величие и богатство. Кроме того, в VII-VI веках до н. э. в Греции произошли большие изменения в экономической и социальной жизни: изменяются классовые отношения, растет торговля, усиливаются международные сношения, основывается целый ряд колоний, особенно в Южной Италии и Сицилии. Все эти события должны были больше привлекать к себе внимание, чем далекое прошлое, воспеваемое в эпосе. Жизнь властно требовала иной формы поэтического творчества, более отзывчивой к текущим событиям и к внутреннему миру человека. Такой формой является лирика. В ней мы находим произведения и политического характера, и гимны в честь богов и героев, и отзвук на различные явления индивидуальной жизни.
Развитию лирической поэзии очень содействовали состязания поэтов и музыкантов, учрежденные в Греции в VI-V веках до н. э. В третьем году 47-й олимпиады (590 г.) были установлены в Дельфах Пифийские состязания. Основой для них послужил древний праздник в честь Аполлона. Происхождение этого праздника до такой степени терялось в древних преданиях, что греки приписывали учреждение его самому Аполлону. Первым победителем на этих состязаниях считался, по свидетельству Павсания (X, 7,· 2), мифический поэт, критянин Хрисофемид, исполнявший гимн в честь Аполлона. После войны Дельфийской амфиктионии с соседним городом Киррой - так называемой первой священной войны - победители постановили каждые восемь лет совершать на территории, принадлежавшей Кирре, торжественный праздник в честь Аполлона, присоединив к древним состязаниям кифаредов (певцов, исполнявших гимны под звуки кифары) состязания авлодов (певцов под звуки флейт[1]). Но восьмилетний период оказался слишком длинным, и уже на втором Пифийском празднике (третий год 49-й олимпиады- 582 г. до н. э.) было постановлено совершать пифиаду каждые четыре года. На Пифийских состязаниях первое место было предоставлено не гимнастическим и конным состязаниям, как в Олимпии, а выступлениям поэтов и музыкантов. Непременным условием праздника было исполнение "пифийского нома" - песни в честь Аполлона, составленной по определенной схеме и исполнявшейся под звуки флейт.
Состязания поэтов и музыкантов происходили также на Истмийском празднике, который имел место во втором и четвертом году каждой олимпиады. Первоначально этот праздник был в честь Меликерта (финикийского божества), но культ его был вытеснен местным культом Посейдона. Отмененный во время тираннии Кипселидов, этот праздник был восстановлен в 582 г. до н. э. На Истмийских играх, кроме гимнастических и конных состязаний, происходили также состязания поэтов и музыкантов.
Третьим праздником, на котором выступали поэты и музыканты, была Немейские игры. Время учреждения Немейского праздника также теряется в глубине мифических преданий. Основание его приписывается аргосцам, совершившим поход против Фив. Этот праздник был установлен в память погибшего от укуса змеи Архемора, сына немейского царя Ликурга, В 573 г. до н. э. дорийцы постановили чествовать здесь не Архемора, а Зевса. На празднике сначала происходили гимнастические и конные состязания, затем выступали поэты и музыканты.
На Олимпийских играх главную роль играли состязания атлетов и состязания на колесницах, а не поэтические и музыкальные выступления. Но все-таки и Олимпия имела значительное влияние на развитие поэзии: здесь в торжественных песнях прославляли победителей, причем восхвалялись не только атлеты, одержавшие победу, но и кони-победители. Слава, окружавшая победителей на играх, несомненно, имела большое влияние на развитие лирической поэзии. Имена победителей вырезывались на мраморных плитах и сохранялись, таким образом, на многие века. Некоторые надписи сохранились до наших дней.
На всех других праздниках тоже исполнялись гимны в честь богов и героев, песни во время торжественных процессий. В Афинах на празднике Панафиней и Фаргелий происходили состязания фил в исполнении дифирамбов. Одержавшая победу фила получала в награду треножник. Победители не брали себе этих треножников, а посвящала их Аполлону и ставили на красивых постаментах. У подошвы Акрополя была целая улица, уставленная такими треножниками. Один из постаментов, поставленный афинским гражданином Лисикратом в 334 г. до н. э., сохранился до настоящего времени.
В более позднее время в Аттике молодых людей (эфебов) обязывали составлять стихи и гимны в честь богов. Эфебы выступали со своими произведениями публично на праздниках. За лучшие произведения назначались награды.
[1] Точнее, гобоев (αὐλοί). См. сборник „Музыкальная культура древнего мира“, Л. 1937, стр. 153 сл.
3. СОХРАНЕНИЕ ТЕКСТОВ ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИХ ЛИРИКОВ. ВИДЫ ЛИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Если принять во внимание, как разнообразны были те стороны жизни, которые отражались в лирической поэзии, то можно полагать, что в древней Греции число лирических произведений значительно превосходило количество произведений эпических. Но до нас дошли лишь немногочисленные отрывки, ни от одного лирика не сохранилось целиком всех его произведений. Больше всего осталось от Пиндара, Бакхилида и Сапфо, но и то лишь незначительная часть созданного ими. Многие поэты известны только по именам.
Главная причина этого явления - тесная связь греческой лирики с жизнью. Жизнь и давала лирике ее силу. С течением веков отмирали те или иные жизненные явления: утрачивался и интерес к произведениям, которые были с ними связаны. Так постепенно отмирала потребность в гимнах в честь богов, в эпиникиях, в сколиях и т. п.
Большую роль в утрате многих лирических произведений сыграл так называемый "канон александрийских ученых". Они выделили из множества греческих лирических поэтов только девять, которых признали наиболее выдающимися: Пиндара, Симонида, Бакхилида, Алкея, Сапфо, Алкмана, Стесихора, Ивика и Анакреонта. Это, конечно, не могло не влиять на популярность названных поэтов. Их тексты переписывались чаще, чем стихотворения других поэтов, и чаще читались. Кроме того, еще до александрийцев составлялись извлечения из различных поэтов для школьного употребления. Сокращенные сборники постепенно вытесняли полные списка. Так было, например, с произведениями Феогнида. Сильно пострадали произведения древних греческих лириков в первые века христианства, когда александрийский канон потерял свое значение и когда шла борьба с язычеством, проникшая также в область литературы.
В последнее время количество произведений греческих лириков постепенно увеличивается случайными находками их текстов на папирусах. Всё же эти находки не дают еще полных текстов, и греческая лирика продолжает оставаться наиболее фрагментарной областью греческого поэтического творчества.
Некоторые виды лирической поэзии были особенно тесно связаны с музыкой и танцами. Сюда относится мелос. Греческая музыка в своем развитии подвергалась чужеземным влияниям. Древнейшие певцы Олен и Орфей были, по преданию, чужестранцами. Олена считали фригийцем, Орфея - фракийцем. Вместе с фригийской флейтой (αὐλός) и фракийской лирой вошли в греческую лирику фригийские и фракийские мотивы. В последнее время Г. Абер обратил внимание на то, что в древнегреческой музыке были также элементы и египетские.
Деление греческой лирической поэзии на элегию, ямб и мелос было основано на внешнем признаке - метрической форме лирических произведений; но вместе с тем с каждым видом лирики было соединено и определенное содержание, которое находилось в тесной связи, как увидим далее, с политической и экономической жизнью древних греков.
Глава XIII ЭЛЕГИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
1. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА "ЭЛЕГИЯ" У ДРЕВНИХ ГРЕКОВ. ФОРМА ГРЕЧЕСКОЙ ЭЛЕГИИ
По своему метру и по литературным формам элегия ближе других видов лирики стоит к эпосу. В элегических стихотворениях дактилические гексаметры чередуются с пентаметром, а пентаметр состоит из повторения той части гексаметра, которая находится ст начала стиха до цезуры πενθεμιμερής. Элегический метр имеет в основном такую форму:
- UU - UU - UU - UU - UU - U
- UU - UU - - UU - UU -
Эта форма представляет ту особенность, что в ней уже проявляется начало строфы. Элементы строфы можно найти и в гомеровском эпосе, например в причитаниях Андромахи, Гекабы и прочих троянок над телом Гектора (Ил. XXIV, 725-775), но там деление стихов на группы основывается на содержании их, между тем как в элегии симметрическое построение стихов имеет только формальную основу. Здесь двустишие, состоящее из гексаметра и пентаметра, повторяется в строгой последовательности независимо от его содержания.
Язык элегической поэзии в его основе тот же, что и в эпосе - ионийский диалект с примесью эолийских элементов, но в элегии встречаются уже новые ионийские формы, чуждые языку Гомера и Гесиода.
Это объясняется тем, что литературные формы элегии принадлежат к более позднему времени, чем гомеровские поэмы и произведения Гесиода.
Термин ἐλεγεῖον (ед. ч. ср. р.) указывал у древних греков на форму, а не на содержание произведения. Так называлось двустишие, состоявшее из гексаметра и пентаметра. Составленные из таких двустиший стихотворения называли элегиями (ἐλεγεῖα). В позднейшее время вошел в употребление термин ἐλεγεία, (ед. ч. женск. р.)
Происхождение слова ἐλεγεῖον было неясно самим грекам. У греческих лексикографов находим разноречивые объяснения. Свида объясняет это слово так: ἔλεγος ἀπὸ τοῦ ἒ ἒλέγειν. Β Etimologicum Gudianum ἔλεγεῖον производится παρὲ τὸν ἔλεον και τὸν γόον.
У современных ученых также имеются разногласия по вопросу о происхождении этого слова. Из новейших объяснений наиболее приемлемо то, которое выводит происхождение слова "элегия" из сходного фригийского слова elêgn, обозначающего "тростник". Таким образом, этот поэтический жанр был назван по имени инструмента, под звуки которого исполнялись элегические песни.[1]
[1] Ср. книгу В. К. Стешенко–Куфтиной, Древнейшие инструментальные основы гру»инской народной музыки, стр. 63, Тбилиси, 1936.
2. КАЛЛИН
Греческая элегия раньше всего развилась в той же области и среди того же племени, где достигла своего полного развития эпическая поэзия, - в Малой Азии, у ионийцев. В эпосе она почерпнула свою форму, а в жизни- свое содержание. Тревоги и ужасы войны, вторжение в Малую Азию киммерийцев вызвали к жизни поэтическое творчество Каллина, который считался древнейшим греческим элегиком, хотя, конечно, и до него были элегики, как были эпические поэты до Гомера.
Каллин был уроженцем ионийского города Эфеса. Время его жизни определяется теми событиями, о которых он говорит в своих стихотворениях. Точных указаний о времени его рождения и смерти в древних источниках не сохранилось. Вторжение киммерийцев в Малую Азию произошло во время правления в Лидии царя Гигеса (690-663 гг. до н. э.). Киммерийцы разрушили, по свидетельству Страбона (XIV, 1, 40, р. 647) Магнесию. Затем они взяли столицу Лидии Сарды. В это тревожное для малоазиатских греков время Каллин обратился к эфесской молодежи с энергичным призывом защищать родину. Он говорит в своей элегии (фр. 1):
Будете спать вы доколе? Когда мощный дух обретете,
Юноши? Даже людей, окрест живущих, и тех
Вы не стыдитесь средь лени безмерной? Вы мните, что в мире
Жизнь провождаете? Нет! - всюду война на земле!
(Перев. Г. Ц.)
Дальше в своем стихотворение Каллин старается пробудить в эфесских гражданах чувство любви к отечеству и презрение к смерти:
И достохвально и славно для мужа за родину биться
Биться за малых детей, за молодую жену
С ворогом злым. Смерть тогда лишь наступит, когда нам на долю
Мойры ее напрядут... Пусть же с подъятым копьем
Каждый стремится вперед и щитом свою грудь прикрывает,
Мощную духом, едва жаркий завяжется бой!
(перев. Г. Ц.)
В этом стихотворении Каллин является не только поэтом, но и политическим деятелем, призывающим своих соотечественников к защите родины. Тут отражаются чувства и мысли лучших современников Каллина.
Из произведений Каллина до нас дошло очень мало отрывков. Самый большой из них, сохранившийся у Стобея, состоит только из 21 стиха (фр. 1).[1] Кроме того, Страбон упоминает о гимне Каллина в честь Зевса, о стихотворениях, сюжеты которых были заимствованы из народных преданий, - о походе тевкров с острова Крита, о смерти предсказателя Калханта в Кларосе; а Евстафий в схолиях к "Одиссее" (XX, 106) говорит о поэме Каллина "Наксосская история" (Τὰ Ναξιακά) в трех книгах. Но принадлежность этой поэмы Каллину сомнительна.
[1] Ссылки на все тексты греческих лириков в главах XII XVII даются по 4–му изданию книги Теодора Бергка „Poetae lyriri Graeci“. В немногих случаях даны ссылки на издание Diehl, Anthologia lyrica Graeca, которые каждый раз оговариваются.
3. ТИРТЕЙ
После Каллина древнейшим элегиком является Тиртей, сын Эхемброта. Поэтическая деятельность его развилась в Спарте в связи с тревогами тяжелой для спартанцев Мессенской войны. Евсевий относит расцвет таланта Тиртея к 37-й олимпиаде (632-629 гг. до н. э.), а Аполлодор (у Гесихия)-к 35-й олимпиаде(640-637 гг.). По распространенному среди греков преданию, Тиртей был афинский гражданин, происходивший из дема Афидна. Относительно переселения Тиртея в Спарту существовало следующее предание. Во время второй Мессенской войны (в половине VII в. до н. э.) спартанцы, не надеясь собственными силами победить врагов, отправили послов в Дельфы спросить оракула, что им делать, чтобы одержать победу. Оракул посоветовал им обратиться к афинянам, просить у них вождя. Когда спартанцы обратились к афинянам с этой просьбой, афиняне послали не выдающегося военными талантами полководца, а хромого школьного учителя Тиртея. Однако Тиртей своими песнями так воодушевил спартанцев, .что они наголову разбили врагов. Но это предание, сообщенное Павсанием (IV, 15, 6) и многими другими древними авторами, недостоверно. Это - вымысел афинян, нередко прибегавших к различным выдумкам для прославления своего отечества. У Свиды сохранилось иное предание, заслуживающее большего доверия. Свида сообщает, что Тиртей происходил из Лаконии или из Милета. По всей вероятности, более достоверно указание, что он происходил из Лаконии. Поводом к появлению легенды о происхождении Тиртея из Аттики послужило то обстоятельство, что в Греции было два селения, носивших название Афидна: одно - в Аттике, другое - в Лаконии.[1] Следует обратить внимание и на то, что Тиртей был назначен вождем спартанского войска, а такое назначение едва ли было бы возможно, если бы он не был спартанским гражданином. Известно, что спартанцы очень строго охраняла права своего гражданства.
По вопросу о времени жизни и подлинности стихотворения Тиртея можно отметить два с виду остроумных, но в сущности парадоксальных суждения - Верроля и Шварца.[2]
Первый, опираясь на речь Ликурга против Леократа (гл. 101), но не приняв во внимание всего контекста в целом, относил деятельность Тиртея ко второй, а не к третьей Мессенской войне (о которой говорит Фукидид (I, 101), т. е. к середине V века до н. в. Шварц думает даже, что эти элегии были сочинены афинскими лакономанами в конца V века до н. э. и стали известны спартанцам не раньше 369 г. Опорой (весьма ненадежной) для него служат совпадения элегий Тиртея в отдельных выражениях и мотивах с элегиями Солона, в подражание которым будто бы и написаны псевдо-тиртеевские элегии. Но сходство в выражениях зависело от общего источника (языка эпической поэзия), а сходство в мотивах подсказывалось сходством событий, в связи с которыми писали Солон и Тиртей.
Подлинность дошедших до нас стихов Тиртея и их глубокая древность были убедительно доказаны французским ученым А. Вейлем (см. библиографию). Вейль старался найти в самых стихотворениях Тиртея такие черты, которые служили бы указанием на исторические факты, современные Тиртею. Он указывает, что в произведениях Тиртея все типично, все относится к определенному месту и времени. Зевс, по словам Тиртея, дал Лаконию Гераклидам; царь Феопомп покорил мессенцев на двадцатом году военных действий; на них было наложено тяжелое иго рабства, и они должны были отдавать победителям половину всего, что доставляла им земля; когда же царь умирал, они должны были с женами и детьми оплакивать его. У Тиртея упоминается об одном характерном обстоятельстве: вследствие продолжительной войны спартанцы так пали духом, что приходилось проводить рвы в тылу войска, чтобы воины не могли бежать.[3] Кроме того, в некоторых отрывках Тиртея встречаются намеки на аграрные волнения. Об этих стихотворениях Тиртея упоминает Аристотель в "Политике" (V, 6, 2, р. 1306bЬ). Он не выражает сомнения в их принадлежности Тиртею и относит их ко времени Мессенской войны. Восстания происходят, - говорит Аристотель, - когда одна часть населения государства находится в чрезмерно угнетенном материальном положении, а другая слишком благоденствует. Это бывает чаще всего в военное время. Так случилось в Лакедемоне во время Мессенской войны, что известно из стихотворения Тиртея "Эвномия" ("Благозаконность"): некоторые граждане, угнетенные войной, требовали передела земли.
Все эти черты указывают на те исторические события, которые связаны с поэтическим творчеством Тиртея и. дают основание относить его жизнь ко времени второй Мессенской войны, а не третьей.[4] Возникает вопрос, почему элегии Тиртея были написаны не на лаконском наречии, а на ионийском. Вейль объясняет это тем, что язык элегии был общий для всей Греции - язык гомеровского эпоса. Его хорошо понимали лаконяне в VII веке до н. э., потому что рапсоды пронесли стихотворения, составленные на ионийском диалекте, от одного края Греции до другого. Кроме того, нужно заметить, что у Тиртея находятся и доризмы, например δημότας, δέσποτας и др. В некоторых местах, когда позволял сделать это метр, дорийские формы могли быть изменены переписчиками на ионийские. По всей вероятности, в стихах Тиртея было больше доризмов, чем в сохранившихся до настоящего времени фрагментах.
Предание о назначении Тиртея спартанским полководцем во время Мессенской войны Вейль толкует в том смысле, что он только давал советы спартанцам, но не распоряжался военными действиями. Аналогичный пример Вейль находит в рассказе Геродота (II, 33 сл.). Геродот говорит, что во время нашествия Ксеркса спартанцы, по указанию оракула, пригласили элидского предсказателя Тисамена и дали ему, так же как и Тиртею, права гражданства.
Поэтическая деятельность Тиртея была широка и охватывала различные стороны жизни спартанцев. Прежде всего он, призванный вести спартанцев к победе, должен был создать песни, которые могли бы пробудить в воинах мужество и решимость смело итти в бой для защиты отечества. И вот Тиртей в своих "Советах" проводит контраст между славной судьбой героя, который не страшится пасть на поле битвы, и позорным положением труса, бежавшего от врагов. Тиртей говорит:
Сладко ведь жизнь потерять, среди воинов доблестных павши.
Храброму мужу в бою ради отчизны своей!
Город покинув родной и цветущие нивы, быть нищим -
Это, напротив, удел всех тяжелее других!
С матерью милой, с отцом-стариком на чужбине блуждает
С милыми детками трус, с юной женою своей.
Будет он жить ненавистным для тех, у кого приютится,
Тяжкой гонимый нуждой и роковой нищетой;
Род свой позорит он, вид свой цветущий стыдом покрывает,
Беды, бесчестье за ним всюду летят по следам!
(Перев. В. В. Латышева)[5]
Стихотворение заканчивается призывом к юношам защищать свою родину и напоминанием о славе героев. Эта элегия сохранилась до настоящего времени благодаря оратору Ликургу, который приводит ее в речи против Леократа (гл. 107). Другой значительный по размерам фрагмент из "Советов" Тиртея сохранен Стобеем.[6] Основной мотив этого фрагмента тот же; военные подвиги, защита отечества - выше гсего. Тиртей говорит:
Я не считаю ни памяти доброй, ни чести достойным
Мужа за ног быстроту или за силу в борьбе,
Хоть бы он даже был равен циклопам и ростом, и силой,
Или фракийский Борей в беге ему уступал,
Хоть бы он даже был видом прелестней красавца Тифона,
Или богатством своим Мида с Киниром затмил,
Хоть бы он царственней был Танталова сына Пелопса,
Или Адрастов язык сладкоречивый имел.
Хоть бы он всякую славу стяжал кроме доблестной силы!
Ибо не будет никто доблестным мужем в войне.
Если не будет отважно стоять в виду сечи кровавой
Или стремиться вперед, в бой рукопашный с врагом:
Эта лишь доблесть и этот лишь подвиг для юного мужа
Лучше, прекраснее всех прочих похвал средь людей!
(Перев. В. В. Латышева)
Элегия заканчивается прославлением павших в боях за родную страну и оставшихся в живых героев, стяжавших ратную славу на поле битвы.
Другие сохранившиеся до настоящего времени отрывки "Советов" Тиртея незначительны, некоторые из них - не более одной строки (фр. 13, 14).
Тиртей не только призывал к отваге, храбрости, смелости в бою, он составил также маршевые песни - эмбатерии, с пением которых спартанцы шли в бой. Невольно является сравнение их с "Марсельезой", с которой у них есть даже сходство в начальных словах, обусловленное одинаковым положением и той же целью творчества. Эта песни имели не элегический, а анапестический размер (⌣⌣-), соответствующий мерному шагу, и составлены были не на ионийском, а на дорийском, родном для спартанских воинов диалекте. Ср. Например:
Вперед, о сыны отцов-граждан,
Мужами прославленной Спарты!
Щит левой рукой выставляйте,
Мечите с отвагою копья
И жизни своей не щадите:
Ведь то не в обычаях Спарты!
(Перев. В. В. Латышева)
Некоторые ученые высказывали сомнение в принадлежности этих песен Тиртею: ссылались на то, что Дион Хрисостом и Гефестион приводят их без указания имени автора; указывали также такие формы, которые были не свойственны дорийскому диалекту. Но византийский автор Иоанн Цец определенно утверждает, что маршевая песнь, приводимая Дионом, принадлежит Тиртею.[7]
Такой знаток греческой лирики, как Бергк, считал их подлинными и внес в свое издание "Poëtae lyrici graeci" без пометки "spuria" или "suspecta".
Тиртей был отзывчив и к современной ему политической жизни в Спарте. Длительная война с мессенцами, неравномерное распределение земель среди спартанских граждан и развивавшаяся в Спарте любовь к деньгам (φιλοχρηματία) - все это привлекало его внимание. Вопросам государственной жизни были посвящены стихотворения Тиртея, объединенные общим названием "Благозаконность" (Εὐνομία). От них дошли только отрывки. Довольно значительный отрывок из "Эвномии" приводит Плутарх в биографии Ликурга (гл. 6). Здесь Тиртей говорит, что государственный строй Спарты был организован согласно указанию дельфийского оракула и поэтому граждане должны соблюдать законы, действовать справедливо и не замышлять против, государства никакого зла (фр. 4).[8] В другом фрагменте (фр. 5) Тиртей говорит о покорении Мессены царем Феопомпом после длительной войны. Отрывки остальных фрагментов из "Эвномии" Тиртея незначительны. Александрийские ученые разделили собранные ими стихотворения Тиртея на пять книг, но возможно, что в это собрание попали и неподлинные стихи этого поэта.
Стихотворения Тиртея пользовались в Спарте большим уважением. Спартанцы постановили исполнять их на походах во время общих обедов, после молитвы богам. Лучший певец получал в награду от полемархов кусок мяса. Песни Тиртея распространились по всей Греции. Они были неизвестны на Крите и в Аттике. Оратор Ликург (IV век до н. э.) говорит о них как о таких произведениях, которые могут пробуждать в сердцах людей любовь к отечеству и его славе. Увлекались Тиртеем и римские поэты. Гораций в своей "Поэтике" (ст. 401 сл.) говорит о том влиянии, какое Тиртей и Гомер имели на развитие храбрости у людей; а начальные слова той элегии, в которой Тиртей призывает молодежь к защите родины (фр. 10), прозвучали в стихах Горация в известной фразе, получившей широкое распространение:
Dulce et decorum est pro patria mori.[9]
[1] Стефан Византийский, под словом Ἂφιόνα.
[2] A. Verrall — Class. Rev. 1896, стр. 269 сл ; E. Schwartz, Tyrtaios, Hermes, т. 34, (1899), стр. 427—469.
[3] Фр. 9. Ср. Аристотель, Никомахова этика, III, 8, 5.
[4] Ср. Павсаний IV, 18, 1.
[5] В. В. Латышев. На досуге, стр. 1. СПб., 1898.
[6] Фр. 12.
[7] Τzetzes. Chiliad. I, 692.
[8] У Диодора Сицилийского (III, р. 3) этот отрывок приведен полнее, чем у Павсания.
[9] Сладко и почетно умереть за родину.
4. МИМНЕРМ
Каллин и Тиртей касались в своих произведениях общих явлений политической и социальной жизни, тех явлений, которые волновали многих граждан или даже целые государства. Выражение индивидуальных чувств, которые переживает человек в своей личной жизни, у Каллина и Тиртея не встречается. Мотивами для творчества Каллина послужили общенародные бедствия ионийских городов, а Тиртей в своих произведениях имел в виду современные ему события в Спарте. Элегии Мимнерма имеют другие черты. Главным мотивом его произведений являются личные чувства. Это зависело от тех бытовых условий, в каких жил Мимнерм. Расцвет его таланта Гесихий и Свида относят к 37-й олимпиаде (632-629 г. до н. э.). Место рождения Мимнерма в точности неизвестно. Полагают, что он родился в Колофоне. В одном стихотворении, которое приводит Страбон (XIV, 4, р. 634), Мимнерм называет Колофон "дорогим" (ἐρατή, фр. 9).
К наступлению 37-й олимпиады Колофон был уже завоеван лидийским царем Алиаттом. Политическая борьба в нем утихла, и жители Колофона стали искать наслаждений в пирах, роскоши и чувственных удовольствиях. Интерес к политическим вопросам был подавлен. Это отразилось в поэзии Мимнерма, оторванной от запросов общего характера.
Преобладающим мотивом поэзии Мимнерма является любовь. Но по сохранившимся отрывкам нельзя определить, насколько глубоко переживал он свои чувства: в них мы не находим не только образа, но даже имени его возлюбленной. Предание называет ее Нанно́. Установилось мнение, что сборник элегий Мимнерма носил ее имя. Но название сборника стихотворений Мимнерма "Нанно́" впервые встречается у Гермесианакта (Афиней XII, 597), а Гермесианакт не заслуживает доверия, потому что он часто допускает неточности в передаче фактов и даже иногда выдает свои выдумки за действительность. Очень может быть, что в стихотворениях Мимнерма встречалось имя Нанно, а Гермесианакт произвольно выдал его за имя той женщины, которой особенно увлекся Мимнерм.[1]
Нерадостный тон звучит в эротических стихотворениях Мимнерма. На них лежит печать мрачной думы и постоянной боязни за будущее. Особенно страшит его старость, то время, когда сила любви угасает. В старости он не видит никакого утешения, никаких радостей и находит, что лучше умереть, чем жить стариком.
В одном фрагменте, сохраненном у Стобея, Мимнерм говооит (фр. 1):
Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость?
Я бы хотел умереть, раз перестанут манить
Тайные встречи меня, и объятья, и страстное ложе.
Сладок лишь юности цвет и для мужей и для жен.
После ж того, как наступит тяжелая старость, в которой
Даже прекраснейший муж гадок становится всем,
Дух человека терзать начинают лихие заботы.
Не наслаждается он, глядя на солнца лучи,
Мальчикам он ненавистен и в женах презрение будит.
Вот сколь тяжелою бог старость для нас сотворил!
(Перев. В. В. Вересаева)
Мимнерм не хочет дожить до глубокой старости. Желанным пределом человеческой жлзня он ставят шестьдесят лет. Старость и страшит и тревожит его. Она наступает незаметно, быстро и влечет за собою только страдания. Эти мысли ярко выражены в следующем стихотворении:
В пору обильной цветами весны распускаются быстро
В свете горячих лучей листья на ветках дерев.
Словно те листья, недолго мы тешимся юности цветом.
Не понимая еще, что нам на пользу и вред.
Час роковой настает, - и являются черные Керы
К людям; у первой в руках-старости тяжкий удел.
Смерти удел - у другой. Сохраняется очень недолго
Сладостный юности плод: солнце взошло, - и увял.
После ж того, как пленительный этот окончится возраст,
Стоит ли жить? Для чего? Лучше тотчас умереть!
Беды несчетные душу нещадно терзать начинают:
У одного его дом гибнет, идет нищета.
Страстно другому детей бы хотелось иметь, и однако
Старцем бездетным с земли грустно он сходит в Аид.
Душегубительной третий болезнью страдает. И в мире
Нет человека, кого б Зевс от беды сохранил.
(Перев. В, В. Вересаева )
Жизнь без радостей, без наслаждений любви, хотя бы она продолжалась вечно, не представляется Мимнерму заманчивой. Он иллюстрирует это мифом о Тифоне, возлюбленном Эос-Зари. Заря испросила ему у Зевса бессмертие, но забыла испросить вечную юность. И вот Тифон живет вечно, но не может избежать старости. Мимнерм находит эту вечную старость более ужасной, чем смерть.
В своих элегиях Мимнерм, по свидетельству Павсания (IX, 30, 1), воспел битву жителей Смирны с лидийским царем Гигесом. Он касался мифов о походе Аргонавтов в Колхиду. У него есть и восточный миф о дивном золотом крылатом кубке, сделанном Гефестом, в котором Солнце совершает свой ночной путь (фр. 12). Он воспевал также и военную славу героев (фр. 14). А Плутарх говорит, что еще в его время существовал древний ном, называвшийся "смоковничным", который, по свидетельству Гиппонакта, исполнял на флейте Мимнерм.[2]
Все это говорит о большой отзывчивости Мимнерма к различным явлениям окружавшей его жизни и к преданиям родной старины, но все-таки преобладающим мотивом в его поэзии является любовь. Он положил начало эротической поэзии в греческой литературе. По его следам пошли позднейшие певцы любви. Ему подражали александрийцы Филет и Каллимах. В римской литературе заметно влияние его на Тибулла, Овидия и Проперция. Из Горация (Посл. II, 2, ст. 99 сл.) видно, что Мимнерм пользовался большим уважением в Риме. До нас, к сожалению, дошло очень мало отрывков из произведений этого; поэта и очень мало внесено новейшими находками в папирусах.
[1] См. Ηeinemann. Studia Solonea. Берлин, 1897.
[2] Плутарх, О музыке, гл. 8
5. СОЛОН
После Мимнерма выдающимся представителем элегии в Греции является афинянин Солон. Но его элегии носят иной характер, чем элегии Мимнерма; мотивами их были не личные чувства поэта, а современные ему явления политической жизни и классовой борьбы. Время Солона было периодом обостренной борьбы в Аттике обездоленных крестьян с афинской аристократией. В конце VII и в начале VI века до н. э. "... все пышнее расцветавшее денежное господство благородных выработало также новое обычное право, для того чтобы обеспечить кредитора против должника, для того чтобы освятить эксплуатацию мелких крестьян владельцами денег. На полях Аттики всюду торчали столбы с надписями, в которых сообщалось, что данный участок заложен тому-то и тому-то за такую-то сумму денег. Поля, свободные от таких надписей, были уже большей частью проданы вследствие неуплаты в срок закладной суммы или процентов и перешли в собственность благородного ростовщика..."[1] Афинские крестьяне были в полном порабощении у богатых: не только самих крестьян, но и детей их можно было увести в рабство в случае неуплаты аренды. Ссуды обеспечивались также личной кабалой. Так было до Солона, который, по свидетельству Аристотеля, сделался первым "простатой", первым защитником народа,[2] и составил законодательство для афинян, охранявшее права обездоленных, К тому же временя относится и война афинян с мегарцами за Саламин, начавшаяся по инициативе Солона. С полным правом можно сказать, что Солон был и поэт и государственный деятель, который, по меткому выражению Энгельса, " ... открыл ряд так называемых политических революций, и притом с вторжением в отношения собственности".[3]
Солон - единственный из греческих лириков, с жизнью которого мы знакомы по древней биографии, правда, написанной далеко не его современниками - Плутархом и Диогеном Лаэртским. Кроме того, довольно много сведений о нем дает такой точный автор, как Аристотель. Время рождения Солона относили ко второму году 36-й олимпиады (635 г. до н. э.). "По происхождению и по известности Солон принадлежал к первым людям в государстве, - говорит Аристотель, - а по состоянию и по складу своей жизни - к средним".[4] Он происходил из богатого и знатного рода Кодридов, но был беден, так как отец его Эксекестид расточил свое имущество. Желая улучшить свои средства, Солон занялся торговлей. Путешествия, связанные с торговыми делами, имели большое влияние на развитие Солона. Он посетил много городов, встречался со многими людьми. Путешествия обогатили его множеством наблюдений и впечатлений, а общение с выдающимися современниками расширило его умственный кругозор. Он возвратился в Афины обогащенный житейским опытом, и это позволило ему занять влиятельное положение в государстве. Как большой патриот, Солон с любовью следил за жизнью своего народа и не оставлял в стороне тех вопросов, которые она выдвигала. Поэзия его тесно связана с современными ему политическими событиями в Афинах.
Большое значение для афинян имел поход на Саламин, предпринятый по настоянию и под руководством Солона. Элегия, в которой Солон убеждал афинян решиться на этот поход, называлась "Саламин" (Σαλαμίς). Плутарх в биография Солона (гл. 8) рассказывает относительно обнародования этой элегии следующее.
Афиняне несколько раз пытались возвратить отнятый у них мегарцами остров Саламин, но это им не удавалось. После многих безуспешных попыток они постановили, что тот, кто предложит итти войной на Саламин, будет приговорен к смерти. Но Солон перехитрил их. Он притворился помешанным, явился на городскую площадь в дорожной шляпе, взошел на камень, на который становились вестники, и прочитал элегию, начинавшуюся словами:
Сам я глашатаем прибыл с желанного к вам Саламина.
Стройно сплетенную песнь вместо речей принося.
Лучше мне жить на Сикине или Фолегандре,[5] продолжал Солон, а не в родных Афинах. Ведь скоро про нас пройдет молва: это афинянин, предатель Саламина.
Стихотворение, состоявшее из ста стихов, оканчивалось словами:
На Саламин! Как один человек, за остров желанный
Все ополчимся! С Афин смоем проклятый позор!
Друзья Солона, в особенности Писистрат, стали убеждать афинян последовать зову поэта. Афиняне начали войну, избрав своим вождем Солона, и возвратили Саламин. Но приобретение его и расширение афинских владений не привело к восстановлению внутреннего мира в Афинах. Борьба классов продолжалась, и вся земля по-прежнему "была в руках немногих",[6] как говорит Аристотель. В это тяжелое время Солон выступает со своими "Наставлениями афинянам" (Ὑποθῆκαι εἰς Αθηαίους). В своей элегии Солон высказывает глубокую уверенность в том, что афиняне не погибнут, что Афинское государство останется сильным, какие бы бедствия его не постигли, потому что такова воля Зевса и других богов. Кроме того, Аттику хранит Афина Паллада. Бедствия афинян происходят не от богов, а от людей, говорит Солон, от несправедливости и насилия вождей. Солон рисует мрачную картину нравов своего времени. Хищничество доходит до того, что некоторые граждане не щадят ни государственного достояния, на имущества, принадлежащего храмам. Справедливость нарушается, бедняка должны покидать родную землю или итти в рабство. Солон указывает выход из этого тяжелого положения: соблюдение законности смягчит грубость, подавит жадность и направит судей на путь справедливости.
Элегии Солона постепенно подготовляли афинян к мысли о необходимости нового законодательства, которое ограничило бы произвол и обеспечило бы личную свободу. В 594 г. до н. э. афиняне поручили Солону проведение новой государственной реформы, но его реформы не удовлетворили на богатых, на бедных. Солону пришлось защищаться от нападок и упреков. Оправдываясь, он говорит, что дал бедному народу столько власти и прав, сколько было необходимо, ограничил богатых и не позволил господствовать ни той, ни другой партии.
Более личный характер имеют те элегии Солона, которые относятся к "Наставлениям самому себе" (Ὑποθῆκαι εἰς ἑαυτόν). Здесь поэт указывает, в чем, по его мнению, состоят счастье человека. Он обращается к музам с просьбой - "склонить свой слух к его мольбе":
Счастье мне от богов блаженных подайте, а в людях
Чистой да будет всегда добрая слава моя.
Пусть друзьям приятен я буду, врагам же на горе.
Между одними почтен, грозен для взора других.
Хочется мне достаток иметь, наживать же неправо -
Нет: за неправдой во след быстро возмездье идет.
(Перев. С. Шестакова)
Солон подчеркивает, что не следует наживать богатства дурными путями. Он указывает на непрочность такого богатства. Вскоре наступает беда, говорит он, потому что Зевс наблюдает за всем. Гнев Зевса неизбежно постигает виновного, и если ему как-нибудь удастся спастись от наказания, то кара ждет его детей или его потомство. Солон перечисляет дальше те способы, какими люди хотят добиться богатства. Несомненно, Солон берет эти факты из жизни. Это яркая картина быта. В общем можно сказать, что заглавие "Наставления самому себе" не соответствует содержанию элегии: она с большим правом могла бы называться "Наставления афинянам". Солон выступает в ней противником алчной, несправедливой наживы и поборником честного и добросовестного труда. Солон считал одной из важнейших целей жизни стремление к добродетели и приобретение знаний. О себе он говорит в одной из элегий: "Я старею, постоянно многому учась".
Непрерывные размышления над ходом событий и опыт, вынесенный из продолжительной жизни, развили в Солоне зоркость и замечательную способность предусмотреть будущие беды там, где другие не видели ничего тревожного. Он догадывался о замыслах Писистрата захватить тираннию в Афинах еще в то время, когда большинство афинян относилось к нему с большим доверием. Действительно, Солон не ошибся. Ему пришлось увидеть начало тираннии Писистрата. Тогда Солон обратился к афинянам с упреками: "Если вы теперь страдаете, - говорил он афинскому народу, - то виной этому ваше малодушие. Не обвиняйте же богов! Ведь вы сами усилили могущество этих людей, так как дали им телохранителей и обрекли себя на позорное рабство. Каждый из вас хитер, как лисица, но у всех вас мало ума, вы доверяете речам коварных людей, а на поступки их не обращаете никакого внимания".
Комментарием к этим словам Солона может служить рассказ Аристотеля о том, как Писистрат захватил тираннию в Афинах. "Писистрат сам нанес себе раны и под предлогом, будто это сделали его политические противники, убедил народ дать ему телохранителей. Получив в свое распоряжение отряд так называемых "дубиноносцев", он с их помощью восстал против народа и занял Акрополь". "Говорят, - продолжает Аристотель, - когда Писистрат просил себе охраны, Солон возражал против этого и сказал, что одних он превосходит умом, а других - мужеством. Умом превосходит тех, кто не знает, что Писистрат стремится к тираннии; мужеством - тех, кто знает об этом, но молчит. Но так как словами ему не удалось убедить, то он стал с оружием перед, дверями и говорил, что помог отечеству по мере своих сил и ждет того же от других".[7]
Кроме стихотворений, написанных элегическим размером, Солок слагал также стихотворения ямбическим и трохаическим размером. От них сохранились только незначительные отрывки, приводимые Аристидом, Плутархом, Афинеем и другими авторами. Многие из отрывков так незначительны по размерам, что трудно определить, в какой связи высказана та или другая мысль. Наиболее крупным является фрагмент, в котором Солон говорит о своем законодательстве (фр. 36). Он призывает Землю, мать олимпийских богов, в свидетельницы того, что он снял долговые столбы и возвратил на родину многих афинских граждан, вынужденных в свое время покинуть родину и даже забывших родной язык, а других освободил от рабства. Солону приписывались даже мелические стихотворения, но это мнение ошибочно. Некоторые произведения Солона стоят в связи с его частной жизнью. Сюда относятся сколии, застольные песни, в которых прославлялись подвиги предков, высказывались правила житейской мудрости, прославлялись дары Диониса и Афродиты.
Сохранились до настоящего времени также отрывки посланий Солона к некоторым его современникам, - к правителю города Солы на Кипре Филокипру, поэту Мимнерму, Критию и др. Послание Филокипру содержит воспоминания Солона о том времени, когда он гостил у Филокипра. Солон дал ему совет перенести столицу из города Эпеи, находившегося на неудобном месте, на другое, лучшее место. Филокипр исполнил этот совет, основал новый город и назвал его в честь Солона "Солы". Солон вспоминает об основании Сол и желает счастья Филокипру. В послании Мимнерму Солон старается ободрить этого поэта, внушить ему более светлые взгляды на жизнь и ставит ее желанным пределом не шестьдесят лет, как Мимнерм, а восемьдесят. В посланиях к Критию Солон дает советы, основной мотив которых - умеренность в требованиях от жизни, так как богатство не спасает ни от смерти, ни от болезней (фр. 24). В одном из отрывков посланий к Критию находится совет Солона его другу - слушаться указаний своего отца (фр. 22). Среди посланий Солона Критию издатели обыкновенно помещают еще стихотворение "Седмицы человеческой жизни", не имеющее личного характера. Может быть, вопрос о том, как проходит человеческая жизнь, был как-нибудь затронут молодым Критием в беседах с Солоном, но больше оснований было бы поставить это стихотворение в ряду посланий Мимнерму.
Маленький мальчик, еще неразумный и слабый, теряет
Первых зубков своих ряд, чуть ему минет семь лет;
Если же бог доведет до конца семилетье второе, -
Отрок являет уже признаки зрелости нам.
В третье у юноши кроется быстро, при росте всех членов,
Нежным пушком борода, кожи меняется цвет.
Всякий в седмице четвертой ух в полном бывает расцвете
Силы телесной, а в ней доблести знак видят все.
В пятую - время подумать о браке желанном мужчине,
Чтобы свой род продолжать в ряде цветущих детей.
Ум человека в шестую седмицу вполне созревает,
И не стремится уж он к неисполнимым делам.
Разум и речь в семь седмиц ухе в полном бывают расцвете,
Также и в восемь, - всего вместе четырнадцать лет.
Мощен еще человек в в девятой, однако слабеют
Для веледоблествых дел слово и разум его.
Если ж десятое бог доведет до конца семилетье, -
Ранним не будет тогда смертный конец для людей.
(Перев. В. В. Латышева)
О времени смерти Солона Плутарх сообщает, что, по свидетельству Гераклида Понтийского, он умер вскоре после захвата Писистратом тираннии, а Фотий относит его смерть ко второму году тираннии (560-559 гг.).
Стихотворения Солона разделяются на следующие группы: "Саламин", "Наставления афинянам", "Наставления самому себе", послания, ямбы и эподы. Но это разделение принадлежит не самому Солону, а сделано его издателями, может быть, только в Александрийской библиотеке.[8] Нельзя не заметить, что эти заглавия не всегда соответствуют содержанию стихотворений Солона, - например, в "Наставлениях самому себе" поэт не обращается к себе, а говорит о пороках, широко распространенных среди афинян.
Солон внес в греческую элегию новые мотивы. Он чутко откликнулся не только на ход политической жизни афинян и на борьбу, которая была в его время между афинской аристократией и бедняком, но и внес в элегию элемент морали, этики, желая указать своим согражданам идеал и высшие цели деятельности человека. Богатые содержанием стихотворения Солона долго сохранялись среди греческого народа. Афиняне любили его стихи, они издали постановление, чтобы дети выступали с декламацией их ежегодно на празднике Апатурий. Лучшие декламаторы получали награду. Связь стихов Солона с современной ему жизнью так велика, что они являются одним из источников для истории Афин конца VII и начала VI века, а Аристотель в своей "Афинской политии" находит необходимым на них ссылаться.[9] Демосфен, обвиняя оратора Эсхина в недобросовестном исполнении обязанностей посла к македонскому царю Филиппу, приводит, как роковой приговор Эсхину, большой отрывок из элегии Солона, в которой поэт, выражая твердую уверенность, что Афины никогда не погибнут, осуждает изменников, которые, уступая подкупу, безрассудно вредят своему народу.[10] Так, спустя более двухсот лет после смерти Солона, прозвучал среди афинского народа его патриотический призыв - верить в силу родины и не изменять ей.
Упоминания о Солоне и цитаты из его стихотворений часто встречаются в греческой литературе: у Платона, Плутарха, Диогена Лаэртского, Диодора Сицилийского, Аристида и многих других. У Феогнида находим прямые заимствования стихов Солона (например, ст. 227-232). О Солоне не забыли и византийские авторы, Стобей, Свида, и собиратели греческих пословиц. Солона читали и изучали в Риме. Знакомство с его стихами видно, например, у Горация (Посл. I, 12, ст. 5).
Si ventri bene, si lateri est pedibusqje tuis, nil
Divitiae poterunt regales addere maius.[11]
Первый стих - дословный перевод послания Солона к Критию (фр. 24, ст. 4).
[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. XVI, ч, I, стр. 90.
[2] Аристотель, Афинская полития, гл. 2 (Перев С. И. Радцига. М·. 193 стр. 13).
[3] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч·, т. XVI, ч. I, стр. 93.
[4] Аристотель, Афинская полития, гл. 5.
[5] Сикин и Фолегандр — маленькие острова Кикладской группы.
[6] Аристотель, Афинская полития, гл. 4.
[7] Аристотель. Афинская полития, гл. 14.
[8] См. J. Heinemann, Studia Solonea. Берлин, 1897.
[9] Аристотель, Афинская полития, гл, 12—13.
[10] Демосфен, О неправильном посольстве, ХIХ, 421—422.
[11] Если у тебя здоровы и желудок, и грудь, и ноги, то никакое царское богатство не сможет дать тебе большего.
6. ФЕОГНИД
Уже в элегиях Солона встречается дидактический элемент, поучительные сентенции, которые дали собирателям греческих пословиц довольно значительный материал. Этот элемент с гораздо большей силой сказался в стихотворениях мегарского поэта Феогнида, время рождения которого Евсевий и Свида относят к третьему году 58-й олимпиады (546 г. до н. э.).
Вопрос о месте рождения Феогнида спорен. Из стихотворений этого поэта видно, что он был уроженцем Мегар (ст. 21), но так как в Греции было два города, носивших это название, Мегары Нисейские и Мегары в Сицилии, то является неясным, в котором из этих городов родился Феогнид. Платон (Законы I, 5, 630a) называет Феогнида гражданином Сицилийских Мегар. Немецкий ученый Ю. Белох указывает, что и в самих стихотворениях Феогнида можно найти основания для такого утверждения; так и Феогнид и его любимец Кирн называются в элегиях "всадниками", а в Нисейских Мегарах в то время, к которому относится жизнь Феогнида, не было сословия всадников.[1] Но с таким выводом нельзя согласовать того места в стихах Феогнида, где он говорит о своих путешествиях, о том, что он побывал и в Сицилии, и на богатой виноградом Эвбее, и в славной Спарте, - везде его принимали радушно, но он нигде не находил отрады, потому что нет ничего дороже родины (ст 783 сл.). Из этих слов ясно, что Сицилия не была его родиной. Упоминание о том, что Феогнид и Кирн были "всадниками" (ἱππεῖς), указывает не на их военную службу в коннице, а на их классовое положение, на то, что они принадлежали к аристократии. Аналогичное явление видим на острове Эвбее, где высший класс назывался всадниками, хотя конницы на Эвбее не было.
Отразившиеся в стихотворениях Феогнида исторические события также указывают на Мегары Нисейские. В VI веке до н. а. в Мегарах Нисейских велась упорная борьба между аристократами и народной партией. Успех переходил то на одну, то на другую сторону.
Феогнид принадлежал к аристократической партии, называвшей себя "хорошими людьми" (ἀγαθοί) в противоположность народу, который эта партия называла "дурным" (κακοί), Феогнид был участником классовой борьбы, свидетелем успеха аристократической партии и ее падения. Он потерял в это время свое имущество и должен был странствовать по чужим краям. Когда успех снова перешел на сторону аристократов, Феогнид возвратился на родину, но своего имущества не получил обратно. Эта борьба ярко отразилась в стихотворениях Феогнида. В них видны следы пережитых им превратностей и отражение той ненависти, которую он питал к мегарской народной партии. Вот в каких страстных словах выразилась его злоба (847 сл.):
Крепко пятою топчи пустодушный народ, беспощадно
Острою палкой коли, тяжким ярмом придави!
(Перев. В. В. Вересаева)
Дошедший до нас сборник элегий Феогнида разделяется на две части. Одна из них заключает в себе 1230 стихов, содержащих наставления любимцу Феогнида юноше Кирну; другая, гораздо меньшая по размерам (159 стихов), носит эротический характер. Обе части страдают отсутствием связи между отдельными звеньями. Часто встречается резкий переход от одной мысли к другой, ничем не связанной с предыдущей. Непоследовательность зависит от того, что помещенные в сборнике стихотворения Феогнида дошли до нас не в таком виде, в каком они были созданы поэтов. Это не цельные стихотворения, а фрагменты их, расположенные без логической последовательности. Очень трудно проследить принципы, которыми руководился составитель этого сборника при распределении отдельных элегий. И. Зитцлер в "Prolegomena" к изданию Феогнида доказывает, что при соединении отдельных частей составитель сборника в некоторых случаях руководился мотивом сходства между мыслями и даже отдельными словами, а в других - мотивом контраста. По мнению Зитцлера, основой для распределения отдельных элегий Феогнида служила ассоциация представлений.[2]
Действительно, в стихотворениях Феогнида нередко встречаются сходство или контраст между мыслями или отдельными выражениями, находящимися близко одно от другого. Но этим еще не исчерпываются все принципы распределения стихов в сборнике элегий Феогнида. В некоторых случаях замечается связь не внутренняя, а чисто внешняя, формальная. Иногда связью служит только одна буква: например, в ст. 619-624 каждое двустишие начинается буквой π.
Дробление сборника стихотворений Феогнида на отдельные части так велико, что один из исследователей этого поэта, Карл Мюллер, разделил первую книгу его стихов (ст. 1-1230) на 350 частей.[3] Необходимо обратить внимание и на то, что в этот сборник вошло много стихов, принадлежащих другим поэтам. Тут находим стихи Тиртея (935-938), Мимнерма (793, 796) и особенно много стихов Солона (227-232, 315- 318, 585-590, 719-728, 1250-1254). Некоторые ученые указывают здесь еще стихи Архилоха, Фалеса, Хилона и других поэтов, но это только догадки. Во всяком случае, несомненно принадлежащими Феогниду можно считать только те стихи, в которых упоминается имя Кирна или которые имеют отношение к этой личности, хотя и тут можно в некоторых случаях предполагать подделку стихов в духе Феогнида. Сам Феогнид смотрел на имя Кирна как на печать, которая будет лежать на его стихах и охранять их от похищения (ст. 19 сл.):
Кирн! Мои поученья тебе да отмечены будут
Прочно печатью моей. Их не украдет никто.
Худшим никто не подменит хорошего, что написал я.
Будут везде говорить: "это сказал Феогнид,
Славный повсюду меж всеми людьми Феогнид из Мегары".
(Перев. В. В. Вересаева)
Изложение содержания гномологии Феогнида очень трудно вследствие отсутствия логической связи между отдельными частями. Поэтому мы остановимся только на важнейших мыслях Феогнида, на характерных чертах его элегий.
Сборник стихотворений Феогнида посвящен любимцу поэта Кирну, сыну Полипая. Поэт обращается здесь к Кирну с различными наставлениями. Он советует ему избегать общества дурных людей и стремиться к общению только с хорошими людьми, потому что окружающая среда оказывает на человека сильное влияние. От дурных людей можно научиться только дурному.[4] Феогнид старается развить в своем любимце осторожность и недоверие к людям. Он указывает на то, что немногие люди способны хранить вверенные им тайны, поэтому не следует вполне доверять даже друзьям. Эта осторожность тем более необходима, что узнать человека трудно. В несчастьи нельзя полагаться даже на родственников. Когда с человеком случится беда, то даже ближайшие родные отказывают ему в поддержке. Вследствие того, что так трудно завязывать дружеские связи, следует дорожить друзьями и не прерывать добрых отношений из-за мелочей (ст. 323 сл.). Согласие не может постоянно царить среди людей, размолвки вполне естественны, потому что человеку свойственно ошибаться. Дружеские связи должны быть крепки. Нужно помогать друзьям в беде. "Пусть на меня падет небо с высоты, если я не буду помогать тем, кто меня любит, а врагам причинять горе и всякие беды", - говорит поэт (ст. 869 сл.).
Феогнид нередко напоминает Кирну о том, что необходимо быть скромным и благоразумным. "Благоразумие - дар богов, и счастлив тот, кто им обладает". Богам Феогнид приписывает высшее могущество и полное управление миром и людьми. Никто не виновен в своих несчастьях, никто не создает сам себе счастья: все это посылают боги. Человек не знает, каковы будут плоды его трудов; он часто думает, что дело выйдет хорошо, а выходит плохо, и наоборот. Никому не дается то, чего он желает. Люди ничего не знают, их замыслы тщетны: всем управляют боги (ст. 133 сл.).
Но вера в богов не отличалась у Феогнида большой устойчивостью. В другом месте его элегии говорится: "Милый Зевс, ты управляешь всем и имеешь великую силу, ты прекрасно знаешь душу каждого человека, и власть твоя выше всего. Как же ты можешь ставить наравне негодных и справедливых людей?" (ст. 373-376). В этих словах явно выражается сомнение Феогнида если не в силе богов, то в их справедливости, а справедливость он считает обязательной и для человека (ст. 155-155). Еще резче колеблет он авторитет богов в другом отрывке:
Или еще, о владыка богов, справедливо ли это,
Что справедливейший муж, чуждый неправедных дел,
Не совершивший греха и обманчивых клятв не дававший.
Должен так часто терпеть незаслуженную скорбь?
Кто же, о кто же из смертных, взирая на все это, сможет
Вечных богов почитать?
(Ст. 743-748. Перев. В. В. Вересаева)
Так же неустойчивы представления Феогнида о судьбе. Он то считает ее непреодолимой, то внушает Кирну мысль о смелой борьбе с бедствиями (ст. 357-358).
В стихотворениях Феогнида ярко отразилась современная ему жизнь. Часто говорит поэт о жажде богатства, видимо охватившей в его время многих его сограждан. Многие, по видимому, стремились к богатству путем неправды и преступлений. Поэт с упреком говорит (ст. 145-146):
Лучше прожить с невеликим достатком, блюдя благочестье,
Чем достояньем большим несправедливо владеть.
(Перев. В. В Вересаева)
В стихах Феогнида мы находим и характеристику деятельности в Мегарах народных вождей, которых он ставит очень невысоко. Поэт говорит, что вследствие их тупоумия государство часто садилось на мель, подобно кораблю, направленному неопытной рукой. Как аристократ, с глубокой враждой относившийся к народу, Феогнид резко осуждает смешанные браки между лицами, принадлежащими к различным классам. Он говорит (ст. 183-189):
Кирн, выбираем себе лошадей мы, ослов и баранов
Доброй породы, следим, чтобы давали приплод
Лучшие пары. А замуж ничуть не колеблется лучший
Низкую женщину брать, - только б с деньгами была!
Женщина также охотно выходит за низкого мужа, -
Был бы богат! Для нее это важнее всего.
Деньги в почете всеобщем. Богатство смешало породы.
(Перев. В. В. Вересаева)
Феогнид касается в стихотворениях и своей частной жизни, полной страданий и превратностей судьбы. Его сильно тяготит бедность. "Тяжкая нищета, что ты сидишь на моих плечах! - говорит поэт. - Ты изводишь мое тело и мой рассудок и учишь меня совершать против воли много позорных дел" (ст. 649 сл).[5] В одну из тяжелых минут жизни у Феогнида вырвались грустные стихи (425-426):
Лучшая доля для смертных- на свет никогда не родиться
И никогда не видать яркого солнца лучей.
(Перев. В. В. Вересаева)
Но не всегда Феогнид так мрачно смотрел на свою жизнь. Он находил утешение в поэзии, в своих стихах, которым придавал большое значение, и верил, что его заветы не умрут вместе с ним, а прославят не только его, но и Кирна. Феогнид говорит Кирну (ст. 237-252):
Дал я крылья тебе, и на них высоко и свободно
Ты полетишь над землей и над простором морей,
Будешь присутствовать ты на пирах и на празднествах пышных.
Славное имя твое будет у всех на устах.
Милые юноши в пышных нарядах красиво и звонко
Будут под звуки тебя маленьких флейт воспевать,
Ясно звучащих. Когда же сойдешь ты в жилище Аида,
В мрачные недра земли, полные стонов и слез, -
Слава твоя не исчезнет, о Кирн, и по смерти, но вечно
В памяти будет людской имя храниться твое.
Ты по Элладе по всей пронесешься, бесплодное море,
Полное рыб, перейдешь, все острова посетишь.
И не на спинах коней ты поедешь, - фиалковенчанных
Муз сладкогласных дары всюду тебя понесут.
Всем, кому дороги песни, кому они дороги будут,
Будешь знаком ты, пока солнце стоит и земля.
(Перев. В. В. Вересаева)
Мы видим, как разнообразно содержание сборника стихотворений Феогнида. В наставлениях Кирну он касался многих вопросов, многих сторон жизни, но преобладающим мотивом у него являются вопросы политического и классового характера. Феогнид - яркий представитель аристократической партии в Мегарах середины VI века до н. э. Он презирает и страстно ненавидит мегарский народ; сильнейшим желанием его является "испить черной крови врагов".
К сборнику элегий, посвященных Кирну, в одной рукописи, содержащей стихотворения Феогнида (Codex Mutinensis X века), присоединено начало второго сборника стихотворений эротического характера, под названием Παιδικά, Этот сборник начинается воззванием к Эроту, богу любви, который погубил город Илион (Трою), погубил и славных героев, великого Тезея и доблестного Аякса, сына Оилеева. Сборник этот по своему содержанию очень циничен. По всей вероятности, он не принадлежит Феогниду; несомненно только, что до IV века н. э. этих стихотворений ему не приписывали. Это видно из того, что император Юлиан (361-363), сопоставляя некоторых языческих учителей нравственности, в том числе и Феогнида, с Сололоном, считает их выше последнего по чистоте нравственного учения. Кирилл в полемике с Юлианом признает произведения Феогнида настолько изящными и отличающимися такой нравственной высотой, что няня может дать прочесть их своему питомцу, а учитель - своему юному ученику. Несомненно, Кирилл не сделал бы этой уступки Юлиану, если бы в то время Παιδικά приписывались Феогниду. Ясно, что эти стихотворения были внесены в феогнидовский сборник уже после IV века н. э. Но некоторые стихи, входящие теперь в Παιδικά, принадлежат очень древним поэтам. На одной вазе, относящейся к V веку до н. э., изображен бородатый мужчина, декламирующий, как видно из надписи, стих ὦ παίδων κάλλιστε, входящий в состав второго феогнидовского сборника.[6]
Возникает вопрос, как был составлен феогнидовский сборник. Основой для него послужили сборники подложных стихотворений Феогнида, составлявшиеся в Афинах для школьного употребления. Дошедший до нас сборник элегий Феогнида носит следы различных переделок и вставок, но уже к V веку н. э. он имел тот же состав, что и теперь. Об этом свидетельствуют цитаты, приведенные С то Се ем. Было высказано мнение, что дошедший до нас сборник стихотворений Феогнида составлен в середине V века до н. э.[7] Но время его составления едва ли можно определить даже приблизительно. Несомненно только то, что он составлен из различных элегий. В основу сборника вошли подлинные стихотворения Феогнида, но к ним присоединены стихи различных элегиков и в полном и в измененном виде.
Элегии Феогнида пользовались в древности большой любовью и были широко распространены. О них упоминают Платон, Аристофан, Аристотель, Плутарх, Афиней и другие авторы. Об этом поэте не забыли и в византийское время, как видно из сохранившихся упоминаний о нем у Стобея и Свиды. Изречения Феогнида дали богатый материал собирателям греческих пословиц. Извлечения из его наставлений Кирну были сделаны уже в V веке до н. э. для школьного употребления.
Знакомство с Феогнидом замечается и в римской литературе в стихах Овидия и Горация. Мотив бессмертия в памяти потомства, - бессмертия, которое дает поэт (ст. 237-252), - заимствован у Феогнида Горацием и художественно развит в применении к самому себе в двадцатой оде кн. II, а затем в его известном стихотворении "Памятник", а чрез Горация отразился и в "Памятнике," Пушкина.
[1] J. Beloch, Zur Geschichte der älteren griechischen Lyrik (Rh. Mus., 1895 стр, 250 сл.).
[2] Theognidis reliquiae. Edidit J. Sitzler. Гейдельберг, 1880.
[3] C. Müller, De scriptis Theognideis, Иена, 1877, стр. 30.
[4] Нужно помнить, что слова „хороший“, „дурной“ имеют у Феогнида не моральное, а классовое значение.
[5] Ср. стт. 173—178; 351—354.
[6] Mitt. d. Deutsch. Arch. Instit., т. IX, Табл. I.
[7] Rh. Mus., т. XXII, стр. 177 сл.
7. ФОКИЛИД
Гномическая поэзия, древнейшим представителем которой был Феогнид, быстро развилась в Греции. Она несомненно удовлетворяла вкусам того времени. Греки стали требовать от поэзии не только отклика на текущие явления политической жизни, не только выражения личных радостей и страданий, но также и поучения. В стихах начали искать и житейскую мудрость и выводы из житейского опыта. Вследствие этого в поэзию стал все больше и больше проникать гномический элемент.
В то время, когда в Мегарах слагал свои песни Феогнид, на берегу Малой Азии другой поэт - Фокилид создавал свои элегии, имевшие, подобно феогнидовским, гномический характер. О жизни Фокилида известно еще меньше, чем о жизни Феогнида. Он был уроженцем города Милета. Расцвет его таланта Евсевий относит к четвертому году 60-й олимпиады (537/536 г. до н. э.). Относительно обстоятельств жизни Фокилида ничего не известно. По видимому он не принимал близкого участия в политической жизни, - по крайней мере, в его стихотворениях нигде нет намека на его общественную деятельность. Общий характер стихотворений Фокилида - дидактический, но его элегии не отличаются такой глубиной содержания, как элегии Солона или Феогнида. Не замечается в них и оригинальности мысли. Самый большой из фрагментов (фр. 3), в котором изображаются четыре различных типа женщин, представляет подражание Семониду Аморгскому. Так как дошедшие до нас отрывки из произведений Фокилида очень незначительны, то на основании их нельзя составить полной характеристики поэта. Видно только, что это был практичный человек, ставивший главной целью жизни материально обеспеченное существование. "Нужно прежде всего добиваться средств к жизни, а добродетели - уже после, когда наступит обеспеченность" (фр. 10). Фокилид придавал большое значение мудрости и красноречию, а самым лучшим общественным положением он считал среднее (фр. 12).
К особенностям внешней формы стихотворений Фокилида относится то, что все его изречения очень кратки и большей частью укладываются в одном двустишии. Из дошедших до нас его изречений только три написаны элегическим размеров, остальные четырнадцать-дактилическим гексаметром. Многие из них начинаются одной и той же фразой: Καὶ τόδε Φωκυλίδεω ("И это - Фокилидово"). Однообразие формы двустиший Фокилида уже в древности вызывало насмешки.
Кроме отдельных изречений, Фокилиду приписывалась еще целая поэма в 230 стихов, составленная дактилическим гексаметром. Она называлась Ποίημα νονθετικόν, т. е. "Поучительная поэма". Это произведение долгое время считалось несомненно принадлежащим Фокилиду. Только в XVI веке Фридрих Зильбург указал на то, что в поэме находится много стихов, носящих явное влияние иудейской религии и даже христианства. Зильбург считал эти стихи позднейшими вставками, однако он не решился признать всю эту поэму не принадлежащей Фокилиду. Дальше Зильбурга пошел Иосиф Скалигер, который доказывал, что все это произведение составлено не Фокилидом, а неизвестным евреем александрийского времени, знакомым с греческой литературой, или даже христианским писателем. Доводы Скалигера были так убедительны, что после него эта поэма стала считаться апокрифическим произведением. Относительно ее автора мнения ученых разошлись: одни считали его евреем, другие - христианином.
Немецкий ученый Якоб Бернайс[1] доказывал, что в этой поэме нет ничего такого, что можно было бы признать несомненно христианским; по его мнению, здесь заметны только иудейские элементы. Относительно времени составления этой поэмы Бернайс не нашел возможным высказаться решительно. Он определяет время ее появления между половиной II века до н. э. и половиной II века н. э., находя наиболее вероятным, что она составлена в правление Нерона.
После Бернайса вопрос о происхождении приписывавшейся Фокилиду "Поучительной поэмы" был подвергнут новому пересмотру Отто Горамом. Горам пришел к выводу, что в ней находится много заимствований из различных мест иудейской библии, из книг Исхода, Второзакония, Притчей, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса, сына Сирахова, и псалмов. Горам утверждает, что он не нашел в этой поэме таких черт, которые несомненно указывали бы на знакомство автора с христианским учением.[2] Относительно времени составления этой поэмы Горам полагает, что она была написана в Египте, в Александрии, около 130 г. до н. э. Целью ее составления было распространение среди язычников знакомства с религией евреев. Но с мнением Горама Несогласны некоторые ученые, например Гарнак, который находит в псевдо-фокилидавой поэме элементы христианские. Таким образом, и в настоящее время вопрос о композиции этой поэмы остается спорным.
[1] J. Bornays, Ueber das Phokylideische Gedicht. Берлин, 1856.
[2] O. Goram в журн. Philologus, 1859, XIV, стр. 91 слл.
8. КСЕНОФАН
Фокиладом заканчивается ряд гномических поэтов древней Греции, и элегия получает другое направление - философское, которое более удовлетворяло требованиям того времени, В VI веке до н. э., в связи с развитием благоприятных экономических условий, особенно в ионийских колониях Малой Азии, стал развиваться интерес к общим вопросам о происхождения мира, о природе вещей, о религии. Являются первые мыслители-философы, которые пытаются дать ответ на эти вопросы. Предание сохраняло имена первых философов, а также ответы, которые они давали на волновавшее их вопросы. Это были ионийцы Фалес, Анаксимандр, Анаксимен и Гераклит. Они считала началом всего то воду, то воздух, то огонь, то нечто беспредельное. Изложение и критика их учения составляют задачу не история литературы, но философии, поэтому здесь касаться их не будем.
Среда древнейших греческих философов была и философы-поэты, которые излагали свое учение в поэтической форме. Эта черта заставляет остановиться в истории литературы на их творчестве. Древнейшим из философов-поэтов был Ксенофан.
По свидетельству Диогена Лаэртского (IX, 20), расцвет таланта Ксенофана относится к 60-й олимпиаде (540-537 гг. до н. э.). О жизни Ксенофана мало известно. Мы знаем, что в юности он был изгнан из родного Колофона враждебной ему политической партией и переселился в Сицилию, где проживал некоторое время в Занкле и Катане. Потом он переехал в Южную Италию, чтобы слушать Пифагора, и жил в Элее. Время смерти Ксенофана в точности неизвестно. Деметрий Фалерский и стоик Панетий говорят, что он достиг глубокой старости (Диоген Лаэртский IX, 20); но не указывают, сколько лет он прожил.
Ксенофан, так же как и другие философы, задавался вопросами о происхождении мира и религии. Сохранились отрывка его сочинения "О природе", написанного дактилическим гексаметром (см. выше, гл. X, стр. 175). Касаясь общих вопросов,. волновавших многих его современников, Ксенофан не мог оставить в стороне греческих мифов и религиозных воззрений. К ним он относится критически, отрицательно. Не следует воспевать, говорят он, битвы титанов, гигантов и кентавров, все это - выдумки прежних времен (фр. 1). Критикуя религиозные верования современнков, Ксенофан указывает, что люди приписывают божеству свои собственные черты и свойства, которых боги не имеют. Если бы львы, быки и лошади имели руки и могли рисовать, то лошади изображали бы божество в виде лошади, быки - в виде быка, - словом, божество приняло бы ту форму, какую имеют существа, поклоняющиеся ему. В представлениях людей о божестве отражаются даже черты племени. Иначе изображают божество эфиопы, иначе фракийцы. Но бог, говорит Ксенофан, не имеет человеческого образа. Он весь - око, разум, ухо. Ленин выразил эту мысль так: "Боги по образу человека".[1] Признавая антропоморфизм греческой религии созданием поэтов, Ксенофан порицает Гомера и Гесиода, которые приписывают богам то, что считается позорным у людей, - воровства, разврат и взаимный обман (фр. 11).
Ксенофан не побоялся выступить против общепринятых в его время религиозных представлений. Он смело высказал свои мысли и в других случаях. Так, он резко выступал против преклонения перед физической силой, между тем как его современники окружали величайшим почетом победителей на олимпийских состязаниях. Выше силы физической - сила разума, - говорит он, и неразумно я несправедливо ставить телесную силу выше мудрости (фр. 2).
Афиней сохранил значительный отрывок (24 стиха) из одной элегии Ксенофана, в котором изображен пир (фр. 1).
Вот уж пол подметен, руки вымыты, вымыты кубки...
Кто возлагает на нас дивно сплетенный венок;
Кто по порядку разносит душистое масло в сосудах;
Высится тут же кратер, полный утехой пиров;
Есть и другое в кувшинах вино, что сулит не иссякнуть, -
Сладкое: нежных цветов слышится в кем аромат;
Посередине хором льет ладан свой запах священный;
Чаши с холодной водой, сладкой и чистой, стоят;
Хлеб перед нами лежит золотистый, и гнется под грудой
Сыра и сотов густых пышно разубранный стол;
Густо украшен цветами алтарь, что стоит среди зала;
Песня, и пляска, и пир весь переполнили дом ...
Прежде всего благочестных толпа священною песнью
И речью чинной своей бога восславить должна.
Но возлиянье свершив и о том помолясь, дабы силы
Были дарованы пир благопристойно провесть -
Это ближайший наш долг! - не грех столько выпить, чтоб каждый,
Если не дряхл он, домой и без слуги мог дойти.
А из гостей тех почтим, кто, и выпив, нам с честью докажет,
Что добродетель живет в памяти, в слове его.
(Перев. Г. Ц.)
В этих стихах изображена живая и яркая картина античного пира, с его обстановкой, с дымящимся ладаном на алтаре, с возлияниями и молитвой богам. Местом пира, вероятно, предполагается родной Ксенофану Колофон, в котором в то время процветали богатство, роскошь и пиры.
Кроме элегий, Ксенофан составлял также пародии и силлы, от которых сохранились лишь незначительные отрывки. В одном из них Ксенофан пародирует Гомера.[2]
Произведения Ксенофана пользовались большой известностью в античном мире и в эпоху Византии. Об его воззрениях, учении и стихах встречаются упоминания у Аристотеля, Плутарха, Афинея, Диогена Лаэртского, Диодора Сицилийского, Климента Александрийского и многих других. Нельзя не обратить внимания и на то, что в начале "Панегирика" Исократа упрек крайнему увлечению греков атлетическими состязаниями выражен так же решительно и резко, как и у Ксенофана. Это, несомненно, свидетельствует о том, что Исократ был знаком с элегиями Ксенофана и разделял некоторые его взгляды. В римской литературе упоминают о Ксенофане Цицерон и Макробий.
В русской литературе находим подражание Ксенофану в стихотворении Пушкина: "Чистый лоснится пол; стеклянные чаши блистают".[3] С Ксенофаном Пушкин познакомился, не по греческому тексту, а по французскому переводу Лефевра.
[1] В. И. Ленин. Философские тетради, стр. 263.
[2] Diels, Poet, philos, fragm. Берлин, 1901, стр. 41 сл.
[3] А. С. Пушкин, Соч., т. II, стр. 224. М., 1936, Гослитиздат.
9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕГИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
Содержание элегической поэзии древних греков не исчерпывается произведениями тех немногих поэтов, о которых мы говорили. Жизнь выдвигала множество и даровитых и бездарных поэтов, создания которых бесследно погибли в веках. Некоторых мы знаем только по именам или по мелким отрывкам, не дающим возможности составить более или менее определенную характеристику автора, мотивов его творчества, формы и языка его произведений. В сборниках Т. Бергка "Poetae lyrici Graeci" и Э. Диля "Anthologia lyrica graeca" пред нами проходит целый ряд поэтов - творцов элегии: Клеобулина, Меланфий, Архелай, Эвен, Критий и множество других.
Слагали иногда элегии и такие авторы, литературная деятельность которых относится не к элегии, а к совершенно иному жанру, - например, эпик Асий, трагики Эсхил, Софокл и Эврипид, комики Эпихарм и Менандр, историк Фукидид и др.
Несомненно, дошедшие до нас имена поэтов и фрагменты их произведений не исчерпывают всего творчества греческого народа в области элегии. Мы стоим теперь пред развалинами великого здания.
Период греческой элегии до александрийского времени - самый богатый разнообразием мотивов, которые были в ней развиты и художественно представлены. В это время элегия служила целям политическим, военным и патриотическим; элегическим метром воспевалась и любовь, излагались нравственные поучения; наконец, в элегию проникает и философский элемент. Элегия развивалась в тесной связи с жизнью и ее запросами. Широта содержания элегии, разнообразие затронутых в ней вопросов зависели от того, что в первом периоде ее развития другие виды лирической поэзии не стояли еще на большой высоте, а эпос утратил свое преобладающее значение. Проза еще недостаточно развилась, чтобы выражать все оттенки мысли и служить не только истории, но и философии. Древнейшей формой греческой истории была не проза, а метрическая форма. Поэтому древнейшая элегия служила для выражения почти всех явлений жизни. Но по мере того как стали развиваться другие виды поэзии и прозы, содержание элегии стало суживаться. Вопросы политические и моральные, вопросы исторические и философские стали достоянием прозы. Причина этого понятна. Только проза, не стесненная формой изложения, как это бывает в поэзии, может быть полной выразительницей всех оттенков мысли. Наконец, на долю элегии осталось изображение личных чувств поэта, главным образом чувства любви. Это чувство является преобладающим в элегии александрийского периода.
Глава XIV ЯМБИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
1. ЗНАЧЕНИЕ И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТЕРМИНА "ЯМБ". ФОРМЫ ЯМБА
Введение ямба в метрические формы лирики в древности некоторые ученые приписывали Архилоху, но этот метр существовал, несомненно, раньше Архилоха, у которого он является в форме уже вполне развитой и разработанной. Основы ямба кроются в народных, быть может, религиозных песнях древних греков, - в песнях, прославлявших богиню земного плодородия Деметру. Достаточно вспомнить, что эпонимом термина "ямб" была упоминаемая в мифах о Деметре служанка элевсинского царя Келея Ямба. В мифах о Деметре рассказывалось, что эта богиня, разгневавшись на богов вследствие похищения Плутоном ее дочери Персефоны, оставила Олимп и переселилась на землю в образе бедной старухи. Она пришла в Элевсин и там нашла приют в доме Келея в качестве няни его сына Демофонта. Поре богиня было так велико, что она не прикасалась к пище до тех пор, пока ее не рассмешила своими непристойными шутками Ямба.
Едва ли этим метром составлялись древние гимны в честь Деметры, так как его быстрый темп не соответствует торжественному характеру гимнов. Но в культе Деметры была одна особенность: обычай осыпать участвовавших в празднике насмешками и язвительными шутками. С культом Деметры были тесно связаны элевсинские мистерии. Когда торжественная процессия подходила из Афин к Элевсину, Гефирейцы (жреческий род), жившие недалеко от моста на одном из притоков Кефиса, осыпали участников процессии насмешками. Из процессия отвечали им тем же. Эти шутки нередко бывали грубы и циничны, очевидно, в память Ямбы. Здесь можно было применять ямбическую форму, которая близко подходит к темпу разговорной речи, на что указал уже Аристотель в своей "Поэтике".
Что касается этимологического происхождения слова ἴαμβος, то древние лексикографы производили его от глагола ἴάπτειν. Но между ἴάπτειν и ἴαμβος нет ничего общего. Вероятно, термин "ямб" - ἴαμβος произошел от названия ἰαμβύκη - инструмента, под звуки которого первоначально исполнялись ямбы, так же как элегия получила свое название от фригийского elêgn, названия инструмента, сопровождавшего исполнение элегии. Аристотель (у Афинея 182 сл.) говорит, что ямбика - фракийский инструмент, следовательно ямб - фракийского происхождения.
С термином ἴαμβος у греков соединялось представление о шуточном характере произведения.
В отличие от дактилического гексаметра, в стихах ямбических отношение арсиса к тесису равняется 2:1, поэтому размер этот у теоретиков греческой метрики называется двойным (γένος διηλάσιον) между тем как в дактилическом гексаметре арсис равен тесису (γένος ἴσον). Счет стоп в ямбе шел по диподиям (соединение двух стоп), вследствие чего стих, состоящий из шести стоп, назывался не гексаметром, а триметром. В нечетных стопах ямб мог заменяться спондеем, и тогда стих получал такую форму:
Ū - U - Ū - U Ū - U -
Что касается исполнения ямбических стихов, то, по свидетельству Плутарха, Архилох ввел различное исполнение ямбических стихов: одни читались под аккомпанемент музыки, другие пелись.[1]
[1] Плутарх, О музыке, гл. 28.
2. АРХИЛОХ
Древнейшим ямбические поэтом считался Архилох. Расцвет его техники, по "Паросской хронике", относится к четвертому году 24-й олимпиады (681 г. до н. э.). Кроме того, время жизни Архилоха определяется упоминанием в одном из фрагментов его стихотворений о солнечном затмении (фр. 74), которое произошло 6 апреля 648 г.[1] Эти данные, не определяющие точно года рождения Архилоха, дают, однако, основание относить его жизнь к середине VII века до н. э.
Обстоятельства жизни Архилоха мало известны. Главным источником являются те отрывочные данные, какие можно извлечь из стихотворений самого поэта.
Архилох был сыном знатного паросского гражданина Телесикла а его рабыни Энипо́. Телесикл, повинуясь дельфийскому оракулу, основал колонию на острове Фасосе, где проживал некоторое время и Архилох. Поэт часто упоминает о Фасосе. Там ему, как видно, жилось не легко. Он говорит, что над Фасосом нависли бедствия всей Эллады, что он оплакивает печальную судьбу фасосцев (фр. 20, 52). Наконец, он оставил Фасос и начал странствовать. Он побывал во Фракии, на острове Эвбее, в Олимпии, в Спарте и даже в Италии. В одном из фрагментов (фр. 21, ст. 4) Архилох говорит о "волнах Сириса" - реки, протекавшей в Южной Италии. Во время путешествий у Архилоха бывало много приключений, и ему пришлось перенести не мало бедствий. Во Фракию, как и во многие другие места, завлекла его военная служба. Бедность заставила Архилоха служить наемником в войсках различных греческих государств-городов. Сам Архилох смотрел на себя не только как на поэта, но и как на воина: "Я слуга владыки Эниалия [т. е. Арея, бога войны], но мне знаком также сладостный дар муз" - говорит Архилох.[2] Были моменты, когда он, захваченный тревожной бурной военной жизнью, мог сказать, что копьем замешан его хлеб, копьем добыто исмарийское вино и он пьет, опершись на копье (фр. 2). Эти стихи были навеяны ему жизнью во Фракии (Исмар - фракийский город). Здесь, во Фракии, Архилоху не посчастливилось: отряд, в котором он служил, был разбит саийцами (фракийское племя), и Архилоху пришлось спасаться бегством. Вспоминая об этом поражении, Архилох добавляет, что он бросил свой щит (фр. 6):
Носит теперь горделиво саиец мой щит безупречный:
Волей-неволей пришлось бросить его мне в кустах.
Сам я кончины за то избежал, и пускай пропадает
Щит мой. Не хуже ничуть новый могу я добыть.
(Перев В. В Вересаева)
Так говорить о своей "трусости" могут только храбрые. Несомненно что он бежал со своим побежденным отрядом, но ему не стыдно сознаться в том, что пришлось уступить превосходившей силе. Упоминание Архилоха о щите становится впоследствии шаблонным. И Алкей и Анакреонт также говорят о брошенных ими щитах, а много лет спустя и Гораций нашел не излишним упомянуть о щите, брошенном им в битве при Филиппах (Македония).[3] По словам Плутарха, это стихотворение Архилоха было для него причиной большой неприятности. Когда Архилох пришел в Спарту, лакедемоняне приказали ему немедленно удалиться, так как он в своих стихах сказал, что лучше потерять оружие, чем умереть.[4]
На Эвбее и в других местах Архилох, вероятно, побывал как наемный воин, а не как путешественник. В Италию он пришел как участник в предприятии колофонских граждан, чтобы основать колонию у реки Сириса. В Олимпию привлекли его величественные олимпийские игры, и в честь победителей он составил торжественный гимн: "Тенелла! Радуйся славный победитель, владыка Геракл" (фр. 119). Этот гимн много лет спустя после смерти Архилоха пели друзья олимпийских победителей, сопровождая их в торжественной процессии после оглашения имен победителей.
Во время странствований Архилох нередко попадал в опасные бури. Отзвуки тяжелых переживаний остались во многих фрагментах его стихов
Жарко моляся средь волн густокудрого моря седого
О возвращенья домой...
(Перев. В. В. Вересаева)
говорит Архилох в одном стихотворении (фр. 11).
Полная тревог и опасений жизнь наемника-воина не дала Архилоху материального обеспечения. Он часто нуждался и открыто говорил о своей бедности: "Я протягиваю руку, я прошу милостыню". Но он мужественно переносил невзгоды своей жизни. Полнейшим презрением к богатству дышат слова поэта (фр. 25):
О многозлатом Гигесе не думаю
И зависти не знаю. На деяния
Богов не негодую. Царств не нужно мне.
Все это очень далеко от глаз моих.
(Перев. В. В. Вересаева)
В другом фрагменте слышится призыв к спокойному перенесению превратностей жизни (фр. 66):
Сердце, сердце! Грозным строем встали беды пред тобой.
Ободрись и встреть их грудью, и ударим на врагов!
Пусть везде кругом засады, - твердо стой, не трепещи.
Победишь, - своей победы на показ не выставляй,
Победят, - не огорчайся, запершись в дому, не плачь. ·
В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй.
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт.
(Перев. В. В. Вересаева)
Архилоху пришлось пережить много горя, много неудач. Особенно большое огорчение принесла ему неудачная любовь к Необуле, дочери Лчкамба. Суровый воин, слуга Эниалия, глубоко увлекся прекрасной Необулой. "Старик влюбился бы в ту грудь, в те миром пахнувшие волосы", - говорит Архилох (фр. 30). С большой нежностью рисует он, как Необула (фр. 29)
Своей прекрасной розе с веткой миртовой
Она так радовалась! Тенью волосы
На плечи ниспадали ей и на спину.
(Перев. В. В. Вересаева)
Ликамб согласился выдать свою дочь за Архилоха. Согласна была и Необула. Но почему-то произошел разрыв, сильно потрясший Архилоха. Он забыл о своих наставлениях - "в меру горевать в бедствиях". Его печаль разразилась в неумеренной злобе. Он стал преследовать неприличными, доходящими до крайнего цинизма стихами Необулу, ее отца и сестер. Сохранилось предание, будто под влиянием этих стихов дочери Ликамба лишили себя жизни. Но это позднейший вымысел. Мы не находим такого рассказа у писателей, ближайших по времени к Архилоху.
Стихотворения Архилоха носят субъективный характер. То, что он лично переживал, нашло яркое отражение в его произведениях. К своим врагам Архилох относился очень злобно. Он не признает прощения и примирения с ними (фр. 65):
В этом мастер я большой:
Злом отплачивать ужасным тем, кто зло мне причинит.
(Перев. В. В. Вересаева)
Архилоху не чуждо было и чувство глубокой привязанности. Он очень любил мужа своей сестры и сильно горевал, когда тот утонул во время бури. Некоторое время Архилох даже пал духом и не хотел писать стихов, говоря, что ему не идут на ум ни ямбы, ни утехи.
Но чувства Архилоха были непостоянны; среди его фрагментов, имеющих отношение к той же близкой Архилоху утрате, читаем (фр. 13):
Плачем я ничего не поправлю, а хуже не будет,
Если не стану бежать сладких утех и пиров.
(Перев. В. В. Вересаева)
Поэтическая деятельность Архилоха была очень разнообразна и по содержанию и по форме. Он слагал не только ямбы (триметры и тетраметры), но также элегии, гимны, эпиграммы и басни. Кроме олимпийского гимна в честь Геракла (фр. 119) сохранились отрывки его гимноб Деметре (фр. 120), Гефесту (фр. 75) и др. Из басен Архилоха до нас дошли отрывки только двух: "Обезьяны" и "Лисица и Орел". Насколько можно судить по отрывкам, поводом для этих басен послужило Архилоху столкновение его с Ликамбом. Афиней (XIV, 639) упоминает еще об эротических стихотворениях Архилоха, но от них не сохранилось ничего.
Архилох составлял также эпитафии. До нас дошла трогательная эпитафия в честь жителей Наксоса Мегатима и Аристофонта (фр. 17). Архилоху приписывалось также введение эпода и так называемых ἀσυνάρτητοι στίχοι. Эти стихи представляют сочетание различных полустиший; например, полустишие дактилическое соединяется с ямбическим или трохеическим, но при этом связь между отдельными полустишиями так слаба, что в конце каждого полустишия допускается syllaba anceps.
Архилох погиб во время войны паросцев с жителями острова Наксоса, как истинный служитель Эниалия, каким он себя называл.
Архилох принадлежит к числу наиболее выдающихся греческих лириков. Насколько можно судить но сохранившимся до нас отрывкам его произведений, он обладал редкой отзывчивостью к современной ему жизни. Он был участником колониального движения, которое проявилось в Греции с большой силой в его время. Это движение ярко отразилось в его стихах. Так же ярко отразилась в них и личная жизнь поэта. В стихах Архилоха изображены его скитания, битвы, в которых он принимал участие, бури, грозившие ему гибелью, его любовь, страдания и радости, его отношение к друзьям и врагам, его взгляды на жизнь.
Архилох не придавал большого значения мнению людей, мотивируя это непостоянством убеждений, которое так часто встречается. Поэтому он мало заботился о том, чтобы о нем хорошо говорили. Он не придавал большого значения своей поэтической деятельности, своей славе. Со смертью все для человека кончается и незачем ставить вопрос, будут ли сограждане уважать его или порицать. Он обладал чуткой наблюдательностью, которая давала ему возможность подмечать то, что оставалось для других незаметным. Он отличался меткостью выражений и способностью в немногих словах высказать многое. Архилох не только обладал искусством влить в свои образы жизнь и придать им подходящие черты, но он порвал связь с традиционной фразеологией эпопеи и писал так же просто, как проста была его жизнь.
Архилох был хорошо знаком с Гомером и многим был обязан ему, но не в гомеровских образах искал он вдохновения. Из эпических поэтов некоторое влияние имел на него Гесиод, у которого Архилох заимствовал прием излагать мысли в форме басни. Чувства и мысли возникали у Архилоха под непосредственным впечатлением действительности, а слов для их выражения он искал в живом языке. У него редко встречаются стихи, которые были бы подражанием или заимствованием у других поэтов. Отсюда то впечатление живости и естественности, какое производят на читателя даже незначительные фрагменты его стихов.
В конце XIX века число фрагментов Архилоха несколько увеличилось. В одной рукописи библиотеки Страсбургского университета были найдены два фрагмента стихотворений Архилоха.[5] Один из них так незначителен, что содержание его не может быть целиком восстановлено. В другом Архилох накликает тяжкие беды на своего бывшего друга, который, нарушив данную клятву, чем-то обидел его.
...Бурной носимый волной.
Пускай близ Салмидесса ночью темною
Взяли б фракийцы его
Чубатые, - у них он настрадался бы,
Рабскую пищу едя!
Пусть взяли бы его, закоченевшего.
Голого, в травах морских,
А он зубами, как собака, ляскал бы,
Лежа без сил на песке
Ничком, среди прибоя волн бушующих.
Рад бы я был, если б так
Обидчик, клятвы растоптавший, мне предстал, -
Он, мой товарищ былой!
(Фр. 2, Диль. Перев. В. В. Вересаева)
Еще один фрагмент стихотворений Архилоха был найден на острове Паросе. Это надпись, содержащая рассказ об историке Демее, который писал об Архилохе. Здесь приводится цитата из стихотворения Архилоха, сюжетом которого была борьба паросцев с фасосцами. Фрагмент очень испорчен, и многое в нем не восстановлено.[6]
Произведения Архилоха были очень распространены в древней Греции.[7] Его влияние замечается в стихотворениях Феогнида, Семонида Аморгского, Алкея, Сапфо, Пиндара и др. Замечается оно и в греческой трагедии. У Эсхила, Софокла и Эврипида можно найти и мысли и целые выражения, заимствованные у Архилоха. Особенно велико его влияние на греческую комедию, в которой было много родственного с его поэзией как по форме, так и по содержанию.
Плутарх говорит о поэтическом творчестве Архилоха: "Архилох изобрел ритмопею триметров, их соединение с ритмами неоднородными - паракаталогу (мелодраматический речитатив) и инструментальный аккомпанемент, подходящий к этим различным видам пения. Ему приписывается первое применение эподов, тетраметров (трохаических), кретика (дитрохея) просодиака, удлинение героического гексаметра, и некоторыми - еще элегический дистих".[8] Плутарх приписывает Архилоху еще много различных нововведений в области греческой лирики, но, несомненно, он ошибается, соединяя в лице Архилоха творчество других поэтов его времени, имена которых до Плутарха не дошли.
Но были и противники Архилоха, осуждавшие его произведения, - Платон, Аристотель, Гераклит. В александрийские времена Архилох подвергся нападкам Каллимаха, который находил его ямбы слишком грубыми. Особенно сильно порицали Архилоха христианские писатели, например Ориген, указывавший на то, что в его стихотворениях находится много несогласного с требованиями нравственности.
Интерес к произведениям Архилоха сохранился даже в Византии. Ритор Синесий читал его стихи со своими учениками.[9]
В римской литературе знакомство с Архилохом заметно у Катулла и Горация. Катулл заимствовал у него некоторые метрические формы. Гораций с гордостью говорит, что он первый познакомил римлян с творчеством Архилоха:
... Первый паросские ямбы
Лацию я показал; Архилоха размер лишь и страстность
Брал я, не темы его, не слова, что травили Ликамба.[10]
(Перев. Н. Гинцбурга)
Однако приведенный выше фрагмент, из библиотеки Страсбургского университета, представляет большое сходство с X эподом Горация и по самой теме. Гораций, по видимому, любил Архилоха и, уезжая в деревню из Рима, брал с собой его произведения вместе с Платоном, Менандром и Эвполидом.[11] Кроме того в римской литературе знакомство с Архилохом заметно у Луцилия и Катона Младшего. С большой похвалой отзывается об Архилохе и Квинтилиан.[12]
[1] Затмение, упоминаемое Архилохом, вычислено венским астрономом Оппольцером (SB d. Ак. d. Wiss, in Wien, 1882).
[2] В другом месте Архилох говорит: „Меня будут называть наемником, как карийца“ (фр. 24).
[3] Гораций, Оды II, 7, 9 сл.
[4] Плутарх, Lacon. Inst., гл. 34. Схолиаст Аристофана объясняет, что τήνελλα — подражание звуку флейты.
[5] Эти отрывки опубликованы впервые Рейценштейном в SB d. Preuss. Ak. d. Wiss, 1899, стр 857 сл.
[6] См. JG. XII, 5, 445; E. Diehl, Anthologia lyrica graeca, fr. 51.
[7] Α. von Blumenthal, Die Schätzung des Archilochos im Altertum. Штутгарт, 1922.
[8] Плутарх, О музыке, гл. 28.
[9] K. Krumbacher, Qeschichte der byzantin. Literatur. Мюнхен, 1897, стр. 218.
[10] Гораций, Послания, I, 19, ст. 23 сл.
[11] Гораций, Сатиры, II, 3, ст. 11 сл.
[12] Квивтилиан, О воспитании оратора X, 1, 60: „Summa in hoc (Archilocho) vis elocutionis, cum validae tum breves vibrantesque sententiae, plurimum sanguinis atque nervorum“.
3. СЕМОНИД АМОРГСКИЙ
Сведения о жизни Семонида очень малочисленны. Из словаря Свиды узнаем, что Семонид был сын самосца Кринея. Когда самосцы отправляли свою колонию на остров Аморг, Семонид стал во главе переселенцев и остался на жительство в этой колонии, вследствие чего он получил название Аморгского. Древние хронографы относили основание самосской колонии на Аморге к 22-й олимпиаде (692-689 до н. э.). Если это достоверно, то Семонид был современником Архилоха, даже несколько старше его. Но Прокл в своей хрестоматии относит жизнь Семонида к правлению македонского царя Анании (это имя испорчено, его исправляют на Аргей) (640-610 гг. до н. э.). На основании таких противоречивых дат нельзя сделать точного вывода о времени жизни Семонида. Язык Семонида и следы влияния на него Архилоха ясно указывают на то, что он был моложе этого поэта.
По словам Свиды, Семонид слагал элегии и создал две книги ямбов. До настоящего времени дошли только довольно значительные отрывки ямбов Семонида, сохраненные византийским писателем Стобеем. Указанные отрывки долго приписывались другому поэту, Симониду Кеосскому. Начало этой ошибке положил французский ученый Анри Этьен в издании греческих лириков 1560 г. Ошибка долго удерживалась в позднейших изданиях под влиянием авторитета Этьена. Она замечается даже в таких изданиях греческих лириков, как Р. - Ф. Брунка (1776 г.) и Ф. Буассонада (1828 г.). В 1825 г. Ф. Велькер в статье, помещенной в "Rheinisches Museum", доказал, что эти стихотворения принадлежат Семониду Аморгскому, а не Симониду Кеосскому.
В одном из фрагментов (фр. 1 Бергк⁴) Семонид, обращаясь к какому-то юноше (по имени он его не называет), поучает, как тяжела человеческая жизнь. Исполнение всего, говорит Семонид, зависит от Зевса, который все направляет по своей воле, а люди ничего не знают; они живут подобно животным, не ведая, куда каждого из них направит судьба. Их поддерживает лишь надежда. Они стремятся к недостижимому. Нет человека, который не надеется достигнуть счастья, но одних подавляет прежде времени незавидная старость, других - тяжкие болезни, иные падают на поле битвы или погибают в морских волнах во время бури, а некоторые кончают даже самоубийством. Тысячи страданий, зол и горестей повсюду стерегут людей, заключает Семонид. "По-моему, -говорит он, - ни к бедствиям стремиться нам не нужно бы, ни духом падать, раз они настигли нас".
Высказанные в этих стихах мысли не оригинальны. Это мысли общего характера, по видимому, широко распространенные у современников и предшественников Семонида. Его стихи напоминают поучения, уже раньше высказанные другими поэтами - Архилохом, Феогнидом. Стихотворение написано ямбами.
Другой большой отрывок ямбов Семонида также сохранен Стобеем. Тут мы находим сатирическое изображение женских типов. Поэт объясняет различие женских характеров происхождением женщины от различных начал. Одни произошли от свиньи: такие женщины отличаются неряшеством; другие - от лисицы: они обладают хитростью; иные - от собаки: это женщины порывистые и злобные. Некоторых боги создали из земли: такие женщины не умеют отличать добро от зла, для них существует только одно дело - есть; они отличаются такой леностью, что, страдая от холода, не придвинут скамейки к огню. Некоторые созданы от морской волны: такие женщины отличаются красотой, но изменчивый непостоянны, как море. Семонид представляет еще ряд различных типов женщин, происходящих от осла, ласки, лошади, обезьяны, и во всех поэт видит дурное. Хороши только те, которые произошли от трудолюбивой пчелы.
...Такая - счастья дар.
Пред ней одной уста злословия молчат.
Растет и множится достаток от нее;
В любви супружеской идет к закату дней,
Потомство славное и сильное родив.
Средь прочит жен она прекрасней, выше всех.
Пленяя прелестью божественной своей.
(Фр. 7. Перев. Я. Голосовкера)
Таким образом, хотя Семонид находит, что большинство женщин отличается крупными недостатками, но все-таки он допускает возможность существования и хороших женщин, вносящих в дом мужа радость и счастье. Во второй части этого фрагмента, начиная со ст. 94, тон поэта резко меняется. Здесь проводится безотрадная мысль, что Зевс создал в лице женщины величайшее зло, и поэт не находит никакого утешения в этом зле. Такая разница в тоне между первой и второй частями этого фрагмента дала основание некоторым ученым (Бергк, Бернгарди) думать, что вторая часть фрагмента, после ст. 94, принадлежит не Семониду, а какому-то другому поэту.
Семонид был не первым греческим поэтом, так дурно думавшим о женщинах. Уже Гесиод в поэме "Труды и Дни" (ст. 375) сказал: "доверять женщине то же, что доверять вору". В "Феогонии" (ст. 590 сл.) Гесиода также встречаются нападки на женщин, причем Гесиод замечает, что даже в той женщине, которая обладает умом и хорошей нравственностью, добро борется со злом. Нападки на женщин встречаются у многих других поэтов. По видимому в VII-VI веках до н. э. в Греции было распространено дурное мнение о женщине. Очень показательно, что Солон в своих законах весьма сурово и недоверчиво отнесся к женщине. По свидетельству Плутарха: "Разрешив афинским гражданам передавать по завещанию свое имущество кому угодно, не принимая во внимание родства, он обусловил, чтобы завещание не было сделано в болезненном состоянии, или по какому-либо принуждению, или по совету женщины". Кроме того, Солон издал еще много и других постановлений, ограничивавших права женщины и выражавших недоверие к ним, как, например, запрещение ходить ночью пешком без факела. Плутарх замечает, что "большая часть" этих постановлений сохраняется и в его время.[1] Нельзя не вспомнить, что и в Спарте и в Афинах были особые магистраты γοναικονόμοι, наблюдавшие за поведением женщин, между тем как аналогичных магистратов для особого наблюдения за поведением мужчин не было. Это показывает, что женщина была поставлена в древней Греции в худшее положение, чем мужчина. Конечно, это положение в различных областях и в различные периоды было различно, но из стихотворений Семонида можно заключить, что в его время оно было неблагоприятным. Только на такой почве и при таких условиях могла явиться поэма Семонида "О женщинах". Если проследить параллелизмы в греческой литературе, то оказывается, что в тех фрагментах стихотворений Семонида, где он порицает женщин и выводит различные их типы, нет ничего, что принадлежало бы ему лично, что было бы результатом его индивидуальных наблюдений и размышлений. Весь материал заимствован у него из народных поговорок, пословиц, басен и изречений, а также из произведений более ранних поэтов, в особенности Гесиода.
Сатира Семонида не ограничилась критикой только общих явлений быта и нравов. Подобно Архилоху, он нападал и на отдельные личности, например на Ородикида,[2] но эти нападки не были резки и язвительны. Их нельзя и сравнивать со стихами Архилоха, направленными против Ликамба и его дочерей. Сатира Семонида сильна там, где она теряет личный характер и получает характер общий.
Кроме этих больших отрывков Семонида, у Страбона, Афинея, в схолиях к Гомеру и у византийских лексикографов сохранилось много фрагментов Семонида, часто не более одного стиха и даже полустишия, представляющих совершенно отрывочные мысли. Обобщить их очень трудно. Но эти фрагменты свидетельствуют о том, что Семонид не был забыт даже в Византии.
[1] Плутарх, Солон, гл. 21.
[2] Lucian., Pseudologist., 2.
4. ГИППОНАКТ
После Семонида наиболее выдающимся ямбографом был Гиппонакт. Время его жизни может быть определено только приблизительно. "Паросская хроника" (Marmor parium 42) относит расцвет его таланта к 59-й олимпиаде (544-541 гг. до н. э.), Плиний (Ест. ист. XXXII, 11) - к 60-й олимпиаде (540-537 гг.), а Прокл - к четвертому году 64-й олимпиады (521 г.). Родина Гиппонакта - Эфес. Гиппонакт был изгнан из родного города тирранами Афиногором и Комой. Древние авторы ничего не говорят о причинах изгнания. Гиппонакт не принимал участия в общественной жизни и не принадлежал ни к одной из политических партий, боровшихся в то время в Эфесе. В виду этого можно полагать что он навлек на себя гнев тираннов стихами, в которых он осыпал их насмешками. Но изгнание из отечества не причинило Гиппонакту большого горя. В его стихах не заметно той тоски, той скорби о потере родины, какая замечается в подобном случае у большинства древних авторов.
Гиппонакт избрал местом жительства Клазомены и там провел всю свою жизнь, вследствие чего получил прозвание Клазоменского. Но и здесь жизнь его не протекала спокойно, и здесь он нажил себе врагов. Среди них особенно выдавались скульпторы Бупал и Афенид. Они сделали карикатурное изображение Гиппонакта и выставили его напоказ. Это сильно раздражило Гиппонакта, и он начал мстить своим врагам стихами, которые язвительностью и грубостью походили на стихи Архилоха. Существовало предание, будто оба скульптора были так потрясены стихами Гиппонакта, что лишили себя жизни. Но это позднейшая выдумка, составленная по аналогии с рассказом о самоубийстве дочерей Ликамба.
Гиппонакт нередко говорит о своей бедности и обращается с мольбой о помощи к богам. "Гермес, - умоляет он в одном стихотворении, - дорогой Гермес! Дай плащ Гиппонакту и сандалии, потому что мне очень холодно". В другом стихотворении Гиппонакт обращается к богу богатства Плутосу (фр. 20):
Богатства бог, чье имя Плутос, - знать, слеп он!
Под кров певца ни разу не зашел в гости
И не сказал мне: "Гиппонакт, пока тридцать
Мин серебра тебе я дам: потом - больше".
Ни разу так он не зашел в мой дом: трус он!
(Перев. Вяч. Иванова)
Быт народа, среди которого жил Гиппонакт, он изображает без прикрас, в его реальных чертах, нередко с заметной склонностью к карикатуре и пародии. В его стихах отражается и окружавшая его бедность и пестрота населения Клазомен, в языке которого было много местных и негреческих элементов. Отражаются и отношения поэта к друзьям, которые, как видно, мало помогали ему, и взгляды его на женщин. Среди фрагментов Гиппонакта сохранились два едких сатирических стиха (фр. 29):
Два дня всего бывают милы нам жены:
В день свадьбы, а потом в день выноса тела.
(Перев Г. Ц.)
От Гиппонакта сохранились только мелкие отрывки, между тем как еще в XII веке, по словам византийского писателя Иоанна Цеца, было известно несколько книг его стихотворений.[1] Язык Гиппонакта в своей основе - древнеионийский диалект, но поэт вносил в него местные областные слова и даже некоторые слова из языка тех народов, с которыми приходилось сталкиваться грекам Малой Азии. Кроме того, Гиппонакт создавал новые слова. В этом отношении он проложил путь древним греческим комикам, которые во многом ему подражали. Гиппонакт смело порвал с традиционным языком эпопеи и внес в свой язык то, что приходилось ему слышать в окружавшей его среде.
Гиппонакту принадлежит еще особое нововведение в форму метра. Он внес в свои произведения метр, по всей вероятности заимствованный из народной поэзии, получивший название холиямба, т. е. хромого ямба. Это - ямбический триметр, оканчивающийся трохеем; он имеет в основном такую форму:
U - U - U - U - U - - Ū
До александрийского периода холиямб слабо прививался в греческой поэзии. Не много можно указать поэтов, писавших этим размером вскоре после Гиппонакта. Но в период александрийский холиямбом писали небольшие поэмы, мифологические рассказы, сцены из домашней жизни и басни.
Кроме ямбов и холиямбов, Гиппонакт употреблял также дактиль, применяя этот метр в своих пародиях. Гиппонакта в древности некоторые ученые признавали отцом пародии, например Полемон у Афинея (XV, 698c). Однако это мнение не было общепринятым. Аристотель приписывал первые пародии Гегемону Фасосскому (Поэтика, гл. 6). Но Аристотель ошибся: Гегемон жил позже Гиппонакта, его жизнь относится к периоду Пелопоннесской войны. Время появления пародии в греческой литературе неизвестно; этот вопрос является еще и теперь спорным, но несомненно, что пародия была в ходу раньше Гиппонакта. Так, в приписывавшемся Гомеру гимне "К Гермесу" (ст. 36) пародируется, ст. 368 поэмы Гесиода "Труды и Дни". Кроме того, пародии встречаются у Ксенофана, который был старшим современником Гиппонакта. Но все-таки нельзя не признать, что впервые у Гиппонакта пародия является в наиболее определенной форме среди сохранившихся до нас фрагментов греческих лириков. Он заимствует из эпоса не его возвышенные образы, но высокий слог, его метр, для того чтобы воспевать личностей ничтожных, явления смешные.
Ямбические поэты, жившие после Гиппонакта, очень мало известны, так как от них сохранились лишь незначительные отрывки, не дающие возможности составить характеристику автора. То или другое заключение будет гадательным и мало обоснованным. Наиболее ценные и типичные черты их творчества кроются, судя по свидетельству древних, не в тех отрывочных стихах, какие от них сохранились, а в том, что до нас не дошло. Нам известны имена Анания, Дифила, Гермиппа - современника Перикла, и многих других, но эти имена связаны с незначительными фрагментами. Можно заметить лишь одно: в этих фрагментах не так ярко проявляется элемент сатиры, как у Архилоха, Семонида и Гиппонакта. Очевидно ямб перестает служить сатире, он становится метром другого литературного жанра - трагедии. Нельзя не заметить и того, что ямб развивался у греков слабее других видов лирической поэзии и не захватывал таких разнообразных и сложных вопросов, какие находим в элегии. Он послужил как бы звеном между лирикой и драмой.
[1] Цец, К Ликофрону, 24.
Глава XV ПРОСТЕЙШИЕ ФОРМЫ МЕЛИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ
1. ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА "МЕЛОС". ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ МУЗЫКА
Значительно шире элегии и ямба развился у греков мелос. Древнейшее определение термина "мелос" находим у Платона (Государство III, p. 398d): τὸ μέλος ἐκ τριῶν εστίν σνγκείμενον λόγου τε καὶ ἁρμονίας καὶ ῥυθμοῦ, т. е. "мелос состоит из трех частей: слова, гармонии и ритма". В этом определении музыкальный элемент представляется столь же необходимым, как и текст стихотворения. Под гармонией Платон имеет в виду музыку, а ритм выражался не только в напеве, но получал и внешнее выражение в танцах. Поэтому творческая деятельность мелических поэтов простиралась и на танцы. .Писавший мелическое стихотворение и составлял музыку к нему и сочинял соответствующие танцы, Таким образом, мелос представляет соединение трех элементов: слова, музыки и танца. Мелические стихотворения не декламировались, а пелись под звуки струнных инструментов.
У греков было много видов мелической поэзии, но различие между ними для нас неуловимо, так как оно основывалось на различии музыкальных мотивов. В основе греческой музыки было пять гармоний (ладов): дорийская, ионийская, эолийская, фригийская и лидийская. У Афинея (XIV, 624c) сохранились отрывки из Гераклида Понтийского, где он говорил о характере греческих национальных гармоний: дорийской, ионийской и эолийской. Дорийская гармония, по его словам, отличалась торжественным мужественным характером. В ней не было веселья, ее мелодии были строги и серьезны. Эолийская гармония носила черты эолийского племени: она отличалась веселым характером, теплотой чувства, была полна движения, силы, самоуверенности и гордости. Ионийская приближалась к дорийской тем, что греки называли словом "величие". Эта гармония не была веселой. Она имела оттенок тревоги, тоски, томления.
На ряду с этими национальными гармониями у греков были в ходу лидийская и фригийская. Лидийская гармония была печальна, плавна и всего более подходила к исполнению женским голосом. Поэтому она преобладала во френах - надгробных песнях. Фригийская гармония отличалась энтузиастическим характером. Она служила для выражения сильных порывов и стремительных движений человеческого чувства и применялась в молитвах при жертвоприношениях, когда нужно было тронуть божество поэтической мелодией. Кроме этих основных гармоний у греков было много второстепенных, представлявших различные вариации основных. Таких вариаций насчтывалось около пятнадцати; они вводились в греческую музыку постепенно и были в ходу не одновременно, а в различные периоды развития греческой музыки.
Музыка получила в Греции и теоретическую разработку. Древнейшие теоретические труды по музыке принадлежали Пифагору Самосскому, но о них сохранились только обрывочные упоминания у некоторых древних писателей (Плутарх, Филолай). Исследования Пифагора по музыке имели значение потому, что он вычислил величину интервалов звуков в зависимости от длины струн. О том, как Пифагор смотрел на музыку, Плутарх говорит: "Пифагор, отвергая значение музыки, основанной на восприятии чувством, утверждал, что ее качества должны быть воспринимаемы умом. Поэтому он судил о музыка не по слуху, а на основании математической гармонии, и находил, достаточным ограничить изучение музыки только одной октавой".[1]
Значительно проще было учение о музыке Платона. В "Государстве" Платон говорит, что главное значение музыки заключается в том, что ритм и гармония с величайшей силой проникают в глубь человеческой души и могучим образом влияют на ее красоту. Внося с собой красоту, она делает человека красивым, но только при условии правильного пользования музыкой. В противном случае действие музыки будет обратное.[2] Платон придавал музыке большое моральное и воспитательное значение и считал необходимым изучать ее. Но некоторые гармонии, - синтонолидийскую, миксолидийскую, лидийскую и ионийскую, как слишком чувственные, нежные и уместные более на пирах, - он не одобрял, допуская только дорийскую и фригийскую (р. 398e сл.).
Аристотель ставит вопрос - что является целью музыки: удовольствие, или моральное развитие, или развитие интеллекта, и решает, что музыка удовлетворяет всем этим целям. Особенно сильно выдвигает Аристотель ее моральное значение: "Моральное влияние музыки особенно доказывают песни Олимпа, - говорит Аристотель. - По общему признанию, они наполняют нашу душу энтузиазмом, а энтузиазм - чувство морального порядка в нашей психике".[3]
Для характеристики гармоний (ладов) очень интересно и важно то, что говорит о них Аристотель, который их слышал и вдумывался в их характерные черты: "Музыкальные гармонии существенно отличаются одна от другой, так что, слушая их, мы переживаем различные настроения, и к каждой из них мы относимся не одинаково. Некоторые из них вызывают печальное и подавленное настроение, например так называемая миксолидийская; другие, слабые, нежат нас; среднее и наиболее устойчивое настроение вызывает, как кажется, только одна из гармоний - дорийская; а фригийская возбуждает энтузиазм".[4] Плутарх упоминает о двух современниках Аристотеля - Главке Регийском и Гераклиде Понтийском, которые написали большие труды о музыке Гераклид Понтийский написал о музыке три книги, одна из которых содержала перечень музыкантов. Сочинение Главка, также в трех книгам, носило заглавие "О древних поэтах и музыкантах". Труды эти до настоящего времени не сохранились, но из них много сведений почернул Плутарх в трактате "О музыке".
Наиболее выдающимся из древние теоретиков музыки был Аристоксен Тарентский, живший в IV веке до н. э. Расцвет его деятельности падает на конец IV века до н. э. Это был очень плодовитый писатель, но из его работ до нас дошли только три книги "Элементов гармонии" и "Элементы ритмики". Несколько фрагментов из последней работы найдено в 1898 г. в одном из оксиринхских папирусов, Аристоксен в начале своей деятельности находился под влиянием Пифагора, полагая в основу изучения музыки числовые отношения, но вскоре он порвал с пифагорейцами и стал выводить законы музыки из основ акустики.
Теория греческой музыки продолжала интересовать и увлекать многих ученых и после Аристоксена. Среди них встречаются имена Эвклида, Эратосфена, Аристида, Книнтилиана и др.
Важное значение как источник для изучения истории и отчасти теории древнегреческой музыки имеет труд Плутарха Херонейского "О музыке", сохранившийся до настоящего времени. Здесь в форме разговора между музыкантом Лисием и философом Сотерихом Плутарх дает много ценного материала для изучения древнейшего периода греческой музыки и лирики вплоть до начала Пелопоннесской войны. В этом трактате Плутарха особенно ценны те места, где он ссылается на более древних авторов: Аристоксена, Гераклида Понтийского, Главка Регийского и Ласа Гермионского. Для характеристики гармонии древнегреческой музыки имеют большое значение те главы, где Плутарх говорит о лидийской и миксолидийской гармонии. Ссылаясь на Аристоксена, Плутарх сообщает, что лидийская гармония была введена Оленом, а миксолидийская- поэтессой Сапфо. Очень интересны также сообщаемые Плутархом сведения об Архилохе (гл. 28 и 29), о Филоксене (гл. 30) и др. Музыка привлекала к себе внимание античных писателей в римский и византийский периоды. О музыке писал современник императора Тиберия Фрасилл. Большое значение имели труды по греческой музыке Клавдия Птолемея (II век н. э.) и Аристида Квинтилиана, время жизни которого в точности неизвестно. От Квинтилиана сохранилось до настоящего времени три книги "О музыке". Кроме того, различные заметки о древнегреческой музыке встречаются у многих авторов римского и византийского времени. Особенно много ценного материала по древней музыке находится у византийского лексикографа Юлия Полидевка, В течение этого длительного периода, от древнейших времен до Византийской эпохи, изменялись теоретические взгляды на музыку, на ее основы, на ее общественное и воспитательное значение. Для истории мелоса важнейшее значение имеют древнегреческие гармонии, (лады), их мелодии и характер, так как они были тесно связаны с характером самого текста.
Кроме литературных источников до нас дошли и эпиграфические памятники по греческой музыке, случайно найденные при археологических раскопках. Так, в 1883 г. во время раскопок американского ученого М. Рамсея в Траллах (Лидия) был найден надгробный памятник музыканта Сейкила. На этом памятнике вырезаны небольшие стихи с нотными значками. Эта надпись относится к III веку до н. э. Другой эпиграфический памятник, имеющий значение для истории греческой музыки, был найден в Дельфах при раскопках, производившихся французской археологической школой в 1893 г., - это гимн в честь Аполлона, также снабженный нотными значками (II век до н. э.). Эти значки расшифрованы, и мелодия дельфийского гимна Аполлону была переложена на современные ноты.
Кроме того, в некоторых рукописях и находимых в Египте древних папирусах иногда встречаются тексты греческих поэтов, снабженные нотными значками. Но, конечно, всего этого далеко не достаточно для ясного представления о греческих гармониях.
Греческий мелос, так же как и все виды литературного творчества, развивался в тесной связи с жизнью народа и народным творчеством. Элементы содержания и формы мелоса были даны ему народной поэзией. Мы уже видели, что песни, связанные с трудом, с людскими радостями и горем, с культом богов, существовали раньше создания гомеровских поэм. В общественной жизни греков большое значение имели культы различных богов, для прославления которых уже в глубокой древности стали слагаться песни. Предание греков представляет древнейших, - можно сказать, мифических - поэтов Олена, Мусея и Орфея творцами гимнов, и только гимнов.
Древнейшие лирические поэты составляли номы, просодия, парфении, гипорхемы, френы и дифирамбы. Все эти песни были посвящены богам. В Олимпии гимн Архилоха в честь Геракла прозвучал раньше эпиникиев Пиндара. С течением времени мелические поэты начали прославлять и людей, - сначала "героев", а потом и обыкновенных смертных. Таким образом, возник новый вид мелоса - энкомин и эпиникии. Основные формы мелических песен не всегда оставались неизменными. Так, номы в V веке до н. э. получили драматический характер, а пеаны, исполнявшиеся целым хором, стали, по свидетельству Прокла, исполняться иногда одним голосом. Дифирамбы - песни в честь Диониса - положили начало трагедии, когда сюжетом их стали страсти (πάθη) не Диониса, а людей. Постоянно в мелосе, так же как в элегии и ямбической поэзии, развивается и личный, индивидуальный колорит. Песни мелоса нередко выражают уже личную радость и личное страдание, - создаются радостные эпиталамии, страстные песни любви и печальные надгробные песни. Так в мелосе отражаются и социальные отношения и личная жизнь.
Необходимо отметить еще одну черту мелоса. Между тем как элегия и ямб разрабатывались ионийцами и на ионийском диалекте, мелос развивается среди дорийцев и эолийцев. Особенной высоты достиг мелос у дорийцев; связь его с дорийским диалектом была так сильна, что хоровые песни в аттической драме составлялись на этом диалекте.
[1] Плутарх, О музыке, гл. 39.
[2] Платок, Государство III, гл. 12, 401 de.
[3] Аристотель, Политика VIII, 5, 6, 1340d.
[4] Там же, VIII, 5, 8, 1340b. Учение Аристотеля о гармонии излагает Плутарх (О музыке, гл. 23).
2. ДОРИЙСКИЙ МЕЛОС. ТЕРПАНДР, КЛОН, ФАЛЕТ
Творцом дорийского мелоса древние греки считали Терпандра. О времени его жизни сохранились разноречивые сведения. Одни утверждали, что Терпандр жил раньше Архилоха, другие относили его жизнь к более позднему времени. По свидетельству Гелланика (Афиней XIV, 635e), Терпандр одержал в 26-й олимпиаде (676-673 гг. до н. э.) победу на карнейских состязаниях, совершавшихся в Спарте в честь Аполлона. По Плутарху (О музыке, гл. 4), имя Терпандра было четыре раза занесено в списки победителей на Пифийских играх, установление которых относится к 590 г. до н. э. Наконец, "Паросская хроника" относит расцвет поэтической деятельности Терпандра к 33-й олимпиаде (648-645 гг. до н. э.), При таком разногласии древних свидетельств время жизни Терпандра не может быть определено точно. Оно колеблется между первой половиной VII и началом VI века до н. э.
Терпандр происходил из лесбосского города Антиссы, но жил и действовал не на родине, а в Спарте. Причина этого неизвестна. Сохранилось предание, что Терпандр был приглашен в Спарту для того, чтобы успокоить возникшую там внутреннюю борьбу. Творческая деятельность Терпандра относится, главным образом, к области музыки. Он считался основателем первого музыкального периода (κατάοτασις) в Спарте. Его деятельность как музыканта плодотворнее его поэтической деятельности. Терпандру приписывается введение семиструнной лиры взамен четырехструнной. Если это действительно нововведение Терпандра, то понятно, как велика была его заслуга в греческой музыке. Введение семиструнной лиры давало вместо четырех тонов целую гамму.
Второй заслугой Терпандра является разработка кифародических номов. Номы исполнялись на праздниках, во время торжественных собраний, под звуки кифары, почему и называются кифародическими. До Терпандра номы состояли из четырех частей: ἀρχά, κατάτροπα, ὀμφαλός, σφραγίς. Терпандр придал номам более сложную форму. О композиции их мы не можем судить непосредственно, потому что до нас не сохранилось ни одного Терпандрова нома, но представление о них можно составить на основании кифародического гимна к Деметре, составленного Каллимахом. Отсюда можно заключить, что позднейший кифародический ном разделялся на семь частей: ἀρχά - введение; μέταρχα - та часть, в которой мысль, высказанная во введении, получает свое развитие; затем поэт переходит к изложению мифа, положенного в основу его песни. Это изложение охватывает три части: κατάτροπα, μετακατάτροπα и ὀμφαλός, причем важнейшая часть рассказа излагается в ὀμφαλός. Дальше идет σφραγίς, где поэт приготовляется к заключению. В этой части излагались общие мысли, наставления (γνῶμαι). Наконец, заключение - ἐπίλογος.
Музыкальная деятельность Терпандра так понравилась спартанцам, что они установили обычай во время карнейских празднеств вызывать на состязание сначала певцов школы Терпандра, а затем уже других поэтов. Долгое время ученики Терпандра признавались победителями на этих состязаниях. Последним победителем из школы Терпандра был Периклет (60-я олимпиада - 540 г. до н. э.). Но школа Терпандра продолжала существовать еще до 75-й олимпиады (480 г. до н. э.).
Кроме номов, Терпандр составлял также сколии, но из всех его стихотворений до настоящего времени дошел только один фрагмент, считающийся подлинным произведением Терпандра (фр. 1 Бергк⁴). Приписывавшиеся ему стихи уже в древности вызывали сомнение в их подлинности (Страбон ХШ, 4, р. 618).
Деятельность Терпандра относилась к области струнных инструментов. После него явились поэты-музыканты, разработавшие духовую музыку. Среди них особенной известностью пользовался Клон. Он происходил из аркадского города Тегеи, но свою жизнь проводил в Фивах. Время рождения и смерти Клона неизвестно. Плутарх (О музыке, 5) говорит, что он жил несколько позже Терпандра, но раньше Архилоха. Клона считали творцом авлодических номов, т. е. таких номов, которые исполнялись под звуки флейты. Эти номы имели печальный характер. Поэтическая деятельность Клона была обширна и разнообразна. Он составлял просодии - песни, исполнявшиеся хором в торжественных праздничных процессиях, и элегии, но они до нас не дошли даже в отрывках.
После Терпандра выступил в Спарте другой певец, обладавший большим творческим талантом - Фалет, уроженец критского города Гортины. Причины, побудившие Фалета переселиться в Спарту, неизвестны. Было предание, что Фалет приехал в Спарту по просьбе лакедемонян для того, чтобы умилостивить богов во время чумы. Но на основания этого предания нельзя точно определить время жизни Фалета, так как чума в Спарте была нередким явлением. Несомненно только то, что он жил позже Терпандра. Фалет изменил характер спартанских гимнопедий, т. е. танцев, исполнявшихся нагими юношами. Гимнопедии были установлены в память о победе, одержанной спартанцами над жителями Аргоса при царе Феопомпе.
Гимнопедии имели характер военных состязаний. Фалет придал гимнопедиям характер мирных танцев, исполнявшихся с музыкой и пением. Таким образом, был сделан большой шаг вперед в развитии мелоса. Кифародические номы Терпандра и авлодические номы Клона исполнялись одним голосом, между тем как песни Фалета стали исполняться целым хором. Вследствие этого Плутарх (О музыке, гл. 9) называет Фалета вместе с Ксенодамом Киферским, Ксенокритом Локрийским, Полимнестом Колофонским и Сакадом Аргосским главными деятелями второго музыкального периода в Спарте.
Фалет перенес в Спарту песни своей родины, песни Крита, где уже в глубокой древности были в ходу песни с музыкой и танцами (Ил. XVIII, 590 сл.). На Крите были распространены танцы, исполнявшиеся в честь Аполлона - гипорхемы (ὑπορχήματα) и в честь Ареса - пирриха (πυρρίχη). Фалет перенес эти танцы в Спарту и составлял применительно к ним песни. Но быстрым движениям гипорхем и пиррихи уже не соответствовали спокойные и торжественные темпы дактиля и спондея, которые преобладали у Терпандра и Клона. Поэтому Фалет ввел иные размеры, разработанные у критян, так называемый кретик (- U -) и его разновидность пеон (-UUŪ) который имел четыре вида, в зависимости от положения долгого слога в стопе. Эти метры давали возможность сообщать песням много движения и быстроты.
Мы видим, как постепенно шло развитие мелической поэзии. Поэзия и музыка соединялись, и песня сопровождалась звуками музыкальных инструментов. Песни исполнялись то одним голосом, то целым хором, соединявшим ритмические звук с ритмическими движениями. Таким образом подготовлялся переход песни к строфе, которая была введена в мелоc Алкманом.
3. АЛКМАН
Алкман ; жил в Спарте, но не был ее уроженцем, а происходил из лидийского города Сард. Относительно того, как Алкман попал в Спарту и почему он там остался жить, сохранились разные предания. Гераклид Понтийский говорит, что Алкман был рабом богатого спартанца Агесида, который отпустил, его на свободу за его поэтический талант (Müller FHG II, 210). Но Элиан в своих "Пестрых историях" (XII, 50) сообщает, что Алкман, как Терпандр и Фалет, был приглашен спартанцами в трудные времена. Разобраться в этих противоречиях едва ли возможно.
Расцвет таланта Алкмана Аполлодор (у Гесихия) относит к 27-й олимпиаде (670 г. до н. э.), а Евсевий. - к 30-й олимпиаде (660 г.). Алкман не принадлежал к школе Терпандра. Некоторое влияние оказал на него Фалет, но Алкман не остался его подражателем, а проявил самостоятельное творчество. Поэтическая деятельность Алкмана была очень разнообразна и плодотворна. Александрийские ученые разделяли его стихотворения на шесть книг, но от них сохранилось очень немного. До половины прошлого века из стихотворений Алкмана были известны только незначительные отрывки, часто не больше одного стиха. Только в 1855 г. был найден (французским ученым Мариэттом папирус, в котором оказался довольно значительный отрывок Алкманова гимна, составленного для девичьего хора.[1] Это - один из парфениев, одна из тех девичьих песен, которыми Алкман особенно прославился. Он не создал этот жанр, а заимствовал его из народных песен, бывших в ходу в Спарте, и применил его к торжественным праздничным песням.
Найденный Мариэттом папирус хранится в настоящее время в Лувре. Текст этот очень испорчен и не представляет целой песни. Здесь нет ни начала, ни конца, вследствие чего трудно определить, какому божеству был посвящен этот гимн. Эгже полагал, что он посвящен Диоскурам. Бергк считает это стихотворение гимном в честь Артемиды. Первое предположение более основательно, так как в самом начале этого фрагмента воспеваются Диоскуры. После божеств поэт прославляет сыновей Гиппокоонта, убитых Гераклом, а затем переходит от мифологических сюжетов к похвале девушкам - исполнительницам песни. Во главе хора стояли девушки Агесихора и Агидо. Поэт прославляет их красоту, сравнивая их то с солнечными лучами, то со звездами, то с блеском золота и серебра.
В этом парфении характерно то, что поэт не ограничивается мифологическими сюжетами, как его предшественники, а обращается к исполнительницам песни. Это был шаг вперед в развитии мелоса. В стихах Алкмана мелос получил новое направление. У него открывается возможность, прославив богов, перейти к людям, к их подвигам, достоинствам, красоте.
Г. Флах в своей "Истории греческой лирики" (стр. 300), вполне правильно замечает, что, подобно тому как Сократ свел философию с неба на землю, так Алкман свел религиозную лирику с высот Олимпа и сделал ее доступной для прославления людей. Соединение элементов, взятых из мифологии и из действительной жизни, сделало возможным появление эпиникиев и энкомиев.
Кроме парфениев, Алкман писал еще гимны. В древности были известны его гимны в честь Зевса Ликейского, Кастора и Полидевка, Геры, Аполлона, Артемиды и Афродиты. Алкман составлял также эротические стихотворения. Об этом свидетельствуют Афиней (XIV, 600) и Свида. Но отрывки его эротических стихотворений так незначительны, что характеризовать их невозможно. Однако эротический элемент широко разлит в произведениях Алкмана.
Алкман любил красоту не только людей, но и природы. Как глубоко он чувствовал ее, можно видеть из картины, изображающей покой ночи, тихий сон, в который погружена природа.
Спят вершины высокие гор и бездны провалы,
Спят утесы и ущелья,
Змеи, сколько их черная всех земля ни кормит,
Густые рои пчел,
Звери гор высоких
И чудища в багровой глубине морской.
Сладко спит и племя
Быстро летающих птиц.
(Перев. В. В, Вересаева)
Мотив глубокого сна природы, поэтически представленный в этих стихах Алкмана, встречается, как далекое эхо этих стихов, у Вергилия (Энеида IV, 5z2-527), Овидия, Ариосто, Тассо, Мильтона,[2] в известном стихотворении Гёте, начинающемся словами "Ueber allen Gipfeln ist Ruh". В вольном подражании Лермонтова стихам Гёте он прозвучал и в русской поэзии: "Горные вершины спят во тьме ночной..." О любви Алкмана к природе свидетельствуют и те стихи, где он говорит, что ему известны все птичьи напевы. И, быть может, в их пении он искал красоту звуков для своих песен.
Год смерти Алкмана неизвестен, но из стихов Алкмана видно, что он дожил до глубокой старости, которая уже тяготила его.
В языке Алкмана заметны лаконские формы, но они встречаются не во всех его стихотворениях, а только в тех, в которых поэт изображает спартанскую жизнь, и когда он обращается к лакедемонянам. В общем язык Алкмана представляет смесь дорийского и эолийского диалектов, которые вообще свойственны греческому мелосу.
Метры Алкмана отличаются большим разнообразием. У него встречаются все метры, выработанные до него греческим эпосом и лирикой: гексаметр, ямб, трохей, кретик, ионики и др. Кроме того, Алкман ввел в мелос бакхические метры.
Из песен Алкмана особенно любимы были в Греции его парфении (девичьи песни). Они исполнялись хорами девушек много лет спустя после смерти поэта. Благодарные спартанцы поставили Алкману памятник, который видел еще Павсаний (III, 15, 2).
Известность и влияние Алкмана не ограничились пределами Спарты. Его песни широко распространились в Греции. Реминисценции из Алкмана, встречающиеся часто у аттических комиков, свидетельствуют о том, как известны были его произведения в Афинах; некоторые мотивы его стихотворений отразились в римской поэзии, а также в средневековой и новейшей литературе.
[1] Этот фрагмент был впервые издан французским ученым Ε. Egger в 1863 г. в его „Mémoires d'histoire ancienne et philologie“. Cp. H. Jurenka, Der ägyptische Papyrus des Alkman (SB d. Ak. d. Wiss. in Wïen, 1896, т. 135).
[2] См. C. M. Bowra, Greek lyrik poetry. Оксфорд, 1936, стр. 74.
4. ЭОЛИЙСКИЙ МЕЛОС. АЛКЕЙ
Мелическая поэзия, получившая литературную обработку у дорийцев, развивалась в дальнейшем в связи с религиозным культом греков. Деятельность древнейших творцов дорийского мелоса - Терпандра, Клона и Фалета - была направлена преимущественно на разработку номов, песен религиозного характера. В поэзии Алкмана песни, связанные с культом, насколько можно судить по сохранившимся фрагментам, имели преобладающее значение. Не оставались не затронутыми в дорийском мелосе и другие стороны жизни древних греков: в песнях дорийских лириков мы находим выражение личных чувств поэта и чувств общечеловеческих; но политические и социальные мотивы в них почти отсутствуют.
Другой характер носит эолийский мелос. С самого начала своего развития он стоит в тесной связи с политическими и социальными явлениями современной поэту жизни. Это зависело от того, что эолийский мелос развивался на острове Лесбосе, где во время жизни древнейшего творца мелоса Алкея шла ожесточенная борьба аристократии с тираннией. Кроме внутренней борьбы, митиленцы - жители главного города Лесбоса - вели и внешнюю борьбу с афинянами из-за обладания Сигеем, городом в Троаде, имевшим важное стратегическое и торговое значение. Все это находило свой отзвук в песнях эолийских певцов. Но, кроме того, в них отражалась и личная жизнь поэта; в эолийском мелосе отдельная личность, личная радость и личное страдание выступают гораздо ярче, чем в дорийском.
Содержанию эолийского и дорийского мелоса соответствовала и их форма. Дорийские мелики составляли свои песни для хорового исполнения, что было согласно с общим характером этих песен, а у эолийцев песни, выражавшие чувства, составлялись, главным образом, для одного голоса. Конечно, и у эолийцев были песни, распевавшиеся целым хором, но все-таки блеск эолийской поэзии проявлялся не в них, а в песнях, предназначавшихся для одного голоса. Дорийский мелос отличался, от эолийского более сложными формами. У дорян строфы были обширны, у эолийцев строфа отличалась такой простотой, что нередко слагалась из двукратного повторения одного и того же метрического члена. Главное содержание эолийского мелоса - выражение личных чувств поэта - сказалось и на языке песен, они слагались на живом лесбосском наречии: во время сильных душевных волнений человек прибегает к тому языку, на котором он обыкновенно говорит и думает. Иногда замечается примесь ионийского диалекта, указывающая, как велико было влияние греческого эпоса на греческую лирику.
Алкей был родом из лесбосского города Митилены. Годов его рождения и смерти не знали уже древние греки. Они определяли время его жизни на основании тех упоминаний об исторических событиях, какие встречаются в его стихотворениях. Главным основанием для хронологических определений послужили нападки Алкея на Питтака. Но и время жизни последнего в точности неизвестно. Вследствие этого возникло несколько противоречивых указаний на даты жизни Алкея. Свида относит его жизнь (т. е. расцвет таланта) к 42-й олимпиаде (612-609 гг.), а Евсевий (Chron. II, 92) - ко второму году 46-й олимпиады (595/594 гг.). Алкей жил во время борьбы аристократии с тираннией на острове Лесбосе. С юных лет он принимал в этой борьбе деятельное участие. Когда в Митилене утвердился тиранн Меланхр, Алкей со своими братьями и с Питтаком лишили его власти. Но после этого междоусобная борьба на Лесбосе не прекратилась; вскоре власть в Митилене захватил другой тиранн - Мирсил, правление которого оказалось еще более тяжелым и жестоким, чем правление Меланхра. Мирсил был низвергнут. Затем прошло двадцать лет во внутренней борьбе на Лесбосе и в борьбе с внешними врагами. Алкей принимал участие в военных действиях. В сражении митиленцев с афинянами при Сигее (около 600 г. до н. э.) он бежал, бросив щит, о чем откровенно говорит в своих стихах. Наконец, утомленные междоусобиями лесбосцы избрали Питтака эсимнетом (правителем), и ему удалось восстановить внутреннее спокойствие. Но между Алкеем и Питтаком возникли несогласия, вследствие чего Алкей оставил Лесбос. Возвратился на родину он только после того, как Питтак отказался от власти. Все превратности своей судьбы Алкей воспел в стихотворениях, полных глубокого чувства.
Стихотворения Алкея, дошедшие до нас лишь в небольших фрагментах, были так многочисленны, что александрийские ученые разделили их на десять книг. Особенной известностью пользовались Στασιωνικά Алкея, т. е. "Песни борьбы", в которых отразились современная Алкею борьба лесбосской аристократии с тираннией. Один из отрывков, относящихся к песням борьбы, изображает дом, в котором собрано оружие. Идет подготовка к восстанию, поэт призывает заговорщиков к действию:
Медью воинской весь блестит,
Весь орудием убран дом -
Арею в честь.
Тут шеломы, как жар, горят,
И колышутся белые
На них хвосты.
Там медяные поножи
На гвоздях поразвешаны;
Кольчуги там.
Вот и панцыри из холста;
Вот и полые, круглые
Лежат щиты.
Есть булаты халкидские.
Есть и пояс, и перевязь:
Готово все!
Ничего не забыто здесь;
Не забудем и мы, друзья, -
За что взялись!
(Перев. Вяч. Иванова)
В одном из фрагментов Алкей, очевидно под влиянием политических волнений в Митилене, сравнивает государство с кораблем, который буря бросает в разные стороны:
Пойми, кто может, буйную дурь ветров!
Валы катятся - этот отсюда, тот
Оттуда... В их мятежной свалке
Носимся мы с кораблем смоленым,
Едва противясь натиску злобных волн.
Уж захлестнула палубу сплошь вода;
Уже просвечивает парус,
Весь продырявлен. Ослабли скрепы.
(Перев. Вяч, Иванова)
После Алкея сравнение страдающего от междоусобных волнений государства с кораблем в бурную погоду часто встречается в античной поэзии. Из римских поэтов этому стихотворению подражал Гораций в оде "Ad navem" (Ι, 14). К своим политическим врагам Алкей относился беспощадно, он не допускал примирения с ними даже после их смерти. Когда умер тиранн Мирсил, Алкей восклицал в ликующей песне:
Пить, пить давайте! каждый напейся пьян!
Хоть и не хочешь, - пьянствуй! - Издох Мирсил![1]
(Перев. Вяч. Иванова)
Встречаются нападки Алкея и на Питтака, которого Алкей, убежденный аристократ, считал недостойным из-за его низкого происхождения стоять во главе государства.
Кроме "Песен борьбы", Алкей писал гимны. Сохранились отрывки его гимнов к Аполлону, Гермесу, Афине, Гефесту и Эроту. В сборник стихотворений Алкея входили также застольные и эротические песни, дошедшие до нас только в незначительных отрывках. В застольных песнях Алкей чаще всего воспевал вино. Он советует прежде всего сажать виноградную лозу и смотреть на вино как на дар божества. В одном фрагменте (фр. 14 Бергк⁴) Алкей говорит:
"Сын Зевса и Семелы [Дионис] дал человеку вино, приносящее забвение скорби. Наливай же мне полные чаши, пусть одна следует за другой".
Отрывки эротических стихотворений Алкея очень незначительны. Самые большие из них заключают не более четырех стихов. В одном из них встречается имя Сапфо, которой Алкей делает робкое признание в любви. В другом он прославляет красавицу Крино, которую Хариты щедро осыпали своими дарами. Сохранился также один фрагмент, имеющий характер серенады (δέξαι με κ. τ. λ.). Поэт, возвращаясь с пирушки, просит свою возлюбленную принять его (фр. 55):
В дверь стучусь, ночной гуляка:
Отвори мне, отвори!
(Перев. Вяч. Иванова)
Метры Алкея отличаются большим разнообразием. В отрывках его стихотворений можно найти большинство метров, введенных раньше него в греческую лирику. Кроме того, он внес в свои стихи новый метрический размер, получивший название "алкеевой строфы".
Стихотворения Алкея пользовались большой известностью в древней Греции. Об этом свидетельствуют нередко встречающиеся у Аристофана пародии на его стихи (Птицы, 1410- фр. 135; Осы, 1234 - фр.31). Александрийские ученые Аристофан и Аристарх составили критические издания стихотворений Алкея. Знакомство с Алкеем замечается у Феокрита (Ид. 29, 30). О гимнах Алкея упоминает Плутарх (О музыке, гл. 14). О нем встречаем упоминание у Павсания (X, 8, 9). Дионисий Галикарнасский хвалит у Алкея величие, краткость и убедительную силу в сочетании с благозвучием и изящной поэтической формой (Дион. Галик. II, 8).
Известность и слава Алкея не померкли и в период римской империи. О нем нередко упоминает Гораций, представивший в одной из своих од (Оды II, 13, 26 сл.) Алкея в царстве мертвых, окруженного толпой теней, которые безмолвно внимают его песням об изгнании тираннов, о пережитых им тяжких бедствиях на море, в изгнании, на войне. Гораций заимствовал у Алкея его знаменитую алкееву строфу, которая состоит из четырех стихов. Из них два (по 11 слогов) состоят из хореев (с анакрузой и усечением последнего хорея) и дактиля (третья стопа). Третий стих (9 слогов) состоит из четырех хореев с анакрузой, а четвертый (10 слогов)- из двух дактилей и двух трохеев. Схема этой строфы такова:
Ū-U - Ū - UU - U -
Ū- U - Ū - UU - U -
U - U - Ū - U - Ū
- UU -U Ū - U- -
[1] Этому стихотворению также подражал в одной из своих од Гораций (I, 37).
5. САПФО
Современницей Алкея была поэтесса Сапфо, называвшаяся на местном лесбосском наречии Псапфа. И сама она называет так себя в одном из своих стихотворений (фр. 1)· Ни место рождения Сапфо, ни время ее рождения и смерти в точности неизвестны. В сохранившейся до нас краткой биографии Сапфо, находящейся у Свиды, сна считается уроженкой лесбосского города Митилены, а по Афинею (X, р. 424 f) она родилась в Эресе - тоже лесбосском городе. Свида относит ее рождение к 42-й олимпиаде (612-609 гг. до н. э.). Но Евсевий считает годом расцвета ее таланта второй год 45-й олимпиады (600/599 г. до н. э). Из этих несогласных между собой указаний можно сделать только тот вывод, что Сапфо жила в конце VII и в первой половине VI века до н. э. Обстоятельства жизни Сапфо мало известны. В "Паросской хронике" (36) говорится, что она была изгнана из отечества и бежала в Сицилию. Причины изгнания Сапфо здесь не указываются. Бегство ее, по всей вероятности, было следствием борьбы политкческих партий, в которой принимал участие ее муж или кто-нибудь из близких родственников. Сапфо возвратилась на родину лишь после того, как Питтак разрешил изгнанникам возвратиться на Лесбос. По возвращении Сапфо основала школу, в которой сна обучала девушек различным наукам, пению и музыке. Эту школу она сама называет μουσοπόλος οίκία - "домом, посвященным музам". Нужно заметить, что женщины на Лесбосе, как и вообще среди эолийского племени, были гораздо свободнее, чем в Афинах. Вот почему здесь мог развиваться талант не одной только Сапфо, но и других поэтесс. В убежище муз, основанное Сапфо, стекались для ученья девушки и женщины не только с острова Лесбоса, но также и из других отдаленных мест: Милета, Колофона, Саламина и даже из Памфилии. Сапфо с большой энергией и любовью предалась своему делу. Своих учениц она окружала большой любовью и нежностью, воспевая их в своих про изведениях.[1]
Относительно Сапфо в древности ходило много рассказов, оскорбительных для ее чести. Многие считали ее развратницей, гетерой. Особенно нападали на нее поэты аттической комедии. Насколько не основательны были их нападки, можно видеть из того факта, что комический поэт Дифил представил Сапфо любовницей поэта Архилоха, жившего раньше нее почти на сто лет (Афиней XIV, 519b). Очень резко отзывались о ней некоторые византийские писатели. Так, Татиан называет Сапфо "развратной эротоманкой".[2] Но уже в древности были попытки защитить честь Сапфо, хотя средство, предназначенное для этой цели, было неудачно: говорили, что, кроме поэтессы Сапфо, на Лесбосе жила другая Сапфо, митиленская гетера; все безнравственные поступки, связанные с именем Сапфо, относили к последней. Такие же разногласия относительно нравственности Сапфо встречаются и среди западноевропейских ученых. Мэррэй [3] сурово и резко нападает на Сапфо, между тем как Ф. Велькер[4] и Г. Юренка[5] стараются оправдать ее и очистить от грязи, которой ее часто забрасывали.
Истину надо искать в том положении женщины, которое было характерно для античного мира. Энгельс говорит: "На протяжении всей древности браки заключались не заинтересованными сторонами, а их родителями, и первое спокойно мирились с этим. Та скромная доля супружеской любви, которую знает древность, - не субъективная склонность, а объективная обязанность, не основа брака, а дополнение к нему. Любовные отношения в современном смысле имеют место в древности лишь вне официального общества. Пастухи, любовные радости и страдания которых нам воспевают Феокрит и Мосх, " Дафнис и Хлоя" Лонга, - рабы, не принимающие участия в делах государства, в сфере жизни свободного гражданина. Но, помимо любовных связей среди рабов, мы встречаем любовные связи только как продукт распада гибнущего древнего мира, и притом связи с женщинами, которые также стоят вне официального общества, с гетерами, т. е. чужестранками или вольноотпущенницами: в Афинах - накануне их гибели, в Риме - во время империи. Если же любовные связи действительно устанавливались между свободными гражданами и гражданками, то только ради прелюбодеяния".[6] Из стихотворений Сапфо видно, что это была натура страстная, увлекающаяся, но нет никаких оснований считать ее такой, какой представляли ее греческие комические поэты. Нельзя не обратить внимания и на то, что Алкей в своих стихах называет ее чистой, что Платон отзывался о ней с большим уважением, что жители Митилены изображали Сапфо на своих монетах.
О времени смерти Сапфо нет указаний в древнейшей литературе. Сохранилось предание, что, влюбившись в красавца Фаона и не встретив ответа, Сапфо бросилась в море с Левкадской скалы (Левкада - остров у берегов Акарнании). Но этот рассказ не заслуживает доверия. Он распространялся с легкой руки комика Менандра, который в одном из своих произведений представил Сапфо бросающейся с Левкадской скалы (Страбон X, 452). Эта выдумка была основана на том, что Сапфо воспевала в своих стихотворениях Фаона, но Фаон был легендарный лесбосский герой, мифическое существо, похожее по своим чертам на Адониса.
Сапфо..окончила свою жизнь на Лесбосе, достигнув преклонного возраста, как можно заключить по одному из ее фрагментов (фр. 79).
Главным мотивом поэзии Сапфо была любовь. Она разлита широкой волной во фрагментах ее произведений; в них изображаются то бурные порывы страсти, то нежное томление, то пылкая ревность. Большей частью Сапфо изображает любовь неудовлетворенную, отвергнутую или не встретившую ответа. В одной песне Сапфо обращается к богине любви Афродите с мольбой сжалиться над ней. Сапфо умоляет богиню явиться к ней и дать свободно вздохнуть ей, изнывающей в тяжком томления любви. Это стихотворение, удивительное по гармония и переливам гласных звуков (особенно звука "а"), очень трудно передать в переводе: все существующие переводы его в стихах далеки от подлинника. Дионисий Галикарнасский [7] приводит это стихотворение как образец изящества и прелести. В другом стихотворении Сапфо рисует чарующее впечатление, производимое женской красотой. Едва ли можно найти в древнегреческой поэзии другое стихотворение, где сила чувства любви была бы изображена так ярко. В стихотворении разлит тот "огонь", которым, по словам Плутарха, были проникнуты эротические песни Сапфо (фр. 2):
Богу равным кажется мне по счастью
Человек, который так близко-близко
Пред тобой сидит, твой звучащий нежно
Слушает голос
И прелестный смех. У меня при этом
Перестало сразу бы сердце биться.
Лишь тебя увижу, - уж я не в силах
Вымолвить слова.
Но немеет тотчас язык, под кожей
Быстро легкий жар пробегает, смотрят,
Ничего не видя, глаза, в ушах же -
Звон непрерывный.
Потом жарким я обливаюсь, дрожью
Члены все охвачены, зеленее
Становлюсь травы и вот-вот как будто
С жизнью прощусь я.
(Перев. В. В. Вересаева)
Это стихотворение было, по видимому, вызвано выходом замуж любимой подруги Сапфо. В римской литературе вольный перевод этого стихотворения метрами подлинника дал Катулл в 51-м стихотворении. В приписывавшемся ритору Лонгину (III век н. э.) трактате "О возвышенном", это стихотворение приведено как образец художественно представленного в самых ярких чертах проявления любви.[8]
Чувства Сапфо, насколько можно судить по сохранившиеся до нас фрагментам ее стихотворений, были сильны, порывисты, жгучи, но не глубоки. Любовь, которую она переживала, не оставляла неизгладимых следов, не омрачала надолго ее души. Любовь то угасала в ней, то опять проникала в ее сердце, как сама она говорит:
Снова Эрос волнует, крушит меня,
В нем и горе и радость, с ним сладу нет.
Снова Эрос, напав, всколыхнул мне грудь,
Словно вихрь, горный вихрь, что деревья гнет.
(Перев. Г. Ц.)
Сапфо сохраняла жизнерадостность, стремилась жить в неге, радости. Она старается прогнать от себя скорбь и уныние, она не хочет, чтобы и другие горевали. Так, она запрещает горевать об ее смерти, когда она оставит этот мир, потому что печали и рыданьям нет места в том доме, где обитают музы (фр. 109). Нежной женской душой Сапфо любила природу и была отзывчива к ее красоте. Сапфо дышала одной жизнью с природой. Она беседует с наступающим вечером, с порхающей ласточкой; в ее стихах проносится дыхание ветра в листьях яблони, и трепет листьев навевает глубокий сон (фр. 4); всплывает луна, озаряющая группу девушек, собравшихся у алтаря (фр. 53); надвигается ночь, от которой веет меланхолической красой.
Бросается в глаза любовь Сапфо к цветам, из которых она особенно любила розы. Многие эпитеты и сравнения у нее связаны с этим цветком.
Среди стихотворений Сапфо особенной славой пользовались ее эпиталамии (ἐπιθαλάμια), Эпиталамии существовали в греческой народной поэзии и раньше Сапфо, но она придала им литературную обработку, воспользовавшись народными мелодиями. Содержанием эпиталамиев являлись жалобы девушек на жениха, уводившего их подругу, похвала красоте невесты и жениха и пожелания им счастья. Относительно эпиталамиев Сапфо большинство ученых полагает, что они исполнялись целым хором. Однако Г. Юренка доказывает, что это были песни для одного голоса. И действительно, в некоторых фрагментах эпиталамиев невеста говорит от своего лица (фр. 96, 102), в других говорит от своего имени Сапфо (фр. 106, 107), а это несовместимо с хоровым исполнением. Но возможно, что здесь окончание каждой строфы подхватывалось всем хором. А некоторые эпиталамии, несомненно, - хоровые песни, например следующий эпиталамий, в котором шутливо прославляется жених:
Эй, потолок поднимайте, -
О Гименей! -
Выше, плотники, выше!
О Гименей!
Входит жених, подобный Аресу,
Выше самых высоких мужей!
Выше, насколько певец лесбосский других превышает.
(Перев. В. В. Вересаева)
Целым хором исполнялась, конечно, и такая песня, как эпиталамий в честь невесты, например:
Сладкое яблочко ярко алеет на ветке высокой, -
Очень высоко на ветке; забыли сорвать его люди.
Нет, не забыли сорвать, а достать его не сумели.
(Перев. В. В. Вересаева)
В эпиталамиях звучал иногда безобидный юмор, дружеская шутка, шарж, выдвигавший какую-нибудь смешную сторону того или другого из участников брачного торжества. Например, в одном фрагменте Сапфо шутит над свадебным дружкой:
Ноги у дружки в семь футов длиной,
Сапоги у него - пять воловьих кож,
Целых десять людей их работали.
(Перев. Г. Ц.)
Сапфо сочиняла также гимны в честь богов и героев. Из слов ритора Менандра Лаодикейского (III век до н. э.) можно заключить, что это были так называемые призывные гимны (ὕμνοι κλητικοί), В этих гимнах, после перечисления тех городов и областей, которые считались особенно любимыми божеством, бога призывали явиться туда, где совершается в честь его молитва. К таким гимнам относится сохраненная Дионисием Галикарнасским песнь к Афродите:[9]
Радужнопрестольная Афродита,
Зевса дочь бессмертная, кознодейка!
Сердца не круши мне тоской-кручийой!
Сжалься, богиня!
Ринься с высей горних, - как прежде было:
Голос мой ты слышала издалече;
Я звала-ко мне ты сошла, покинув Отчее небо!
Стала на червонную колесницу;
Словно вихрь, несла ее быстрым лётом,
Крепкокрылая над землею темной
Стая голубок.
Так примчалась ты, предстояла взорам,
Улыбалась мне несказанным ликом ...
"Сафо! - слышу: - Вот я! О чем ты молишь?
Чем ты болеешь?
Что тебя печалит и что безумит?
Все скажи! Любовью ль томится сердце?
Кто ж он, твои обидчик? Кого склоню я
Милой под иго?
Неотлучен станет беглец недавний;
Кто не принял дара, придет с дарами,
Кто не любит ныне, полюбит вскоре -
И безответно ..."
О, явись опять - по молитве тайной
Вызволить из новой напасти сердце!
Стань, вооружась, в ратоборстве нежном
Мне на подмогу!
(Перев. Вяч. Иванова)
Из одной эпиграммы Диоскорида, помещенной в "Палатинской антологии" (VII, 427), видно, что Сапфо составляла френы, но от них сохранилось только несколько отрывков. Гесихий упоминает среди произведений Сапфо эпиграммы и элегии. От элегий не сохранилось ничего, а три эпиграммы, дошедшие до нас под именем Сапфо, признаются теперь не подлинными (надпись а могиле Аристы, дочери Гермоклида, эпитафия девице Тимаде и надпись в память утонувшего во время бури рыбака Пелагона).
Произведения Сапфо были не только разнообразны по своему содержанию, но и многочисленны. Александрийские ученые разделили их на девять книг, причем руководились не содержанием стихов, а их метрами. К сожалению, до настоящего времени не дошло целиком ни одного из ее стихотворений, а сохранившиеся фрагменты, кроме трех-четырех, незначительны; некоторые из них не больше одного стиха, так что составить ясное представление о том, что говорилось в этих произведениях, невозможно. Но число фрагментов стихотворений Сапфо все более увеличивается благодаря находкам папирусов с цитатами ее произведений. Кроме папирусов, сохранились стихи Сапфо и на глиняных табличках, которые служили в Египте материалом для письма у бедных людей и школьников. В 1937 г. ученая итальянка Медея Норса издала фрагмент стихотворения Сапфо, начертанный на глиняной табличке.[10] Найден он был в Египте. Благодаря этому фрагменту оказывается возможным соединить в одно целое уже известные раньше два отрывка Сапфо (фр. 5 и 6), но и этот фрагмент не имеет ни начала, ни конца. В сохранившихся стихах изображен храм. Его окружают рощи цветущих яблонь, розы, журчит поток воды, на алтарях дымится фимиам... Последние слова фрагмента еще не вполне разобраны.
В XI веке песни Сапфо и Алкея были сожжены в Византии, так как в них находили много якобы непристойного, и пламя унесло, быть может, навсегда создания поэтического гения, пред которыми много веков преклонялся античный мир. Пред нами стоят теперь неясные образы этих поэтов, выступают лишь слабые тени их созданий.
Язык песен Сапфо - эолийский диалект с примесью местного лесбосского наречия, так же как у ее соотечественника Алкея. Но, как и все лирические поэты, Сапфо не осталась чужда влиянию эпоса. У нее встречаются не только заимствованные из эпоса эпитеты (например, θεοείκελος, ῥοδοδάκτυλος "богоравный", "розоперстая"), но и формы родительного падежа на οίο.
В области метрики Сапфо прославилась введением строфы, носящей ее имя. Эта строфа состоит из четырех стихов; первые три, по 11 слогов каждый слагаются из хореев в соединении с дактилем (третья стопа), а четвертый, называемый versus Adonius, - из дактиля и хорея. Схема этого стиха следующая:
- U - Ū - U U - U - Ū
- U - Ū - U U - U - Ū
- U - Ū - U U - U - Ū
- U U - Ū
Этот метр был заимствован поэтессой из народных лесбосских песен.[11] Кроме того, Аристоксен, по слоеэм Плутарха (О музыке, гл. 16), утверждал, что "Сапфо первая изобрела миксолидийскую гармонию". Конечно, она не изобрела этой гармонии, а ввела ее в свои песни, соединив эолийскую гармонию с лидийской. Нельзя не обратить внимания на то, что у Сапфо были ученицы, приезжавшие из Лидии, от которых она могла узнать лидийские мотивы.
Произведения Сапфо отличались субъективным характером. Большинство сохранившихся фрагментов песен Сапфо выражает ее личные чувства, ее привязанности, ее вкусы. Ни в одном из фрагментов нет отклика на современные Сапфо явления политической жизни, хотя они не остались без влияния на ее жизнь. Чем было вызвано ее изгнание с острова Лесбоса, - остается без ответа в ее стихах. Стихотворения Сапфо отличались силою чувства, богатством фантазии и редкой прелестью рассказа, которую древние греки обозначали термином χάρις.
Стихотворения Сапфо пользовались в античном мире большой популярностью. Сохранился рассказ, что Солон, будучи уже глубокие стариком, услышав от своего внука стихи Сапфо, просил его еще раз продекламировать их, чтобы не умереть, не заучив такой песни. Платон (Федр, р. 235 с) называет Сапфо "прекрасной десятой музой". Аристотель говорит о почестях, какими митиленцы окружили Сапфо (Rhet. II, 1398 b.). О широкой известности в Греции стихотворений Сапфо свидетельствуют цитаты, встречающиеся у греческих авторов: у Страбона, Плутарха, Афинея, Дионисия Галикарнасского, Псевдо-Лонгина, Филострата, Юлиана и др. Цитаты из Сапфо в папирусах 1-II веков н. э. говорят о том, как распространены были ее стихи в Египте. Сапфо не была забыта и в Византии. В византийских схолиях к Аристофану и Пиндару, в схолиях Евстафия Солунского к "Илиаде", у лексикографов Гесихия и Свиды находятся упоминания об этой поэтессе и цитируются ее выражения. Эпиграммы в память Сапфо нередко встречаются на страницах Палатинской Антологии.
В древности составлялись исследования о Сапфо. Афиней упоминает сочинение Хамелеонта "О Сапфо",[12] Страбон говорит о комментаторе стихотворений Алкея и Сапфо Каллии (Страбон, 618). Сапфо пользовалась известностью не только в Греции, но и в Риме. Реминисценции из ее произведений можно отметить уже у Лукреция в его поэме "О природе вещей" (111, 152 сл.):
Но если дух потрясен сильнейшей тревогой, мы видим,
Что и душа целиком то же самое чувствует в теле:
Пот выступает на нем, бледнеет вся кожа, немеет
Оцепенелый язык, эвон в ушах, подкосились колени, и видно
Часто нам, как человек от ужаса падает наземь.
(Перев. Ф. А. Петровского)
Эти стихи почти с дословной точностью воспроизводят то, что Сапфо говорит во фрагменте 2. Катулл перевел это стихотворение очень близко к подлиннику (стихотв. 51) и подражал эпиталамиям Сапфо (стихотв. 62). Кроме того, Катулл, подобно Сапфо, часто обращается в своих песнях к самому себе; нередко Сапфо внушала ему слои сравнения и образы.
Влияние Сапфо на Горация проявилось в том, что он широкоприменял сапфическую строфу. Он представляет Алкея и Сапфо в царстве мертвых: Сапфо безмолвно внимают тени, хотя и отдают предпочтение Алкею (Оды II, 9, ст. 15 сл.). Молясь о возвращении Вергилия (Оды I, 3), Гораций подражал молитве Сапфо о благополучном возвращении на родину ее брата Харакса. Овидий составил элегическим размером послание Сапфо Фаону (Героиды XV). Это послание Овидий написал, по видимому, на основании биографии поэтессы. Кроме того, в римской литературе упоминания о Сапфо встречаются у Марциала (VII, 69) и у Стация (Сильвы V, 3, ст. 154). Хотя после сожжения произведений Сапфо в Византии в XI веке от них сохранились только отрывки, приводимые различными древними авторами, из которых два самых больших содержат: один 24 стиха (фр. 1), другой 17, - поэтическое творчество Сапфо значительно отразилось в западно-европейской и русской литературе. Большие фрагменты Сапфо переводились очень часто, и знакомство с ни ли встречается во многих литературных произведениях.[13] Кроме того, большое внимание привлекали к себе сапфические размеры, введенные и в нашу поэзию. К нам сапфическая строфа проникла раньше переводов Сапфо на русский язык. Образцы этой строфы появляются уже в "Славянской грамматике" Мелетия Смотрицкого, вышедшей в свет в 1619 г. Этот метр встречается и в стихотворениях некоторых авторов XVII и XVIII веков, например у Симеона Полоцкого, у Кариона Истомина и др. Он был заимствован вместе с силлабическим размером из польской поэзии. В XVIII и XIX веках сапфическая строфа встречается в стихотворениях А. Сумарокова, К. Павловой, В. Крестовского, А. Радищева, А. Блока, В. Брюсова, С. Соловьева, М. Гофмана и др. Так заимствованная Сапфо из народных лесбосских песен метрическая форма, пройдя ряд веков, прозвучала и в русской поэзии.
[1] Оригинальное объяснение любовных обращений Сапфо к девушкам ее хора дает И. И. Толстой („Сапфо и тематика ее песен“. Уч. Зап. Ленингр. гос. ун–та. 1939, № 3, стр. 20 сл.), опираясь на сближение ее песен с парфениями Алкмана, намеченное английским филологом Бовра (Bowra, Greek lyric poetry, Оксфорд, 1936, стр. 40). Митиленские девушки под руководством Сапфо образовали хор „служительниц муз“, имеющий сакральные цели. Обмен любовными комплиментами между участницами хора и их руководительницей, а также между собою мог иметь как бы шаблонный характер, вызываемый самой обрядностью этих песен, подобно тому как это наблюдается в парфении Алкмана (фр. 5 Η).
[2] Contra Graecos 34, 20 Шварц.
[3] Murrey, History of greek literature, т. III, стр. 315, 496.
[4] F. G. Welcker, Kleine Schriften, т. II, стр. 80 сл.
[5] H. Jurenka, Wiener Studien, 1897.
[6] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 58.
[7] 1 Dion. Halic.. De compos, verb. 23 (173).
[8] Псевдо–Лонгин, О возвышенном, гл. 10.
[9] Dion. Halic. De compos, verb. 23 (173) sq.
[10] Annali délia R. Scuola Normale superiore di Pisa. Serie II, vol. VI, 1937 fasc. 1·—2, p. 8 sq.
[11] C. M. Bowra, Greek lyrik poetry. Оксфорд, 1936, стр. 453—456 (The popular origins of Aeolic metres).
[12] Афиней, p. 599c.
[13] О подражании Сапфо во французской литературе, см. I. Giraud. D’après Sappho (Revue d’hist. litt, de la France, 1920, стр. 194 сл ). О подражании в английской литературе см. D. M. Robinson. Sappho. Our debt to G'eece and Rome. Бостон, 1924.
6. СИЦИЛИЙСКИЙ МЕЛОС. СТЕСИХОР
Мелос не ограничился пределами Спарты и Лесбоса. Дальнейший шаг в его развита был. сделан в Сицилии, что вызвано было местными особенностями в жизни тамошних греков. Как известно, греческое население в сицилийских колониях имело смешанный характер: там находились поселения эолийского, дорийского и ионийского племен. При постоянном общении друг с другом у сицилийских греков постепенно ослабевали чисто племенные интересы. Отдельные племена не имела здесь того обособленного характера, каким они отличалась в местах своего постоянного жительства. Вследствие этого и поэзия не могла здесь быть такой типичной выразительницей племенных характеров и интересов, как в коренных поселениях греческих племен. В Сицилии не могли появиться мелические песни с таким узким религиозным содержанием, как у дорян; с другой стороны, не могли они получить такого индивидуального характера, каким они были проникнуты на эолийском Лесбосе. В Сицилии мелос имел бллее общий характер. Вследствие этого сицилийский мелос, естественно, обратился к тому богатому материалу, который хранился в эпосе и был достоянием всего греческого народа.
Древнейшим поэтом, внесшим богатый эпический материал в греческий мелос, был Стесихор. Свида относит время его рождения к 37-й олимпиаде (632-629 гг. до н. э.), а время смерти к 56-й олимпиаде (556- 553 гг.). По свидетельству Гесихия, первоначальное имя его было Тисий, а Стесихором ("устроителем хоров") стали называть его за изумительное искусство составлять песни для хора. Относительно места рождения Стесихора показания древних авторов расходятся. Платон (Федр, р. 244) называет его уроженцем Гимеры (город в Сицилии), но существовало предание, по которому родиной Стесихора была локрийская колония Матавр в Южной Италии.[1] Больше оснований доверять Платону, чем позднему византийскому писателю. Умер Стесихор в глубокой старости. Его гробницу показывали то в Гимере, то в Катане.
Сюжеты для своих произведений Стесихор брал из эпической поэзии. Квинтилиан (X, 1, 62) говорит о Стесихоре, что он "поддерживает лирою эпическую песнь" ("epici carminis onera lyra sustinet"). Среди произведений Стесихора, сюжеты которых заимствованы из этического кикла, известны "Состязания в память Пелия", "Елена", "Разрушение Трои", "Возвращения", "Орестея", "Скилла" и др.
Заимствуя материал из эпоса, Стесихор не следовал точно эпическому рассказу, он свободно изменял его. У схолиастов нередко встречаются указания на отступления, которые они встречали у Стесихора, сравнивая его произведения с поэмами Гомера и других эпиков. Лучшей иллюстрацией отношения Стесихора к эпосу может служить его двойная переработка мифа о похищении Елены, жены Менелая. В одном стихотворении Стесихор отнесся к Елене с суровым порицанием, между тем как в другом представил дело так, что похищена была Парисом не Елена, а ее призрак. Эта двойная переработка послужила основанием для легенды, будто Стесихор был лишен зрения Афродитой за то, что представил Елену изменницей своему мужу, но, после того как он написал палинодию (покаянную песнь), зрение было ему возвращено.
Особенной любовью пользовалось у греков то произведение Стесихора, в котором он изобразил взятие Трои. В школьных таблицах, служивших. для иллюстрации литературных произведений, разрушение Трои было представлено по рассказу, данному Стесихором. Развитие эпических сюжетов отличалось у Стесихора такой полнотой, что рассказ об убийстве Агамемнона его женой Клитеместрой ("Орестея") занял две книги в редакции александрийских ученых. Соединяя в своих произведениях эпические сюжеты с лирической формой, Стесихор подготовил переход к драме. Влияние Стесихора на греческую драму было очень велико. Оно отразилось в драмах Эсхила, Софокла и особенно Эврипида. Трагедия Эврипида "Елена" основана на фабуле, заимствованной у Стесихора. От "Орестеи" Стесихора не сохранилось ни одного стиха, но ясно, что сюжет ее тот же, что и "Орестеи" Эсхила. Нельзя не обратить внимания на то, что древние критики, указывая достоинства мелоса Стесихора, приписывают ему такие черты, которые более соответствуют драматической, чем лирической поэзии. Дионисий Галикарнасский говорит, что Стесихор строго выдерживал характеры лиц, которых он выводил в своих песнях, и, чтобы лучше обрисовать их, он должен был постоянно варьировать свой слог. Поэтому, замечает Дионисий, у Стесихора возвышенный слог встречается наряду с низким.
Кроме лирических стихотворений, сюжеты которых были заимствованы из эпоса, Стесихор слагал застольные, эротические и буколические песни. В форме застольной песни, асклепиадовским стихом, Стесихор составил песню о самосской девушке Радине. Содержание этой песни сообщает Страбон (VIII, р. 347). Радина была выдана замуж за коринфского тиранна. Но она любила своего двоюродного брата. Об этом узнал ее муж, и, когда возлюбленный Радины приехал в Коринф, тиранн убил обоих. Затем тиранн раскаялся и устроил погибшим пышное погребение. Сюжет этого стихотворения, по видимому, был взят из народных песен.[2]
Стесихор составлял также рассказы в стихах эротического характера. К этой области относится песня о Калике, содержание которой сообщает Аристоксен у Афинея (Афиней XIV, 609d). Это песнь о несчастной любви девушки Калики к красавцу Эвафлу. Потеряв надежду на взаимность, Калика бросилась со скалы на острове Левкаде.
К буколическим стихотворениям Стесихора относится его песня о сицилийском пастухе Дафнисе, заимствованная из народной поэзии Сицилии. Песня о Дафнисе послужила прототипом для буколической поэзии александрийской эпохи и отразилась в идиллии Феокрита, носящей название по имени этого пастуха.
Стесихору приписывалось обогащение лирической поэзии введением "триады" (тройки). Триада состояла из трех частей: строфы, антистрофы, написанной тем же метром и содержавшей столько же стихов, сколько было в строфе, и эпода, составленного другим метром. Эта сложная метрическая система вносила в стихи большое разнообразие и очень оживляла исполнение песни. Строфа соединялась с движением хора в одну сторону, антистрофа исполнялась при обратном движении хора, а эпод - при остановке хора на одном месте. Этому нововведению, приписываемому Стесихору, придавали в древности такое значение, что сложилась поговорка: "ты не знаешь даже тройки Стесихора" (οὐδε τὰ τρία Στησιχόρου γιγνώσκεις).[3] Но уже в древности было разногласие относительно того, кто первый ввел в лирику эподическое построение; некоторые приписывали это Архилоху.
Стесихор оставил много произведений. Его стихи были разделены александрийскими учеными на 26 книг, но до нас дошли только краткие фрагменты, по нескольку стихов. Самый большой из фрагментов - это сохраненный Афинеем рассказ из "Гериониды" Стесихора (Афиней XI, 78). Поэт изображает, как Гелиос плывет ночью по океану в золотой чаше (т. е. в челноке, имевшем форму чаши) для свидания со своей матерью, женой и детьми. Сюжет этой поэмы - один из подвигов Геракла. Герой уводит быков Гериона, заставив Гелиоса дать ему свой челнок для переезда по океану к владениям Гериона. Основой для этого рассказа Стесихора послужили народные беотийские сказания о Геракле.
Кроме народных беотийских и сицилийских легенд, Стесихор брал сюжеты для своего творчества, как мы видим, из литературных источников, - не только из эпоса и поэм Гесиода, но, по свидетельству Хамелеонта (у Афинея, 630c), из Архилоха, Мимнерма и Фокилида.
О популярности Стесихора в древней Греции свидетельствуют реминисценции из его стихотворений у Аристофана,[4] нередкое упоминание о нем Павсания, который читал его "Гериониду" (X, 26, 27). Хвалят его Псевдо-Лонгин и Гермоген. Влияние Стесихора заметно и в греческом искусстве. Так, художник Полигнот изобразил взятие Трои по Стесихору.
Стесихора читали и изучали в Риме. Гораций упоминает о "величавых музах Стесихора" (Stesichori graves Camenae) (Оды IV, 9, ст. 8). Из "Эподов" (17, 42 сл.) видно, что Горацию была известна легенда об ослеплении Стесихора за оскорбление памяти Елены. Поэт Папиний Стаций (Сильвы V, 3, ст. 154) указывает Стесихора среди тех поэтов, которых читали в римских школах. Но дальше Рима, в Западную Европу известность Стесихора не проникает: здесь он не нашел себе ни поклонников, ни подражателей.
[1] Стефан византийский, под словом Μάταυρος.
[2] Комик Эвполид упоминает о сколиях Стесихора, которые распевались в Афинах при Перикле (Eupolis, Фр. 139, 361 Кок).
[3] См. Paroemiographi graeci, Т. II. Göting., 1855; Apostol. XIII, 18.
[4] Аристофан, Мир, 755.
7. ИВИК
В VII-VI веках до н. э. вследствие напряженной классовой борьбы во многих городах-государствах древней Греции стали захватывать власть тиранны. Большей частью они происходили из среды богатого класса. Для достижения своей цели одни действовали обманом и коварством, другие - силой. Власть тираннов утверждается в Милете, Митилене, на островах Самосе и Наксосе, в Афинах, Мегарах, Коринфе, Сицилии и других местах. Некоторые тиранны удерживали правление в своих руках страхом и силой оружия, другие делали различные уступки народу.[1] Они старались быть справедливыми, устанавливали суды и покровительствовали поэтам, которые доставляли им эстетическое наслаждение и прославляли их подвиги и богатство. Вследствие этого поэты нередко проживали при дворах тираннов. Среди таких поэтов наибольшей известностью пользовались поэты Ивик и Анакреонт.
Ивик был уроженцем города Регия (Южная Италия). Время его рождения и смерти неизвестно. Он происходил из богатой аристократической семьи, но не искал влияния и власти, а предпочел беспокойную жизнь странствующего поэта. Ивик путешествовал по Южной Италии, Сицилии и по разным местам Греции. Некоторое время он жил при дворе самосского тиранна Поликрата (553-522 гг. до н. э.). Из Самоса он опять отправился путешествовать и во время одной поездки в Коринф был убит разбойниками. Пылкая фантазия греков украсила этот случай легендой: рассказывали, что в минуту убийства Ивика на небе появилась стая журавлей. Спустя некоторое время на Истмийских играх, куда направлялся Ивик, один из убийц при виде летящей стаи журавлей воскликнул: "Это Ивиковы журавли!" Так открылось преступление, и убийцы были наказаны.
О творчестве Ивика трудно судить на основании дошедших до нас немногочисленных отрывков его песен. Можно указать лишь некоторые черты. По видимому Ивик, подобно Стесихору, часто заимствовал материал, образы и сравнения из эпоса, - преимущественно из эпического кикла. В одном фрагменте стихотворений Ивика, открытом в оксиринхском папирусе, широкой волной разлит эпический элемент. Здесь поэт, прославляя красоту какого-то Поликрата,[2] вспоминает о походе ахейцев на Трою, об Елене, Парисе и Кассандре, об Ахиллесе и других героях и особенно выдвигает наиболее красивых из них: сына Гиллиды (имя его не указывается) и сына Приама, Троила. Поэт заключает свою песнь такими словам:
Краса их обоих нетленна!
А с ними нетленную славу
Вкусишь также и ты, Полилрат-чарователь.
Я же за песен Дар прославлюся.
(Перев. Г. Ц.)
Схолиаст к Аполлонию Родосскому (III, 158) упоминает о гимне Ивика в честь какого-то Горгия. Из слов схолиаста видно, что поэт сравнивал Горгия с Ганимедом, обращаясь к народным мифам.
Мы видим, что в своих гимнах Ивик прославляет не богов, а людей. Таким образом создается новый вид песен - энкомии (ἐγκώμια).
Ивик прославился своими эротическими стихотворениями, это был певец любви и красоты. Бурная страстность, которой были проникнуты его стихотворения, дала Цицерону основание сказать, что "больше всех пылал любовью Ивик Регийский" (maxime vero omnium flagrasse amore Reginum Ibycum apparet. - (Тускул. бес. IV, 33, 71). И сам он говорит в одном стихотворении:
Снова Эрот, метнув из-под черных ресниц
Томный взор свой и всякие чары творя,
В Кипридину сеть - из нее не уйти мне!
Хочет загнать меня. Душу
Объемлет боязнь, лишь завижу его.
(Перев. Г. Ц.)
Стихи Ивика были разделены александрийскими учеными на семь книг. От них дошли до нас лишь незначительные отрывки. Легенда о смерти Ивика послужила темой для баллады Шиллера "Ивиковы журавли", известной у нас по переводу В. А. Жуковского.
[1] О тираннии в Элладе см, Аристотель, Политика V, 4, 4, 1305a.
[2] Pap. Ox. XV, 1932, № 1790, фр. 1 (37). Вопрос о том, кто был тот Поликрат, которому Ивик посвятил эту песню, — спорный. Виламовиц–Меллендорф полагал, что в ней прославляется известный самосский тиранн Поликрат в дни его юности (Wilamowitz Möllendorf, Pindaros, стр. 512). Но более основательно мнение Э. Мааса, что Поликрат — просто какой то неизвестный нам мальчик (E. Maas. Ibykos Pauly Wiss. RE).
8. АНАКРЕОНТ
Роскошная и веселая жизнь при дворе тираннов, их пиры и увеселения привлекли к себе другого поэта - Анакреонта. Анакреонт происходил из малоазиатского города Теоса. Время его рождения Гесихий относит к 52-й олимпиаде (572-569 гг.). В 545 г. до н. э. Анакреонт переселился в основанную теосцами колонию Абдеры во Фракии, Сколько времени прожил он в Абдерах - неизвестно. Потом мы встречаем Анакреонта при дворе самосского тиранна Поликрата, где он пользовался большим уважением. Затем Анакреонт был приглашен в Афины Гиппархом, сыном Писистрата, а после убийства Гиппарха (514 г.) переселился в Фессалию, ко двору Алевадов. В Афинах Анакреонт пользовался большим уважением не только со стороны тираннов Гиппия и Гиппарха, но и других выдающихся лиц - Крития, деда известного олигархического деятеля конца V века до н. э, и Ксантиппа, отца Перикла. Умер Анакреонт в глубокой старости - около 85 лет - в Абдерах, а по другим известиям - в родном Теосе (Пал. ант., VII, 25).
Из стихотворений Анакреонта видно, что военная жизнь не манила его, не увлекала, как увлекла Архилоха. Анакреонт избрал себе другой жизненный путь - веселую жизнь при дворах тираннов, и эта жизнь наложила сильный отпечаток на его поэтические произведения.
Чаще всего темой его стихотворений являются вино и любовь, но это была любовь не только к женщинам, но и к юношам. Это -.явление нередкое в античном мире, и среди лирических произведений античных поэтов можно встретить много стихотворений, посвященных прославлению красоты юношей (Феогнид, Алкей, Ивик и многие другие). Не отстал от них и Анакреонт. Ф. Энгельс, говоря о половой любви в рабовладельческом обществе, вполне правильно замечает об Анакреонте: "А для древнего классического певца любви, старого Анакреонта, половая любовь в нашем смысле была настолько безразлична, что для него безразличен был даже пол любимого существа"[1].
Анакреонт, как видно из фрагментов его стихотворений, часто увлекался, и размолвки не оставляли в его сердце глубокой печали и тоски.[2] В некоторых стихотворениях, где Анакреонт жалуется на свои неудачи в любви, тон его жалоб игрив и спокоен, в них незаметно, чтобы поэт действительно переживал тяжелое горе. Он легко увлекался и легко забывал постигавшие его неудачи, находя утешение в новых наслаждениях.
В стихотворениях Анакреонта заметна жизнерадостность, чуждая разочарований и уныния. Даже в тех стихотворениях, которые были созданы им в глубокой старости, проявляется желание жить, наслаждаться и страх перед Тартаром.
Сединой виски покрылись, голова вся побелела,
Свежесть юности умчалась, зубы старческие слабы.
Жизнью сладостной недолго наслаждаться мне осталось.
Потому-то я и плачу, - Тартар мысль мою пугает;
Ведь ужасна глубь Аида - тяжело в нее спускаться.
Кто сошел туда - готово: для него уж нет возврата.
(Фр. 43 Бергк; фр. 44 Диль. Перев. Г. Ц.)[3]
Сам Анакреонт дал такую краткую характеристику своей поэзии (фр. 45 Бергк; фр. 32 Диль):
За слова свои, за песни
Вам я буду вечно близок;
Я умею петь приятно
Говорить умею складно.
(Перев. Г. Ц.)
Эти слова почти совпадают с той характеристикой, какую дал Анакреонту афинский поэт Критий в приводимом у Афинея (XIII, 600d, фр. 7 Бергк) стихотворении в честь этого поэта: "он был сладок, не знал печали".
Кроме эротических стихотворений Анакреонт составлял также гимны в честь богов. До настоящего времени сохранились фрагменты его гимнов в честь Артемиды и Диониса. Сохранились также фрагменты его элегий и эпиграмм. Эти фрагменты, хотя и многочисленны но настолько кратки, что составить по ним представление о целом почти невозможно.
В более полном виде дошли до нас подражания Анакреонту.
Подражания Анакреонту (Τὰ Ἀνακρεόντεια) были изданы впервые А. Этьеном в 1554 г. по рукописи, относящейся к Х-XI векам. В этой рукописи на одной странице написано; Ἀνακρέοντος τοῦ Τηῒου σὐμποσιακά καὶ ἡμιάμβια.[4] а на другой, кроме этого заглавия, добавлено: Ἀνακρεόντεια καὶ τρίμετρα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου.[5] Этьен в своем издании 1554 г. пропустил очень важное указание на то, что здесь подлинные песни Анакреонта отделены от подражаний ему - τὰ Ἀνακρεύιτεια. Вследствие этого подражания Анакреонту долгое время считались подлинными его произведениями, и вся анакреонтическая поэзия в Западной Европе и у нас основана не на подлинных стихотворениях Анакреонта, а на подражаниях ему. Но то, что Ἀνακρεόντεια не принадлежат самому Анакреонту, не оставляет сомнения. Против подлинности их говорят следующие факты. Преобладающим метком в этих стихотворениях является ямбический диметр, размер, очень редко встречающийся в подлинных стихотворениях Анакреонта. Язык представляет смесь ионийского диалекта с дорийским и аттическим. В некоторых местах замечается влияние ударения на ритм. Замечаются и анахронизмы в содержании, например упоминание о Родосской школе (фр. 31) ваятелей, которая во время жизни Анакреонта еще не существовала.[6] Необходимо обратить внимание и на то, что у древних авторов встречаются только две цитаты из этого сборника (у Авла Гелия X, 19, 9), между тем как на подлинных стихотворений Анакреонта имеется более 190 цитат. Против авторства Анакреонта свидетельствует и то, что в некоторых стихотворениях о нем говорится в третьем лице.[7]
Но нельзя отрицать, что среди подложных анакреонтовских произведений встречаются такие, которые носят печать большого таланта и чаруют своей красивой формой. Этим объясняется то громадное влияние, какое имел сборник анакреонтических песен на западноевропейскую и русскую литературу. Во многих переводах известно у нас стихотворение, в котором автор характеризует свою музу:
Хочу я петь Атридов,
И Кадма петь охота,
А барбитон струнами
Звучит мне про Эрота.
Недавно перестроил
И струны я, и лиру,
И подвиги Алкида
Хотел поведать миру.
А лира в новом строе
Эрота славит вновь.
Простите же герои!
Отныне струны лиры
Поют одну любовь.
(Перев. Л. Мея)
Известность Анакреонта в древности и любовь к его поэзии были велики. Реминисценции из Анакреонта, его выражения, встречаются у Эврипида ("Ипполит" 1274 сл.; "Вакханки" 266 сл.), у Аристофана ("Ахарняне" 848), цитаты из его стихов приводят Страбон, Плутарх, Элиан, Дион Хрисостом, Лукиан и др. Анакреонта не забыли и византийцы, о чем свидетельствуют схолии к Гомеру, Гесиоду, Эсхилу, Эврипиду и византийский словарь Свиды, Гесихий, "Большой Этимологик" и др. Анакреонта изображали и на вазах. В Британском музее находится килик V века до н. в., на котором изображен Анакреонт в сопровождении двух юношей. Сохранился также мраморный бюст Анакреонта с надписью.
В римской поэзии влияние Анакреонта незначительно. Только у Горация встречаются некоторые образы, заимствованные у него, например сравнение робкой девушки с молодой ланью, которая потеряла в лесу свою мать (Оды I, 23; сравн. фр. 52 Бергк). Но, как видно из слов того же Горация, в Риме произведения Анакреонта были хорошо известны. "Время, - говорит он, - не сокрушило того, что создал великий Анакреонт".
Едва ли какой-либо другой лирический поэт древней Греции был так известен, так распространен и имел такое влияние на литературные течения в западноевропейской и русской литературе, как Анакреонт.[8] В русской литературе увлечение Анакреонтом выразилось в подражаниях его темам метром анакреонтических произведений и в переводах их на русский язык. Первый перевод Анакреонта принадлежит Антиоху Кантемиру. Он появился в 1736 г. в книге "Анакреонта Тиейца песни".[9] Затем появляется перевод анакреонтовских од Ломоносова. Он перевел только четыре оды. Перевод одной из них - "Ночною темнотою покрылись небеса"[10] - сделался очень распространенным романсом в XVIII веке. Темам Анакреонта и метрам анакреонтических произведений подражали А. Сумароков и В. Тредиаковский. Во второй половине XVIII века появляется целый ряд переводов из анакреонтических стихотворений и подражаний им: М. Хераскова (1755), И. Богдановича (1761), И. Дмитриева (1792), И. Виноградова (1792), Н. Львова (1794), Н. Эмина (1795), П. Андреева (1798) и др. Этот поток подражаний и переводов свидетельствует о большом увлечении поэзией Анакреонта.
Увлечение Анакреонтом не прекращается и в первой половине XIX века. На самом рубеже этого столетия появляется полный перевод с греческого языка стихотворений Анакреонта, сделанный И. Мартыновым.[11] Появление этого перевода очень облегчило знакомство с поэзией Анакреонта, открыв доступ к ней и не знающим греческого языка. Популярности Анакреонта содействовала и то, что его переводчиками и подражателями явились такие поэты, как Державин и Пушкин. Оба они любили Анакреонта, подражали ему и переводили его стихи, а Пушкин называл его даже своим учителем.[12] Любовь к поэзии Анакреонта увлекала многих наших поэтов и писателей. К. Батюшков, Е. Кульман, Н. Берг, Н. Щербина, А. Баженов, Н. Гнедич, В. Крестовский, В. Водовозов и многие другие поэты передали в русских стихах анакреонтические произведения. Кроме того, появились еще новые полные переводы Анакреонта А. Баженова, Л. Мея и "Первое собрание сочинений Анакреонта в переводах русских писателей" А. Тамбовского. В конце XIX и в XX веке Анакреонта переводили А. Рудаков, О. Головин, В. Латышев и В. Вересаев. Мы видим, что и в настоящее время Анакреонт не забыт у нас, но особенным вниманием пользовался он в литературных кругах в конце XVIII и начале XIX века.
[1] „Наша половая любовь, — говорит Энгельс, — существенно отличается от простого влечения, от эроса древних“ (К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч„ I, стр. 58).
[2] См. например, фр. 89 „Люблю и не люблю“.
[3] Пушкин с недоверием отнесся к словам Анакреонта, что его страшит Тартар. См. отрывок „Цезарь путешествовал“, где переведен этот фрагмент.
[4] „Анакреонта Теосского застольные песни и ямбические диметры“
[5] „Анакреонтеи и триметры святого Григория“.
[6] Живописец знаменитый, /Нарисуй, художник славный, /Царь родосского искусства, /Нарисуй так, как скажу я, /Мне отбывшую подругу. (Перев. А. Баженова)
[7] Например: Мне снилось: песнопевец /Анакреонт Теосский, /Узрел меня и слово /Мне ласковое кинул. (Перев. Г. Ц.)
[8] Во французской литературе можно указать перевод всего Анакреонта прозой Леконта де–Лиля. Увлекался Анакреонтом и Ронсар. О влиянии Анакреонта на немецкую литературу см. Landsdorff, Die Anakreontische Dichtung in Deutschland. Гейдельберг, 1862; F. Ansfeld. Die deutsche anakreontische Dichtung des XVIII Jahrhanderts (Quellen und Forschungen zur Sprache u. Kulturgesch. des germ. Volkes, 1907).
[9] См. А. Кантемир. Собр. соч. СПб., 1867, т. 1, стр. 341 сл.
[10] М. Ломоносов. Соч., СПб., 1847, т. I, стр. 207 сл.
[11] И. Мартынов. Анакреонтовы стихотворения с присовокуплением краткого описания его жизни. СПб., 1801; его же, Греческие классики, т. XXIII, кн. 26, СПб., 1829.
[12] „Подайте грозд Анакреона:/ Он был учителем моим, /И я сойду путем одним /На грустный берег Ахерона“. „Мое завещание“ (1815 г.), А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. М. Гослитиздат. 1936, т. 1, стр. 217.
Глава XVI ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИРИКА И ЕЕ РАННИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
1. ДИФИРАМБ, ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ФОРМА ИСПОЛНЕНИЯ. КИКЛИЧЕСКИЕ ХОРЫ
Стихотворения элегические и ямбические выражали личные, индивидуальные чувства и мысли поэта и вследствие этого исполнялись одним лицом под звуки музыкального инструмента, а большей частью без аккомпанемента. Но у греческого народа были песни и другого характера: песни, которые выражали чувства многих лиц, вызываемые такими явлениями жизни, которые привлекали к себе внимание масс. Исполнение этих песен требовало участия многих лиц, целого хора, и, естественно, принимало торжественный характер. Эти условия вызвали к жизни особый вид мелоса - торжественную лирику.
Раньше всего выступает связь торжественной лирики с культом. Обряды культа, совершавшиеся в торжественной обстановке, сопровождались пением гимнов. При больших храмах содержались свои хоры, что видно, например, из делосских надписей. Греки прославляли не одних только богов, но и людей. Отсюда возникают песни другого типа - энкомии и эпиникии. Победы на различных состязаниях привлекали к себе общее внимание, вызывали общие чувства, волновали даже целые государства-города, бывшие родиной победителя. Понятно, что песни в честь победителей на общеэллинских собраниях должны были исполняться не одним лицом, а хором.
Особый вид торжественной мелической поэзии представляет дифирамб. Дифирамб возник на почве религиозных песен. Как авлодические и кифародические номы развивались из песен, прославлявших Аполлона, так дифирамб ведет свое начало от песен, которые прославляли Диониса. Платон (Законы III, 70 b) определяет дифирамб как песнь, сюжетом которой служит миф о рождении Диониса, но это определение очень узко, оно не охватывает всех видов дифирамба. В дифирамбах излагались мифы не только о рождении Диониса, но и об его подвигах и смерти. Темой дифирамба служили все фазы развития мифа о Дионисе.
Происхождение термина "дифирамб", (διθύραμβος) неясно. Было много неудачных попыток его объяснений из греческого языка. В настоящее время вопрос о происхождении и значении термина διθύραμβος остается открытым, но его негреческое происхождение более или менее очевидно.
Как вообще культ Диониса, так и дифирамб имел ту особенность, что в нем пафос доходил до экстаза. Дифирамб пели на фригийский лад, который отличался страстностью, приводившей слушателей в возбужденное состояние. Аккомпанементом к дифирамбу служили звуки флейты, а позже - кифары. Пение дифирамба соединялось с танцем, отличавшимся порывистыми движениями. Этот танец назывался τυρβασαία. При исполнении дифирамба из хора выделялся запевала - ἐξάρχων, который начинал песню, подхватываемую хоревтами. В дифирамбе изложение мифа составляло его главную часть. Исполнявшие дифирамб хоры назывались κύκλιοι, потому что они располагались во время пения дифирамба в виде круга (κύκλος). Сколько певцов было первоначально при исполнении дифирамба, неизвестно, но во время Симонида Кеосского, как видно из одного фрагмента его стихотворений (фр. 147 Бергк⁴), хор, исполнявший дифирамб, состоял из 50 человек.
Начало дифирамба кроется в тумане неясных указаний, сохранившихся от древности. Первое упоминание о нем встречается в одном фрагменте Архилоха (фр. 77 Бергк⁴), но древние авторы не считали его творцом дифирамба, а приписывали эту честь Ариону.
2. АРИОН И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ДИФИРАМБА
Арион родился на острове Лесбосе в городе Мефимне. Расцвет его таланта Евсевий относит к 42-й олимпиаде (612-609 гг. до н. э.).[1] Подобно Ивику и Анакреонту Арион большую часть жизни провел вдали от родины, странствуя по различным областям греческого мира. Блеск двора коринфского тиранна Периандра (625-585 гг.) привлек Ариона. Периандр оценил его талант и дружески относился к поэту. У коринфян и лесбосцев сохранилось предание об удивительном спасении Ариона от смерти. Однажды он отправился из Коринфа в Италию и Сицилию, где, выступая со своими песнями, приобрел много денег. По окончании артистического путешествия Арион сел в Таранте на коринфский корабль с целью возвратиться к Периандру. Матросы, узнав, что Арион везет много денег, решили убить его, чтобы воспользоваться его богатством. Арион попросил их позволить ему пропеть последнюю песнь. Надев костюм кифареда, он исполнил ном и бросился в море, но не утонул: дельфин подхватил его и вынес к Тенарскому мысу (в Лаконии), откуда он прибыл в Коринф. Передавая это предание, Геродот добавляет, что в его время находилась на Тенарском мысе небольшая статуя Ариона, представляющая человека, сидящего на дельфине. Статую Ариона на Тенаре видел еще Павсаний во II веке н. э. (Павсаний III, 25, 7). Легенда о спасении людей дельфинами была распространена в древней Греции.[2] Символический смысл ее основывался, быть может, на том, что дельфин считался у греков любителем музыки.
По словам Геродота, Арион первый создал дифирамб, дал ему название и обучил коринфский хор исполнять его (Геродот I, 24). Ариону потому приписывается создание дифирамба, что он изменил способ его исполнения. До Ариона дифирамб исполнялся одним певцом, а он придал дифирамбу характер хоровой песни. Дифирамб пели на торжественных праздниках и собраниях, причем хор располагался вокруг алтаря Диониса.
Свида сообщает, что Арион был изобретателем дифирамба трагического характера (τραγικοῦ τρόπου εὑρετής) и ввел сатиров, говоривших стихами. Это были уже первые шаги к трагедии Свидетельство Свиды подтверждает византийский ученый Иоанн Диакон в комментариях к ритору Гермогену, которые были найдены В. Рабе в рукописях Ватиканской библиотеки.[3] Иоанн Диакон, ссылаясь на элегии Солона, говорит, что трагедию ввел в Афинах Арион Мефимнейский. Сообщения Свиды и Иоанна Диакона не противоречат той традиции, по которой первым афинским трагиком был Феспид.[4] У Ариона это была только подготовка к трагедии, но еще не самая трагедия.
В древних сборниках стихотворений Ариона находилось около 2000 стихов, но от них до нашего времени не сохранилось ничего. Элиан (Пестр, ист. XII, 45), сообщая легенду об удивительном спасении Ариона, приводит его благодарственный гимн Посейдону. Но этот гимн не принадлежит Ариону. Он составлен на ионийском диалекте, с незначительной примесью дорийских элементов, между тем как Арион, уроженец Лесбоса, составлял свои песни на эолийском диалекте.
Нельзя не пожалеть об утрате произведений Ариона. Несомненно, это был великий поэт. Его долго помнил античный мир, и много веков спустя после его смерти о нем вспомнил другой великий поэт чужой, италийской земли - Овидий ("Фасты" II, 83):
Море какое, какая земля Ариона не знает?
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . .
Часто Диана твоей изумлялась чарующей силе:
В слаженных звуках певцов Фебов ей чудился строй.
Имя твое, Арнон, прозвучало в полях сицилийских,
Даже Авзонии брег лирой был тронут твоей.
(Перев. Н. Зернова)
[1] Евсевий, Хроника XLII, 3, р. 90.
[2] Такая же легенда существовала о лакедемонянине Фаланфе, изображение которого находилось в Дельфах (Павсаний X, 13, 10)
[3] Rh. Mas., 1908, стр. 127 сл.
[4] Согласно этой традиции Феспид ввел первого актера, разговаривавшего с хором.
3. ЛАС ГЕРМИОНСКИЙ
После смерти Ариона в развитии дифирамба на некоторое время наступил перерыв. Арион не создал своей школы. У него не было преемников. Дальнейшее развитие дифирамба связано с деятельностью Ласа, уроженца города Гермионы в Арголиде. Расцвет его таланта относится к 64-й олимпиаде (524-521 гг. до н. э.). Лас большей частью жил при дворе афинского тиранна Гиппарха (527-510 гг.). Он обладал больше музыкальным талантом, чем поэтическим, и произведенные им видоизменения в дифирамбе относятся к области музыки. По свидетельству Плутарха, Лас старался придать Дифирамбу большое музыкальное разнообразие, допуская переход от одной мелодии к другой, и использовал звуковое богатство флейт. "Таким образом он совершил переворот в современной ему музыке" (Плутарх, О музыке, гл. 29).
Лас любил различные звуковые эффекты и своеобразные сочетания звуков. Эти технические фокусы назывались, как сообщает Гесихий, по его имени - "ласисматы" (λασίσματα). Лас составил, например, гимн в честь Деметры, в котором не встречается звука σ (ἄσιγμος ᾠδή). Кроме дифирамбов, Лас составил первое в греческой литературе руководство по музыке.[1]
Большое значение для развития дифирамба имели дифирамбические состязания - агоны. В Афинах, так же как и в некоторых других греческих городах-государствах, содержание и подготовка дифирамбических хоров сделались общественной обязанностью. Это дело возлагалось на филы, а филы поручали его хорегам.
В Афинах, где дифирамб достиг своего высшего развития, начался и его упадок. Он выразился в том, что в дифирамбе музыка и танцы получили преобладание над поэзией. Новый дифирамб, в противоположность старому, стал блистать изысканностью мелодий и танцев. Постепенно мелическая сторона дифирамба была доведена до крайности, что стало казаться грекам слишком грубым. Этот мелический дифирамб в своем содержании далеко отступает от цикла сказаний, относившихся к Дионису, и нередко пользуется сюжетами, не имеющими религиозного характера; по своей форме он отличался от древнего дифирамба отсутствием антистрофы.
[1] Лас обладал и большой ученостью для своего времени. Он уличил поэта Ономакрита в литературном подлоге, — в том, что Ономакрит вставлял в стихотворения поэта Мусея подложные стихи о погружении в море соседних с Лемносом островов (Геродот VII, 61).
4. СИМОНИД КЕОССКИЙ
Наибольшей высоты своего развития греческий мелос достиг в поэзии Симонида, Пиндара и Бакхилида. Эти поэты могут быть названы представителями универсальной греческой лирики, потому что в их произведениях встречаются почти все виды греческой лирики. Их поэтическая деятельность имела общегреческое значение. В их произведениях получили яркое выражение события и чувства, волновавшие всю Грецию.
Симонид, сын Леопрепа, родился на острове Кеосе. Год его рождения определяется на основании его собственного указания. В одной эпиграмме, написанной в честь собственной победы на поэтических состязаниях (фр. 147), Симонид указывает год, когда была одержана эта победа, и свой тогдашней возраст. Это был год архонтства Адиманта (четвертый год 75-й олимпиады = 477/476 гг. до н. э.). Симониду было тогда 80 лет. Из этой эпиграммы вытекает, что Симонид родился в 557/556 г. до н. э. Свою поэтическую деятельность Симонид начал рано. В городе Карфее (Καρθαία) на острове Кеосе при храме Аполлона была школа, где он обучал певцов для участия в хоре на праздниках, учрежденных в честь этого бога. Но Симонид недолго оставался на Кеосе; в первые годы правления Гиппарха он был приглашен ко двору этого тиранна. Здесь Симонид встретил блестящего представителя греческого мелоса Анакреонта и выдающихся музыкантов: Ласа Гермионского, Агафона и Аполлодора. Гиппарх относился к Симониду дружески и осыпал его подарками. Симонид долго жил в Афинах и уехал оттуда в Фессалию только после смерти Гиппарха (514 г.). Там он проживал при дворе Скопадов в Кранноне и Алевадов в Лариссе, которых он прославлял своими песнями. В начале греко-персидских войн мы опять встречаем Симонида в Афинах. Здесь он одержал победу над Эсхилом в состязаниях по составлению эпиграммы в честь воинов, павших при Марафоне. В 476/475 г. Симонид отправился в Сицилию, где примирил тираннов Гиерона Сиракузского и Ферона Агригентского, когда они были уже готовы начать войну. Симонид проживал при дворах и других тираннов. Об этом свидетельствуют его стихотворения в честь регийского тиранна Анаксилая и кротонского тиранна Астила. Умер Симонид в 469 г. в Сицилии, дожив до 89 лет.
Из произведений Симонида особенно славились его френы и гипорхемы. Квинтилиан (X, 1, 64) говорит, что Симонид обладал особенным искусством вызывать чувство скорби. Он вызывал его реальным изображением событий. Он понимал, что простое, соответствующее действительности изображение горя трогает гораздо сильнее, чем эффектная искусственность. В его френах как бы вновь возникают пред глазами слушателей те события, о которых говорит поэт. Поэтому не удивительно, что Симонид волновал и вызывал слезы своими стихами. Выражение "симонидовы слезы" вошло в поговорку.[1] Задушевные, трогательные френы Симонида нравились грекам больше, чем возвышенные, высокопарные френы Пиндара. Но человеческой душе, потрясенной горем, естественно искать и утешения. Симонид умел не только трогать, вызывать слезы, но - что гораздо труднее - умел и утешать, успокаивать людей мыслью о том, что горе не является личным уделом, а имеет общий характер, постигая всех. Симонид широко пользовался этим мотивом. В отрывках его френов часто встречается мысль о превратности человеческой жизни, о том, что даже "герои", дети богов, не были избавлены от общей участи и тоже страдали (фр. 36 Бергк). Сохранились отрывки френов Симонида в память Скопадов и в память неизвестных нам лиц - Антилоха и какого-то эритрейца Лисимаха. Кроме того, Бергк относит к френам Симонида один отрывок, в котором поэт изображает страдания Данаи, плывущей по морю с сыном Персеем в ящике, в который запер их отец Данаи. Этот френ Симонида, сохранялся полнее других (фр. 37 Бергк).
Френы Симонида имели форму эподов. Мелодия строилась на нежный фригийский лад, аккомпанементом служили звуки флейты.
Высокими достоинствами отличались и гипорхемы Симонида. В них он соединял в одно гармоническое целое красоту слова с выразительностью танцев, постановкой которых он сам руководил. Из слов Плутарха (Пир. X, 15, 2) видно, что Симонид придавал большое значение орхестическому элементу в гипорхемах. От гипорхем Симонида сохранилась только три фрагмента, по которым нельзя судить о красоте этих стихотворений, В древности славились и дифирамбы Симонида. О том, насколько они нравились грекам и какими высокими достоинствами они отличались, можно судить по тому, что Симонид был признан победителем на 56 дифирамбических состязаниях. Но до нас не сохранилось ни одного отрывка из его дифирамбов. Страбон упоминает о дифирамбе Симонида в честь мифического Мемнона, сына богини Эос (Страбон XV, 728), а грамматик Аристофан Византийский - о дифирамбе в честь красавицы Европы, похищенной Зевсом.
Условия времени, когда жил Симонид, способствовали развитию эпиникиев. В VI веке до н. э. были учреждена пифийские (590 г.), истмийские (583 г.) и немейские (573 г.) состязания. Симонид обладал умением представлять положительные черты человека и мог придать эпиникням не тот общий характер, какой мы встречаем в олимпийском эпиникии Архилоха, а индивидуальные, личные черты, необходимые для· эпиникия. До нас дошли отрывки стихотворений Симонида в честь фессалийца Скопа, сына Креонта, Ксенократа Акрагантского, кулачного бойца Главка Каристийского, Астила Кротонского и др. От некоторых из этих произведений сохранилось только по одному стиху. Более других известен нам сколий (застольная песня) в честь Скопа (фр. 5 Бергк). Он восстановлен в метрической форме на основании прозаического изложения его у Платона (Протагор, 339 сл.). Из этого фрагмента вытекает, что Симонид не посвящал своих песен исключительно прославлению героев, но отводил значительное место различного рода рассуждениям. Его эпиникии имели не столько хвалебный, сколько дидактический характер.
Древние ученые разделяли эпиникии Симонида по родам состязаний, в зависимости от того, была ли одержана победа в состязании на колеснице, на гимнастических состязаниях или в беге.
Энкомии Симонида отличались большой силой и теплотой чувства. Лучше других сохранился его энкомий в честь воинов, павших при Фермопилах (фр. 4):
Светел жребий и подвиг прекрасен
Убиенных перед дверью фермопильской!
Алтарь - их могила; и плач да смолкнет о них, но да будет
Память о славных живою в сердцах! Время
Не изгладит на сей плите письмен святых,
Когда все твердыни падут и мох оденет их следы!
Тут схоронила свой цвет Эллада? любовь свою.
Ты, Леонид, мне свидетель о том, спартанский воин,
Чей не увянет вечный венец.
(Перев. Вяч. Иванова)
С большим блеском проявился талант Симонида в его эпиграммах. По содержанию эпиграммы Симонида делились на два вида: надгробные и посвятительные. Первые были надгробными надписями, вторые вырезались на статуях, треножниках и на тех предметах, которые посвящались богам. Преобладающим метром в эпиграммах был элегический дистих, т. е. сочетание гексаметра с пентаметром. В эпиграммах Симонида отразились великие события его времени. - В них встречаются указания на ту тяжелую борьбу с персами, какую пришлось вынести грекам в начале V века до н. э. В своих эпиграммах Симонид увековечил бойцов, павших за свободу Греции в битвах на Марафонском поле, при Фермопилах и Саламине. Тут проходят перед нами имена Леонида, Мильтиада, Адиманта и других общественных деятелей. В посвятительных эпиграммах встречаются в числе жертвователей спартанский царь Павсаний, сицилийский тиранн Гелон и др. Эпиграммы Симонида не многоречивы, не сложны по своему содержанию: они состоят большей частью из двух или четырех стихов. Симонид понимал, что в немногих словах можно высказать многое. При той мастерской сжатости речи, которой обладал Симонид, ему удавалось в двух-трех словах высказывать глубокие чувства. Как трогательна, например, его известная эпитафия в честь спартанцев, павших в битве при Фермопилах: "Путник! Скажи спартанцам, что мы лежим здесь, повинуясь их заветам" (фр. 92).
В число эпиграмм, приписывавшихся Симониду, вошло много не принадлежащих этому поэту. Путем тщательной критической работы из них выделены те, которые казались подозрительными. Насколько необходима осторожность при решении вопроса о подлинности эпиграмм Симонида, может свидетельствовать следующий факт. Немецкий ученый Ю. Юнган заподозрил подлинность эпиграммы, посвященной памяти коринфян, павших при Саламине (фр. 96 Бергк),[2] но в 1895 г. нашли на острове Саламине мраморную плиту, на которой была вырезана эта эпиграмма.[3]
Симонид составлял также гимны. Гимерий (Речи V, 2) упоминает об его гимне в честь олимпийского Зевса. В схолиях к "Медее" Эврипида (ст. 5) указывается на гимн в честь Посейдона, а Юлиан (Письма XXIV, 395 D) говорит о пеане в честь Аполлона Пифийского.
О сколиях (см. выше) и парфениях Симонида судить в настоящее время трудно по недостатку материала. С большой вероятностью можно отнести к застольным те песни, в которых Симонид воспевает радости жизни, например фр. 71, где поэт говорит, что без радостей даже царский престол не желателен; даже богам нельзя было бы завидовать, если бы их жизнь протекала без веселья.
Кроме рассмотренных нами произведений, Симонид составлял еще элегии и шуточные стихотворения. От элегий Симонида сохранились фрагменты стихотворений в память битв при Марафоне и при Платеях и несколько фрагментов по три и даже по одной строке, отношение которых к целым элегиям трудно определить.
Из шуточных стихотворений наиболее крупный отрывок сохранил Афиней (III, 125 с-фр. 167 Бергк). Это стихотворение было составлено Симонидом экспромтом на каком-то пиру. Поэт произнес его, когда виночерпии обошли его снегом для охлаждения вина. Другие шуточные стихотворения Симонида незначительны по своему объему. Среди них забавна шуточная эпитафия на могилу его соперника и врага Тимокреонта Родосского (Пал. Ант. VII, 343):
Много я пил, много ел, и на многих хулу возводил я;
Нынче в земле я лежу, родянин Тимокреонт.
(Перев. Л. В. Блуменау)
Аристотель в "Метафизике" (XIV, 3, р. 1091a) упоминает о произведении Симонида Μακρὸς λόγος ("Длинный рассказ"). Содержания его Аристотель не сообщает. Некоторые ученые полагают, что это был мим в прозе. Свида говорит, что Симонид писал еще на дорийском диалекте историю правления Камбиза и Дария, не указывая, была ли она составлена в стихах или в прозе.
Нельзя не удивляться разносторонности таланта Симонида. В его произведениях можно найти все формы греческой лирики, и во всех он был велик, а в некоторых неподражаем. Его френы, его гипорхемы и эпиграммы, по признанию самих древних греков, представляли лучшее из того, что в этих видах лирики создала греческая поэзия. Относительно общего характера поэзии Симонида нельзя не заметить, что на многих его стихотворениях лежит оттенок грусти и печали. Снмонид сморит на жизнь не с гордой надеждой на лучшее, а с тревожным опасением худшего. В одном из френов он высказывает мысль, что человек не может быть уверен в завтрашнем дне. О счастливом человеке нельзя сказать, как долго он будет счастлив, потому что в жизни быстро наступают перемены (фр. 32). В другом фрагменте читаем: "Силы людей слабы, несбыточны их мечты, в короткой их жизни страдание идет за страданием, над всеми висит неизбежная смерть, постигающая одинаково и доброго и злого" (фр. 39).
Но Симонида нельзя назвать пессимистом. Он находят возможном удовлетвориться тем немногим, что дано человеку, а много радостей еду могут доставить здоровье и богатство. "Даже обладание мудростью не доставляет удовольствия, если кто на имеет здоровья", - говорит он в одном стихотворении (фр. 70). Однако Симонида справедливо обвиняют в неустойчивости взглядов: он пользовался гостеприимством Писистратидов и прославлял их, когда они были в силе, а после их изгнания выхвалял "тиранноубийц" - Гармодия и Аристогитона.
В стихотворениях Симонида встречается много пословиц и поговорок, созданных мудростью народа. Недаром он считался мудрецом.[4] Но философские взгляды Симонида не отличаются глубиной. Его философия - скорее результат опыта и наблюдения над текущей жизнью, чем вдумчивого решения абстрактных проблем. По словам Феона Смирнского (I, 215; фр. 192, Зальц), Симонид советовал смотреть на жизнь как на игру и ничему не придавать серьезного значения.
Мысли свои Симонид высказывал просто, ясно и остроумно. Его слог отличается симметричностью в построении предложений, он заботился о соразмерности членов периода. Что касается языка Симонида, то в нем преобладают аттические формы, с примесью дорийских и эолийских в тех стихотворениях, которые назначены для эолийской и дорийской мелодии.
В древней Греции стихотворения Симонида пользовались большой известностью, о чем с свидетельствуют упоминания о них и цитаты у многочисленных авторов. Мы находим их у Геродота (VII, 226), Платона (Протагор 339a; Гиппарх 228c), Аристотеля (Ригорика III, 2), Аристофана (Облака 1355 сл.; Птицы 919; Осы 1410), Афинея, Диодора Сицилийского, Юлиана, Плутарха, Дионисия Галикарнасского и у многих других авторов.
Симонида читали и в Византии, о чем свидетельствуют многочисленные ссылки на его стихотворения у византийских схолиастов и византийских авторов - Стобея, патриарха Фотия и др.
В римской литературе о Симониде говорит Цицерон (О государстве II, 10), и вспоминает о "кеосских печальных песнях" Гораций (Оды II, 1, 38), не указывая имени поэта, так как его читателям, очевидно, было ясно, кому она принадлежала. В "Палатинскую аналогию" вошло много стихотворений Симонида, среди которых находятся и явно подложные, как, например, эпиграмма на смерть Софокла (Пал. ант. VII, 20). Некоторые эпиграммы Симонада были вырезаны даже на мраморных плитах.
[1] Ср. Катулл XXVIII, 8: „maeitius lacrimis Simonideis“.
[2] A. Junghan. De Simonidis Cei epigrammatis. Берлин, 1869.
[3] Athen. Mitt, 1897, стр. 62 сл.
[4] Платон, Политика, р. 331e.
5. ТИМОКРЕОНТ
Современником Симонида был Тимокреонт, уроженец родосского города Иалиса Тимокреонт не отдавал всех своих сил поэтическому творчеству. Обладая выдающейся физической силой, он занимался атлетикой, и это значительно отвлекало его от поэзии. Сохранилось мало отрывков стихотворений Тимокреонта. По всей вероятности, его литературное наследие было незначительно. Тимокреонт находился во враждебных отношениях с Симонидом. Это зависело, по видимому, не столько от их литературного соперничества, сколько от того, что Симонид был противником персов и боролся против них в своих элегиях, а Тимокреонт не отличался стойкостью своих политических убеждений. Он относился сочувственно к завоевательным стремлениям персидских царей, вследствие чего после победы над персами Фемистокл не позволил Тимокреонту возвратиться на родину, хотя раньше он был его другом. Раздраженный Тимокреонт стал мстить Фемистоклу своими стихами. Плутарх приводит в биографии Фемистокла (гл. 21) несколько отрывков из стихотворений Тимокреонта, в которых поэт, не стесняясь в выражениях, называет Фемистокла лжецом, негодяем, изменником и обвиняет его в том, что он взял со своего друга Тимокреонта три таланта серебра с условием возвратить его на родину, но не исполнил своего обязательства. Кроме того, Тимокреонт обвиняет Фемистокла в пристрастии и несправедливости, утверждая, что он незаконно одних возвращает на родину, других изгоняет, иных предает казни (фр. 1). После изгнания Фемистокла из Аттики Тимокреонт сочинил стихотворение, в котором издевался над этим выдающимся деятелем.
Памятником взаимной вражды Тимокреонта и Симонида остались две эпиграммы. Мы уже упоминали выше (стр. 252) о шуточной эпитафия Симонида, составленной им на могилу Тимокреонта. В ответ на эту эпитафию Тимокреонт написал стихи, в которых он упрекал Симонида в склонности к болтовне: "кеосская болтовня напала на меня, напала на меня кеосская болтовня" (фр. 10).
Поэтическая деятельность Тимокреонта слабо отразилась в греческой литературе, а в литературе Западной Европы он был совершенно забыт.
6. ГРЕЧЕСКИЕ ПОЭТЕССЫ (КОРИННА, ПРАКСИЛЛА И ДР.)
Литературная деятельность в Греции не чужда была и женщинам. В "Палатинской антологии" (X, 26) сохранились имена девяти женщин-поэтесс, но из них внесена была в александрийский канон только одна Сапфо. Это сильно отразилось на сохранности их текста: их редко переписывали, вследствие чего от их произведений до нас дошли лишь незначительные отрывки. Кроме этих поэтесс, в Греции, несомненно, было много других, но не сохранились даже их имена.
Из греческих областей больше всего прославилась своими поэтессами Беотия. Там были поэтессы, решавшиеся вступать в состязания даже с тем, кого античный мир признал величайшим лириком, - с Пиндаром. Это были Миртида и Коринна. Их творчество не носило универсального характера, но было связано с могучей силой - с местным народным творчеством, с беотийскими мифами и преданиями. Здесь черпали они звучные метры, здесь находили сюжеты для своих творений.
Коринна была родом из беотийского города Танагры, славившегося своими керамическими изделиями. Годы ее рождения и смерти не известны, несомненно только то, что она была старшей современницей Пиндара, одержала в поэтических состязаниях с Пиндаром пять побед и своими советами повлияла на характер его произведений (см. гл. XVII, § 1). Победы Коринны над Пиндаром Павсаний объясняет тем, что она сочиняла свои стихи на местном наречии, между тем как Пиндар пользовался дорийским диалектом; кроме того, добавляет Павсаний, она была красивейшей женщиной своего времени (Павсаний IX, 22, 3).
Несмотря на свои победы над Пиндаром, Коринна преклонялась перед этим поэтом и упрекала свою подругу Миртиду за то, что она решилась с ним состязаться:
... Я Миртиде
Ставлю в упрек звонкоголосой:
Спорить за приз с Пиндаром ей,
Женщине, смысл был ли какой?
(Перев. В. В. Вересаева)
К незначительным фрагментам Коринны присоединились два довольно больших отрывка из папируса II века н. э., найденного в Гермуполе. Теперь этот папирус находится в Берлинском музее (№ 284) В одном из отрывков представлено состязание двух великанов, Киферона и Геликона. Содержание песни Геликона не сохранилось. Киферон воспевает детство Зевса. Музы предлагают богам подавать голоса. Победителем был признан Киферон.
В другом отрывке "Дочери Асопа" бог реки Асопа ищет своих пропавших дочерей. Он обращается к Аполлону Птойскому с просьбой указать, где находятся его дочери. Жрец Аполлона сообщает Асопу, что они похищены Зевсом, Посейдоном, Аполлоном и Гермесом, которые разделили их между собой. Начало, середина и конец этих отрывков не сохранились.[1]
В основу этих песен вошли исключительно местные предания, и это придавало им значение и привлекало к ним беотийцев. Коринна понимала силу связи своей поэзия с народным творчеством:
Белоодежным я лишь пою
Танагриянкам песни мои;
Радости много город родной
В тех песнопеньях звонких нашел.
(Перев. В. В. Вересаева)
Жители Танагры любили свою поэтессу. Они поставили ее статую "на самом видном месте" в городе, а в местном гимнасии поместили ее портрет, представляющий Коринну, надевающую победную головную повязку после состязания с Пиндаром (Павсаний IX, 21, 3).
Из стихотворений подруги Коринны - Миртиды, происходившей из беотийского города Афедона, до нас ничего не дошло.
В половине V века до н. э. пользовалась известностью поэтесса Праксилла, жившая в Сикионе. Из ее стихотворений дошли только незначительные отрывки дифирамбов в честь Ахилла и Адониса. От первого· дифирамба сохранная только один стих, от второго - три (фр. 2):
Вот что прекрасней всего из того, что я в мире оставил:
Первое - солнечный свет, второе - блестящие звезды
С месяцем, третье же - яблоки, спелые дыни и груши.
(Перев. В. В. Вересаева)
Этот забавный, шутливый контраст в словах Адониса, сошедшего в область мертвых, так понравился грекам, что сложилась поговорка: "Ты ребячливее Адониса Праксиллы" (Зенобий IV, 21).
Сохранилось от Праксиллы и несколько отрывков ее "Песен за чашей вина" ("Паройнии"), проникнутых чувством любви к радостям жизни. В одном из них она говорит:
Пей же вместе со мной,
Вместе люби,
Вместе венки плети
И безумствуй, как я ...
(Перев. В. В. Вересаева)
Из "Паройний" Праксиллы некоторые ученые делают заключение, что Праксилла была гетерой.
Несколько старше Праксиллы была аргосская поэтесса Телесилла, прославившаяся не только своими песнями, но и мужеством при защите Аргоса.
Стихотворения Телесиллы до нас не дошли, но она не были забыты в Греции еще во II веке н. э., как видно из упоминаний о них у таких поздних авторов, как Павсаний (II, 35, 2), Афиней (XIV, 619b; XI, 467), Аполлодор (III, 5), и у византийских схолиастов и лексикографов.
[1] E. Diehl. Supplementum lyricum, Бонн, 1917, стр. 49—51. E. Diehl, Anthologia lyrica gr., т. I, стр. 479—481.
Глава XVII ПИНДАР
1. ЖИЗНЬ ПИНДАРА
Греческий мелос достиг высшего расцвета в творчестве Пиндара. Произведения предшествующих поэтов внесли богатый материал в греческую лирику. Область ее сюжетов. сильно расширилась. Метрические формы усилиями целого ряда поколений были выработаны до полного совершенства и удивительной гармония. Таким образом, уже была вполне подготовлена почва для такого выдающегося поэта, как Пиндар, которого Квинтилиан (X, 1, 61) называет "novem lyricorum longue princeps".[1]
Пиндар родился в местечке Киноскефалы, у подошвы Геликона, близ Фив. Он происходил из аристократической семьи Эгеидов. Год рождения Пиндара определяется только приблизительно. В одном из фрагментов Пиндара говорится, что он родился в год совершения Пифийских игр. Пифийские игры праздновались каждый третий год олимпиады. Принимая во внимание некоторые факты из жизни Пиндара, можно определить его рождение между третьим годом 64-й олимпиады (522/521 г.) и третьим годом 65-й олимпиады (518/517 г.). Пиндар получил хорошее образование. Он обучался не только разным наукам, но и музыке, первые уроки которой получил в Фивах у флейтиста Скопелина. На развитие поэтического таланта Пиндара имели большое влияние его соотечественницы, беотийские поэтессы Миртида и Коринна. Плутарх рассказывает, что, когда Коринна познакомилась с первыми произведениями Пиндара, она заметила, что он слишком мало пользуется мифами. Пиндар внимательно отнесся к замечанию Коринны, но дошел до крайности; тогда Коринна указала ему, что мифы "надо сеять рукой, а не мешком". Свое музыкальное образование Пиндар закончил в Афинах под руководством таких выдающихся музыкантов его времени, как Лас, Агафокл и Аполлодор.
Пиндар не остался на постоянное жительство в Афинах. Он любил путешествовать. Из Афин он уехал в Сицилию и жил некоторое время при дворах сицилийских тираннов, где общество поэтов и ученых имело благотворное влияние на развитие его поэтического таланта и врожденной ему склонности к разрешению разного рода философских и религиозных вопросов. Кроме того, Пиндар жил некоторое время в Македонии, где его радушно принимал царь Александр, сын Аминты. Пиндар посетил Дельфы и другие города Греции, а может быть, побывал и в Египте у царя Аркесилая Киренского. Особенно тесную связь он поддерживал с островом Эгиной и ее гражданам посвятил особенно много эпиникиев.
Хронология путешествий Пиндара теперь не может быть установлена с точностью. Год его смерти тоже неизвестен. Ученые колеблются между третьим годом 84-й олимпиады (442/441) и четвертым годом 86-й олимпиады (433/432 гг.). Сохранилось предание, что Пиндар умер в Аргосе (во время представления в театре или в гимнасии).
[1] „Первый из девяти лириков“.
2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПИНДАРА
Поэтическая деятельность Пиндара очень разнообразна. Число его произведений доходило до четырех тысяч.
Из жизнеописания Пиндара, хранящегося в Бреславльской библиотеке (Vita Vratislaviensis), мы узнаем, что стихотворения его делились на 17 книг. Основанием для деления послужило различив стихотворений по содержанию. Гимны и пеаны составляли по одной книге, дифирамбы и просодии - по две книги, эпиникии занимали четыре книги и т. д. Из этих произведений в значительной полноте сохранились эпиникии, разделяющиеся на четыре книги, соответственно различным состязаниям, на которых были одержаны воспеваемые Пиндаром победы. Первая книга посвящена прославлению победителей на Олимпийских играх, вторая - на Пифийских, третья - на Немейских, четвертая - на Истмийских. Отдельные песий располагаются в том порядке, в каком разместили их александрийские ученые, т. е. не в хронологическом порядке, а по отдельным видам состязаний. На первом месте находятся стихотворения, посвященные прославлению побед па конных состязаниях, затем идут песни в честь кулачных бойцов, наконец в честь атлетов.
Уже давно были сделаны попытки определить законы, которыми руководился Пиндар при составлении своих эпиникиев. Еще в XVIII веке Эразм Шмидт старался разъяснить эти законы. Он доказывал, что эпиникии Пиндара составлены по схеме ораторских речей, что они распадаются на те же составные части, какие были установлены греческими риторами для речей. Но теория Шмидта не встретила признания среди ученых. В 70-х годах XVIII века Шнейдер и Гедике также пытались выяснить построение од. Гейне всю жизнь работал над Пиндаром, стремясь вникнуть в связь его мифических образов с темой эпиникиев. Но только А. Бек в своем монументальном трехтомном издании Пиндара (1311-1821 гг.) близко подошел к правильному пониманию поэзии Пиндара. Его ученик и сотрудник Диссен, давший лет десять спустя новое издание Пиндара и продолжавший критическою работу по объяснению текста, пришел к выводу, что Пиндар в своих эпипикиях не развивал мыслей последовательно: мысли, которые должны были следовать одна за другой непосредственно, являются у него рассеянными по различным частям. Пиндар допускал, по выражению Диссена, "implicatio partium" (т. е. переплетение частей). Построение эпиникиев, по мнению Диссена, должно было бы иметь следующую схему: поэт начинает похвалой своему герою, затем переходит к какому-нибудь мифу, имеющему отношение к прославленному герою или К тем играм, на которых он одержал победу, а в конце возвращается к победителю, так что начало соответствует концу. Но Пиндар не следует этой схеме. Он перемешивает, по наблюдениям Диссена, эти части по нескольку раз, переходя от героя к мифам, и наоборот. Все же, вопреки Диссену, под такое построение нельзя подвести многие эпиникии Пиндара. Против Диссена выступил с критикой Готфрид Германн, но мнение Диссена нашло своих последователей в лице Ф. - Г. Велькера и К. - О. Мюллера. Далее, интересен взгляд Вестфаля на композицию эпиникиев Пиндара. Он доказывал, что Пиндар руководился схемою номов, разработанной Терпандром (о номах Терпандра см. гл. XV). И действительно, большая часть эпиникиев согласна с этой схемой. Из 45 эпиникиев Пиндара, сохранившихся до нас, это деление можно найти в тридцати шести. Но еще более общий характер имеют те нормы композиции Пиндара, которые установил Круазе. Подобно Диссену, он принимает в основу композиции три части, причем в первой прославляется герой, во второй излагается какой-нибудь миф, а в третьей поэт опять переходит к герою. Эти основные части распадаются по отдельным лирическим членам, состоящим из строфы, антистрофы и эпода· В большинстве эпиникиев первую часть составляет одна триада, вторую - две или три, третью - одна. К этой схеме композиции подходит 40 эпиникиев Пиндара. Число несогласных с этой схемой так незначительно, что ее можно признать наиболее соответствующей действительному построению эпиникиев Пиндара.
Образцом построения эпиникия может служить первая триада I Пифийской оды в честь тиранна Гиерона Этнейского, колесница которого одержала победу на Пифийских играх в 470 г. до н. э.:
I. Пифийская ода
Строфа А
О златаи лира! Общий удел Аполлона и Муз
В темных, словно фиалки, кудрях.
Ты основа песни, и радости ты почин!
Знакам данным тобой, послушны певцы,
Только лишь ты запевам, ведущим хор.
Дашь начало звонкою дрожью своей.
Язык молний, блеск боевой угашаешь ты,
Вечного пламени вспышку; и дремлет
Зевса орел на его жезле,
Низко к земле опустив
Быстрые крылья, -
Антистрофа А
Птиц владыка. Ты ему на главу его с клювом кривым
Тучу темную сна излила,
Взор замкнула сладким ключом - и в глубоком сне
Тихо влажную спину вздымает он,
Песне твоей покорен. И сам Арес,
Мощный воин, песнею сердце свое
Тешит, вдруг покинув щетинистый копий строй.
Чарами души богов покоряет
Песни стрела из искусных рук
Сына Латоны и Муз
С пышно о грудью.
Эпод А
Те же, кого не полюбит Зевс,
Трепещут, заслышав зов
Муз Пиерид, что летят над землей
И над бездной никем не смиренных морей.
Тот всех больше, кто в Тартар страшный низвергнут, противник богов.
Сам стоголовый Тифон. Пещера в горах
Встарь в Киликийгких его воспитала, носившая много имен.
Ныне же Кумские скалы, омытые морем,
И Сицилийской земли пределы
Тяжко гнетут косматую грудь.
В небо возносится столп,
Снежно-бурная Этна, весь год
Ледников кормилица ярких.
(Перев. М. Грабарь-Пассек)
Разбирая произведения Пиндара, следует всегда помнить, что Пиндар был столько же музыкант и композитор, сколько поэт. Его оды, написанные сложным размером, с чередованием длинных и коротких строк, были приспособлены к музыкальной мелодии, к возможности подчеркнуть ту или другую музыкальную фразу особым ударением. Они почти не поддаются переводу в стихах.
Прославляя данного героя, Пиндар широко раздвигает свой кругозор, привлекая к своей теме и мифы, и исторические и родословные воспоминания, и мораль в виде поэтического поучения герою торжества В оде, из которой выше приведено начало, Пиндар прославляет тиранна Сиракузского Гиерона. Он основал город Этну и стал называть себя Этнейским. Пиндар начинает с обращения к лире, изображает могущество песнопения, которое чарует природу и человека, но погружает в тяжкий трепет мятежных противников богов. Здесь Пиндар вводит миф о Тифоне, низвергнутом Зевсом в подземные глубины горы Этны. Но именем этой горы назван новый город, и глашатай Пифийских игр провозгласил название города как прославленное победой имя. В этой победе поэт видит залог будущей славы молодого города; поэт желает воспеть одного лишь мужа (Гиерона), виновника этой славы, и надеется, что стрелы его песни долетят до цели скорее, чем стрелы его врагов, -- может быть, намек на двух поэтов - Бакхилида и Симонида, его соперников при дворе Гиерона.
После пожеланий всякого счастья своему герою Питдар переходит к историческим воспоминаниям о прежних победоносных походах Гиерона, приводя для параллели миф о Филоктете, без стрел которого нельзя было бы взять Трои. Далее он обращается к сыну Гиерона Дейномену, которого отец поставил правителем основанной им Этны, вспоминает мифических предков рода и восхваляет Гиерона и его брата Гелона за то, что они одержали победу над карфагенянами.
В заключительной триаде поэт рисует идеал, к которому должен стремиться правитель, если желает при жизни наслаждаться благополучием, а по смерти жить в песнях поэтов.
Многочисленные мифы, легенды и воспоминания, которыми Пиндар украшает свои произведения, были так близки и так хорошо известны его слушателям, что не затемняли и не затрудняли понимания его поэзии. Но для римлян она становится уже до некоторой степени непонятной.
Пиндар высоко ставил призвание поэта. Восхваление героя не являлось для него единственной целью; поэт воздает достойному достойную награду во вдохновенных песнях, которые переживут краткий век человека; но герой, увенчанный такой наградой, должен быть во всех своих делах достойным ее, - отсюда постоянные указания на пути к добру и совершенству на земле, как они понимались самим поэтом; отсюда поэт - мудрец, учитель, он "славный пророк Пиерид" (Пеан VI, 6), носящий в своем сердце сокровище песни. Созвучные ему мысли встречаются ранее у Феогнида, позднее - у Бакхилида (VIII, 3) и в Риме - у Горация. (Оды, IV, 6, 41 сл.) Эпиникии Пиндара прославляют не только тираннов, одержавших победы на состязаниях, но и различных частных лиц, нередко даже мальчиков-победителей. Все эти песни Пиндар составлял по заказу и брал за них плату, но при этом умел сохранять свое достоинство и самостоятельность. Часто он вплетал в лавры и терновые шипы, язвившие чело победителя.
Эпиникии назначались для исполнения хором товарищей и друзей [победителя, но Пиндар говорит не от лица победителя или хора, а от себя, нередко выражая свое личное отношение к победителю и свои пожелания.
Различие метрического построения зависело от того, назначался ли эпиникий для исполнения на пиру или на пути в храм, где победитель приносил благодарственные жертвы. В первом случае он состоял из строфы, антистрофы и эпода, во втором - только из строф.[1]
Кроме 45 полных эпиникиев от Пиндара сохранилось более трехсот фрагментов произведений разного содержания: здесь есть эпиникии, дифирамбы, френы, просодии и другие виды лирики. Из дифирамбов лучше других сохранилась песнь в честь Диониса; отрывки других незначительны. Френы Пиндара не отличаются таким трогательным чувством, как френы Симонида. Они носят философский характер, а порой и мистическую окраску. Здесь поэт имеет в виду не столько горе родственников и друзей покойного, сколько его загробную судьбу. Ответа на то, что ждет человека за гробом, поэт ищет в учении пифагорейцев.
Из числа гипорхем обращает на себя внимание песнь, составленная для фиванцев по поводу солнечного затмения 463 г. до н. э. Здесь поэт задается тревожным вопросом - что предвещает это затмение: голод, холод, наводнение или другие бедствия. Он говорит, что не боится никаких несчастий и будет переносить их вместе с другими людьми.
Сколии Пиндара не отличались высокими достоинствами. Он не владел тем легким, живым стихом, который необходим для сколиев. Его муза не была склонна воспевать обыденные, иногда мелкие сюжеты, которые брались для застольных песен. Огрызки других произведений Пиндара так незначительны, что на основании их нельзя составить характеристики, а в некоторых случаях нельзя даже уяснить их сюжетов.
[1] Пиф. XII, Нем. II, IV.
3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ И ЭТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ПИНДАРА
В произведениях Пиндара обращает на себя внимание богатство мифологического элемента. В эпиникиях Пиндара мифы обыкновенно составляют главную часть песен. Говоря о богах и героях, Пиндар обнаруживает глубокую религиозность своего мировоззрения. Однако его отношение к традиционным взглядам на богов очень отличается от той наивной простоты, какую мы находим у Гомера и Гесиода. Пиндар критически относится к мифам и связывает с богами только возвышенные представления, стараясь освободить богов от черт, сближающих их с людьми. Пиндар избегает говорить об их пороках и слабостях и рисует их добрыми существами.[1] В пятой Пифийской оде[2] Пиндар прославляет Аполлона, который наделяет людей средствами от болезней, посылает. своим избранникам дар поэзии и водворяет в душах людей мир и спокойствие. Вообще, говоря о божестве, Пиндар всячески подчеркивает его всемогущество: "бог настигает крылатого орла и обгоняет морского дельфина. Он смиряет гордость надменных, а скромным дает неувядаемую славу" (Пиф. II, 49). В некоторых местах у Пиндара проглядывает пантеизм: "бог - это все" (фр. 140). Поэт верит в загробную жизнь и возмездие за гробом. Учение о загробной жизни в значительной полноте представлено у него во второй Олимпийской оде (ст. 105 и слл.): по представлению Пиндара, люди грешные подвергаются за гробом строгому суду и наказанию, а люди, добрые и честные ведут жизнь, свободную от страданий, в местах, залитых лучами солнца, среди почитаемых ими богов. Пиндар придерживается пифагорейского учения о метемпсихозе. Души, которые после троекратного возвращения на землю сохранили себя чистыми от преступления, допускаются на Остров Блаженных, который представляется местом радости и блаженства.
Политические моменты в стихотворениях Пиндара выражены слабо. Он редко говорит о текущих политических событиях, почти никогда не высказывает своей особенной симпатии к той или другой стороне, не касается вопросов о превосходстве одной формы правления над другою. Вследствие этого его так же любезно принимали при дворах тираннов, как и в демократических государствах. Если Пиндар и рисует идеал государственного устройства, то он не касается формы правления, а дает только общие предписания законности, справедливости и мира.[3]
Пиндар любил свою родину - об этом свидетельствует тот фрагмент (74), где он с глубоким чувством говорит о Фивах. Но он не разделял симпатий фиванцев к персам. Поэтому "опору свободы" (κρηπὶς ἐλευθερίας) Греции он видел не в Фивах, а в Афинах. Так Пиндар сумел подчинить свои патриотические симпатии интересам общегреческим. Афиняне, со своей стороны, глубоко уважали и ценили Пиндара. Сохранилось предание, что они сделали его своим проксеном, и когда фиванцы наложили на Пиндара штраф в 1000 драхм за то, что он составил стихотворение в честь афинян, то последние заплатили за него этот штраф.
Слог Пиндара на отличается ни легкостью, ни изящным построением периодов, ни плавностью. Его речь порывисто несется вперед, подобно разлившемуся потоку. Это сравнение сделал Гораций:[4]
Как с горы поток, напоенный ливнем,
Сверх своих брегов устремляет воды, -
Рвется так, кипит глубиной безмерной
Пиндара слово .. ·
(Перев. Н. С. Гинцбурга)
Трудно найти более подходящее сравнение для характеристики слога Пиндара. Он быстро переходит от одной мысли к другой; он как будто спешит облечь свои мысли в слова и вследствие этой торопливости нередко не придает им той формы, которая соответствовала бы строго логическому соотношению мыслей. У Пиндара то идет целый ряд главных предложений, то вдруг появляются придаточные, которые он длинной цепью нанизывает одно на другое. Иногда в этих порывистых переходах к новым и новым мыслям Пиндар делает анаколуфы, пропускает союзы и посредствующие логические звенья между отдельными мыслями, так что их приходится угадывать и дополнять самому читателю. При построении речи Пиндар стремится не столько придать фразе соответствие с мыслью, которую она должна выражать, сколько сделать эту фразу звучной. Гармоническое сочетание звуков было для Пиндара важнейшей задачей, перед которой отступало по-строение периодов соответственно ходу мыслей. Пиндар очень любил аллитерации: он ставил рядом слова, начинающиеся одними и теми же звуками. Иногда у него окончание предыдущих слов совпадает с окончанием последующих, иногда аллитерация встречается в конце слов, так что производит впечатление рифмы (фр. 75).
Пиндар не ограничивался только созвучием окончания и начала слова; иногда он ставил рядом различные формы одного и того же слова. Нередко одно и то же слово появляется у него в различных частях эпиникия, придавая стиху особую гармонию.
Слог Пиндара украшен множеством риторических фигур; в его стихах можно встретить почти все их виды: метафоры, метонимии, гиперболы, аллегории и др. Сравнения и образы у Пиндара смелы. Он не идет здесь по проторенному пути, а сам создает новые, оригинальные формы.
Язык Пиндара в своей основе - язык греческого эпоса с примесью эолийского и дорийского элементов. Преобладание того или другого элемента стоит в связи с мелодией песни. Если мелодия построена на дорийский лад, то в языке преобладают доризмы, и наоборот. Метры Пиндара отличаются замечательным разнообразием. Достаточно указать на то, что из 45 эпиникиев Пиндара каждый имеет свою особую метрическую форму.
Изучение метров Пиндара было особенно сильно подвинуто исследованием А. Бека "О метрах Пиндара", помещенным Беком в его издании. Неизвестно, давали ли александрийские ученые нотную запись произведений Пиндара, - во всяком случае, такие записи до нас не дошли. Одно время считалась подлинной музыкальна запись к первой Пифийской оде, изданная Афанасием Кирхером, который утверждал, что нашел ее в библиотеке монастыря Сан-Сальваторе близ Мессины. Но некоторые ученые считают эту запись фальсификацией, и вопрос остается до настоящего времени спорным.
[1] Истм. III, 4.
[2] Ст. 63 сл. (85 сл.).
[3] Од. XIII, 6.
[4] Оды IV, 2, ст. 5 сл. Ср. Квинтилиан X, 1, 61.
4. ПИНДАР В ДРЕВНЕЙ И НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
Пиндар пользовался в древней Греции большой известностью и любовью. О нем упоминают Геродот, комики Аристофан и Эвполид; Платон заимствует у него некоторые мысли и выражения. В александрийскую эпоху ему подражал Феокрит (Идилл. 24, подражание первой Немейской оде). Александрийские ученые работали над Пиндаром. Зенодот составил критическое издание его произведений; Аристофан Византийский и Аристарх объясняли Пиндара. Комментировал его и Дидим, объяснения которого послужили главным источником схолиев к этому поэту. О Пиндаре встречаются упоминания у Дионисия Галикарнасского и в приписывавшемся Лонгину трактате "О возвышенном". Особенным уважением пользовался Пиндар в Дельфах (надо заметить, что некоторые члены рода Эгидов были жрецами Аполлона). В Дельфах, даже после смерти Пиндара, в праздник Феоксений глашатай приглашал его к торжественному пиру бога словами: Πίνδαρον καλεῖ ὁ θεὸς ("Пиндара зовет бог"). При раскопках в Дельфах был найден вырезанный на мраморной плите отрывок пятого олимпийского эпиникия Пиндара. По приказанию тиранна Диагора одна из од Пиндара была вырезана на камне в городе Линде (на Родосе). Гимн Пиндара в честь Зевса-Аммона был вырезан на трехгранной колонне и поставлен близ алтаря этого бога, воздвигнутого Птолемеем Лагом. Слава Пиндара проникла и в Македонию. Александр Македонский при взятии Фив (336 г.) приказал своим воинам оставить в неприкосновенности дом, в котором некогда жил Пиндар. О широком распространении известности Пиндара свидетельствует значительное число отрывков из его произведений, найденное в египетских папирусах.
Замечательная по своему поэтическому лаконизму характеристика Пиндара сохранилась в Палатинской Антологии (VII,35):
Был этот муж согражданам мил и пришельцам любезен;
Музам он верно служил. Пиндаром звали его.
(Перев. О. Б. Румера)
О Пиндаре писали в XIII веке византийские ученые Фома Магистр, Москопуло и Триклиний. Биография Пиндара, к сожалению, не сохранившиеся до нашего времени, были составлены Хамелеонтом, Дидимом и соотечественником Пиндара Плутархом.
В Риме Пиндара читали и знали мало. Римлянам уже трудно было понимать его и ценить, но все-таки Гораций был знаком с произведениями Пиндара и считал их неподражаемыми. Кроме Горация, с большой похвалой отзывался о Пинкаре, как мы уже видели, ритор Квинтилиан.
Западная Европа долго не знала Пиндара, В Византии же его, вероятно, читали в школах, о чем свидетельствует большое число рукописей, содержавших стихотворения Пиндара. Число их доходит до 150.
Первое печатное издание Пиндара вышло в 1513 г. в венецианской типографии Альда. Затем последовал целый ряд изданий Пиндара с переводом на латинский язык.
Эти издания, несмотря на их крупные недостатки, дали Западной Европе возможность ознакомиться с Пиндаром. Прошло не более двадцати лет со времени изданий Альда, как в Италия появились подражания Пиндару. Аллеман подражал ему в своих гимнах (1532); Минтурно - в своих кантатах в честь императора Карла V; Лампридий - в одах (1550). Вместе с пиндаровской триадой (строфа, антистрофа, эпод) они вносили в свои стихи его смелые образы и сравнения и стремились подражать ему в созвучиях.[1]
Во Франции в середине XVI века Ронсар[2] издал четыре книги од, написанных в стиле Пиндара (1550). Но, в дальнейшем, большинство французских писателей не понимало Пиндара. Малерб назвал лиризм Пиндара "галиматьей"; подобных же взглядов держались Буало, Перро, Ламот; Вольтер характеризовал Пиндара как "le sublime chanteur des cochers grecs et des combats à coup de poing",[3] и даже составил оду под названием "Galimatias Pindarique", где воспевал в шуточном тоне карусель 1766 г. при дворе Екатерины II. Но Вольтер не знал греческого языка и высказывал суждения о греческой литературе более чем странные (ср. его отзывы о Гомере выше, гл. VII, стр. 136). Ла-Гарп,[4] признавая за Пиндаром некоторые достоинства, находил, однако, что на читателя, знакомого с ним по французским прозаическим переводам, он может навести лишь скуку и даже отвращение. Его оттолкнет пышный мифологическая аппарат, приводящий Пиндара к вечным отступлениям, которые кажутся заглушающими основную тему оды, и к непонятным скачкам в сторону.[5] Лишь в небольшом кругу ученых и членов Французской академии, знакомых с греческим языком, делались попытки изучить и разъяснить Пиндара (аббат Фрагье,[6] Вовилье,[7] Шабанон[8] и др.). Единственным поэтом, который своим художественным чутьем оценил Пиндара, был Андре Шенье. Указывая на недостатки приветственной оды, которую Малерб в 1600 г, поднес Марии Медичи, Шенье сожалеет, что составитель оды не дал себе труда изучить и понять Пиндара.[9]
В начале XIX века знакомство с Пиндаром замечается в одах Виктора Гюго (1824).
В Испании подражателем Пиндара явились Луис-Понс де-Леон (1527-1591) и Луиза Гонгорп (1561-1627), составившая оду в честь "непобедимой" армады Филиппа II (1588) в стиле эпиникиев Пиндара.
Большинство, подражателей Пиндара, - если не все, - вряд ли было знакомо с ним по греческому тексту, а знало его по латинским, французским и немецким переводам.
В Германии подражания Пиндару находим в XVII веке в произведениях Мартина Опитца (1597-1639). В позднейшее время особенно увлекался Пиндаром Гёте. В его юношеских стихотворениях "Wanderers Sturmlied" ярко отражено влияние Пиндара. Увлекаясь чтением Пиндара, Гёте восторженно писал Гердеру: "В настоящее время я живу в Пиндаре, и, если бы великолепие чертога давало счастье, я мог бы быть счастливым".[10]
В Англии влияние Пиндара отразилось на творчестве поэтов Джона Драйдена (1631-1700), Александра Попа (1688-1744) и др.[11]
В русской литературе знакомство с Пиндаром замечается у М. В. Ломоносова (он перевел IV Олимпийскую оду) и В. К. Тредиаковского ("Ода торжественная о сдаче города Гданска" 1734 г.). П. Голенищев-Кутузов перевел (с французского) Олимпийские и Пифийские оды (М. 1804). Попытки перевода Пиндара есть у Г. Р. Державина и А. Ф. Мерзлякова. Первый перевод Пиндара с греческого языка на русский был сделан Н. Львовым в 1797 г. Полный прозаический перевод сделан А. Мартыновым (СПб., 1827). Позднее отдельные оды переводили Н, Водовозов, Н. Майков, Вяч. Иванов, M. Е. Грабарь-Пассек и др.
В конце XVIII и в Начале XIX века имя Пиндара становится нарицательным для обозначения особенно торжественной и возвышенной оды; вместе с тем непонимание основной сущности его поэзии привело некоторых подражателей в сторону высокопарного и ходульного ложного классицизма, который вызывал отрицательную критику, - например, А. П. Сумарокова и И. И. Дмитриева ("Чужой толк").
[1] О влияния Пиндара на западноевропейскую литературу см. Τk. Sinko. Literature grecka. Краков. 1931, т. I, стр. 363 сл.
[2] E. Gandor, Ronsard considéré comme imitateur d’Homère et de Pindara, Париж 1854.
[3] „Возвыщенный певец греческих наездников и кулачных боев“ (Письмо к Шабанону. 1772).
[4] La Harpe. Lycée, ч. 1, гл. 7.
[5] Ср. суждение молодого Пушкина („О вдохновении и восторге“, 1824): „Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен… Гомер неизмеримо выше Пиндара. Ода стоит на низших ступенях творчества. Она исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого… И плана не может быть в оде. Какой план в одах Пиндара?“
[6] Sur le caractère de Pindare (Mém. de l’Ac. des inscriptions et belles lettres, т. 2, стр. 34 (Anc. Série).
[7] Discours sur Pindare et la poésie lyrique (Mém. de l’Ac. des inscriptions et belles lettres, т. 32, стр. 456).
[8] Essai sur Pindare, 1772.
[9] E. Nageotte, Histoire de la poésie lyrique grecque. Париж, 1889, стр. 88, 271 сл.
[10] См. Lichtenberger, Étude sur les poésies lyriques de Goethe, стр. 74.
[11] Robinson, Pindar a poet of eternal ideas. Балтиморa, 1936.
Глава XVIII БАКХИЛИД И ТИМОФЕЙ
1. БАКХИЛИД
Младшим современником Пиндара был Бакхилид. Время его жизни падает на период между 515-450 гг. до н. а.[1] Родился он в кеосском городе Иулиде. Бакхилид был племянником Симонида, и это было одной из причин того, что он уехал из Кеоса в Сицилию, где находился его дядя и где собирались при дворе тираннов лучшие поэты того времени. Таким образом Бакхилид жил при дворе Гиерона Сяракузского одновременно с Симонидом и Пиндаром. Отношение Бакхилида к Пиндару, было, по видимому, так же враждебно, как и отношение Симонида. Сколько времени прожил Бакхилид в Сицилии, неизвестно, - вообще о его жизни мы знаем очень мало. Плутарх[2] сообщает, что Бакхилид был изгнан из своего отечества и долго жил в Пелопоннесе, но не указывает ни времени, ни причин изгнания. Возможно, что оно стоит в связи с изгнанием из Кеоса его дяди Симонида по решению Фемистокла. Год смерти Бакхилида неизвестен. Последнее стихотворение его относится к 452 г. до н. э.
До конца XIX века стихотворения Бакхилида были известны только в незначительных фрагментах, но в 1896 г. в египетских папирусах Британского музея в Лондоне были открыты не известные раньше стихотворения Бакхилида. Эти стихотворения в первый раз издал Г. Кенион в 1898 г. В этих папирусах находится 14 эпиникиев и 6 песен, которые Ф. Бласс считает дифирамбами. Из эпиникиев три посвящены победам сиракузского тиранна Гиерона, два составлены в честь кеосца Аргея; в других эпиникиях прославляются Автолид Эгинский, Ликон Кеосский и др.
Среди стихотворений, которые Бласс относит к дифирамбам, некоторые представляют пеаны, например песнь " Антенориды". В этой песни Бакхилид изображает, как сыновья героя Антенора сопровождают в Трою Менелая, отправившегося за похищенной Еленой. Для других песен сюжетом послужили мифы об Ио, Тезее и др. Особенной красотой отличается пеан "Юноши, или Тезей". Основой этого пеана послужил миф о том, как афиняне должны были посылать на Крит в жертву Минотавру семь юношей и семь девушек в возмездие за убийство афинянами Андрогея, сына Миноса, Тезей решил отправиться с ними, чтобы убить Минотавра и освободить отечество от позорной дани. Царь Минос едет с этими жертвами. Афродита внушает ему любовь к одной из девушек, Эрибее, и он преследует ее своими ласками. Эрибея ждет заступничества Тезея. Начинается спор между Миносом и Тезеем. Минос заявляет о своем происхождении от Зевса, просит бога подтвердить это и гордо предлагает Тезею доказать свое происхождение от Посейдона, достав со дна моря перстень, который он бросит в волны. Тезей опускается в море. Дельфины подхватывают его и приносят в чертог Посейдона:
Ступил за порог - и отпрянул Тезей,
Златого Нерея узрев дочерей:
Тела их, как пламя, сияли...
И локоны в пляске у дев развились,
С них ленты златые каскадом лились...
И, мерным движеньем чаруя сердца,
Сребрились их гибкие ноги.
Но гордые очи супруги отца
Героя пленяли в чертоге...
И, Гере подобясь, царица меж дев
Почтила Тезея, в порфиру одев.
И кудри герою окутал венец...
И чудо свершилось... для бога оно -
Желанье, для смертного -Чудо.
У острой груди корабельной -
На горе и думы кносийцу -
Тезей невредим появился...
А девы, что краше денницы,
Восторгом объяты нежданным,
Веселые крики подъяли,
А море гудело, - пеан
Товарищей их повторяя,
Что лился свободно из уст молодых ...
Тебе, о Делосец[3] блаженный,
Да будешь ты спутником добрых,
О царь хороводов родимых!
(Перев. И. Анненского)
Миф о Тезее, любимом афинском герое, послужил Бакхилиду сюжетом и для другого дошедшего до нас его стихотворения Θησεύς. Здесь представлен диалог между царем Эгеем и каким-то лицом (в рукописи оно не обозначено[4]) по поводу полученного им известия о приходе в Аттику какого-то молодого человека, уже совершившего много подвигов. Это те подвиги, которые в мифах приписывались Тезею: убийство разбойников Синиса, Скирона, Керкиона, Прокопта и поражение страшного вепря.
Бакхилид составлял также эпиникии, в которых он состязался с Пиндаром и подражал ему. До настоящего времени сохранились эпиникии Бакхилида в честь кеосца Аргея (мальчика, одержавшего победу в кулачном бою на Истмийских играх), в честь побед колесниц сиракузского тиранна Гиерона на Олимпийских и Пифийских играх, в честь флиунтийца Автомеда и др. Имена некоторых победителей не сохранились, но несомненно, все это были богатые люди, хорошо оплачивавшие Бакхилида за его прославления.
Кроме дифирамбов и эпиникиев сохранились еще фрагменты гимнов, просодиев, гипорхем, застольных и эротических стихотворений Бакхилида. Все это свидетельствует о том, что сюжеты стихотворений Бакхилида были очень разнообразны.
Стихотворения Бакхилида не отличаются такой глубиной мысли, как произведения Пиндара, Те нравственные наставления, которые высказывает Бакхилид в своих эпиникиях, нетипичны и лишены оригинальности. Это общие места, ходячие фразы о превосходстве добродетели над богатством и властью, но образы Бакхилида нередко ярче образов Пиндара. Это зависит от того, что он представлял их не в общих контурах, не в беглых чертах, а обрисовывал со всей полнотой. Бакхилид не задается такими вопросами, как загробная жизнь человека, его интересует жизнь земная с ее радостями и наслаждениями; жизнь, свободная от тревог и волнений, представляется ему идеалом счастья (фр. 11/19). Но так как, по Бакхилиду, божество дает счастье в удел немногим и нельзя дожить до старости, не испытав горя, то иногда проскальзывает в его стихотворениях мрачное настроение. Например, в эпиникии в честь Гиерона (V, 160) поэт говорит, что самое лучшее человеку не родиться.
По таланту Бакхилид значительно уступает Симониду и Пиндару и в своих стихотворениях нередко подражает им обоим. В его стихах встречаются целые выражения из Гомера и Феогнида.[5]
Бакхилид не имел большого влияния на греческую литературу - слава Симонида и Пиндара затмила его, - но все-таки он не был забыт, и цитаты из его стихов встречаются у таких поздних авторов, как Лонгин и Юлиан. Бакхилида читали и в Византии, о чем свидетельствуют упоминания о нем в схолиях к Пиндару (Лимп. XIII, 1), у Стобея и др.
Бакхилид пользовался известностью и в Риме. Его высоко ценили и ему подражали такие поэты, как Гораций. Порфирион в своих схолиях к Горацию отмечает влияние Бакхилида на содержание 15-й оды первой книги, а 18-я ода второй книги Горация представляет близкое подражание одному из сколиев Бакхилида (фр. 21 ).[6] Простой слог Бакхилида был более доступен римлянам, чем сложные периоды Пиндара.
Значительно было влияние Бакхилида на греческое искусство. Его трактовка мифа о Тезее послужила основой для изображения этого мифа на аттических вазах, из которых несколько сохранилось до настоящего времени. Одна из таких. ваз находится теперь в Cabinet des médailles парижской Национальной библиотеки, другая - в коллекции Триказэ в Руво. По Бакхилиду исполнена также сцена из мифа о Тезее на аттическом кратере, находящемся в ленинградском Эрмитаже.[7] Судя по описанию картины Микона, находившейся в афинском Фесейоне, которое дает Павсаний (I, 17, 2 сл.), можно полагать, что этот художник следовал версии мифа о Тезее, представленной Бакхилидом.
Бакхилид был внесен александрийскими учеными в число лучших лирических поэтов, но это не спасло текста его произведений от почти полной утраты (до конца·XIX века). Так, в издании Т. Бергка находится только 47 фрагментов, большинство из которых заключает лишь по нескольку строк. Нет здесь целого ряда эпиникиев, нет и пеанов, составленных на основе мифов о Тезее, которые стали нам известны благодаря находке в 1896 г. папируса с текстом Бакхилида. Но к этому тексту присоединяются все новые и новые находки стихотворений Бакхилида, а более внимательное изучение уже известных папирусов Берлинского и Лондонского музеев открывает новые варианты изданного текста[8].
[1] Указания древних авторов о времени жизни Бакхилида разноречивы. Критическую оценку их см. у А. Körte, Bacchylides (Hermes, 1918, стр. 113 сл.).
[2] De exil., гл. 14.
[3] Аполлон.
[4] Мнения ученых о том — кто второе лицо диалога, различны: одни полагают, что это Медея, другие — какой то афинянин или даже хор.
[5] Bacch. V, 1160; ср. Theogn. 425-423.
[6] См. K. Brandt, De Horatii studiis Bacchylideis (Festschr. J. Valen, Берлин, 1900, стр. 297 сл.).
[7] Б. Фармаковский, Бакхилид и аттическое искусство V века (Журн. мин. нар. просв., 1898, стр. 37 сл.).
[8] F, Pryce, An illustration of Bacchylides (Jotirn. of hell. Stud., 1936, стр. 77—78).
2. ТИМОФЕЙ
Во второй половине V и первой половине IV века до н. э. в греческой лирике произошла резкая перемена. Это было вызвано переломом в социальном строе греческих государств. Тиранния и олигархические формы правления почти всюду заменяются демократическим строем. Опустели дворцы сицилийских, самосских и афинских тираннов, где собирались талантливые поэты, получавшие там и приют и заказы на хвалебные песни в честь тираннов. Эпиникии замолкли. Народные массы требовали от поэзии не прославления тираннов, а отклика на общечеловеческие чувства. Развившийся вкус греков уже не удовлетворяли несложные по содержанию гипорхемы, эпиталамии, просодии и тому подобные лирические произведения. Стала чувствоваться потребность в более сложных видах поэтического творчества, где ярче выступала бы личность человека с его жизненной борьбой, с борьбой страстей, - чувствовалась потребность в драме. Зачатки драмы уже появлялись в таких стихотворениях, как "Юноша, ила Тезей" Бакхилида, и еще раньше в некоторых произведениях Стесихора.
Кроме того, сильно развившаяся музыка стала соперничать со словом. Лирические поэты начали обращать большое внимание на музыкальную сторону своих произведений и даже подчинять музыкальной композиции самый текст.
Наиболее выдающимся поэтом этого периода был Тимофей Милетский.
По словам Свиды, Тимофей, сын милетского гражданина Ферсандра, был современником Эврипида я умер 97 лет отроду. По "Паросской хронике", он умер в архонтство Кефисодора (360 г. до н. э.) в возрасте 90 лет. Если принять дату "Паросской хроники", то год рождения Тимофея - 450 г. до н. э.
О жизни Тимофея мало известно. Знаем только, что он много путешествовал, часто бывал в Афинах, побывал в Спарте, Македонии и других местах Греции. Умер Тимофей в Македонии, в городе Пелле, при царе Филиппе II.
Тимофей был очень плодовитым поэтом. Свида приписывает ему 19 номов, 35 вступлений к гимнам (προοίμια); кроме того, он составлял хвалебные песни (ἐγκώμια) и много других произведений. Особенно прославился Тимофей своими номам которые в его творчестве достигли окончательной формы развития.
Из слов Плутарха[1] видно, что Тимофей был оригинальным, смелым поэтом, не шедшим по следам других, а пролагавшим в области поэзия новые пути.
До начала XX века были известны лишь небольшие отрывки сиз произведений Тимофея. Только в 1902 г. в Египте, при раскопках близ деревни Абусиры, нашли папирус, содержащий значительный отрывок (261 стих) из нома Тимофея "Персы". Этот папирус относится к IV веку до н. э. Текст папируса был прочитан Виламовиц-Меллендорфом, который выпустил в свет его первое издание.[2] О несомненной принадлежности Тимофею этого отрывка свидетельствуют его последние стихи (ст.241 сл.), где Тимофей прямо говорит о себе.
Сюжетом для этого стихотворения был взят эпизод из борьбы греков с персами - Саламинская битва. Начало нома в папирусе так испорчено, что его возможно восстановить. Далее изображена картина битвы. Бой в полном разгаре: поэт передает ужас побеждаемых, стоны раненых, выброшенных на берег, вопли утопающих, просьбы о пощаде, беспорядочное бегство персов и торжество греков. Поэт рисует смелые образы: он олицетворяет даже неодушевленные предметы - корабли, весла; стрелы тоже представлены какими-то змеями с медной головой и крыльями. Многие образы здесь так смелы и необычны для нашего времени, что первый издатель "Персов" Виламовиц-Меллендорф отказался дать точный перевод этих стихов и представил перифразу их на греческом языке, подобно древним схолиастам.[3] Кроме "Персов" до нас дошли отрывки еще нескольких номов Тимофея: "Киклоп", "Ниоба", "Одиссей", "Скилла". Они настолько незначительны, что восстановить их содержание полностью невозможно. Сюжеты этих произведений заимствованы из эпоса, так же как и сюжет дифирамба "Эльпенор"- о герое Эльпеноре, спутнике Одиссея, умершем и оставленном без погребения в стране волшебницы Кирки.
У древних авторов сохранилось упоминание о дифирамбе Тимофея Σεμέλης ὠδίς ("Муки рождения Семелы"). Эта тема, вероятно, была заимствована из гомеровского гимна к Аполлону, в котором поэт говорит о муках Латоны, рождающей Аполлона. В этом дифирамбе Тимофей старался выразить звуками своих слов и музыки стоны Семелы, рождающей Диониса. Афиней (VIII, 352a) сообщает, что один из слушателей этого дифирамба насмешливо заметил: "А как бы она стонала, если б рождала не бога, а простого наемника?".
От знаменитого гимна Тимофея в честь Артемиды сохранилось лишь несколько стихов.
Отношение современников к Тимофею было различно. Некоторые высоко ценили его произведения, о чем свидетельствует большое число его побед на состязаниях. Жители Эфеса так восторгались песнями Тимофея, что заказали ему составить гимн в честь наиболее чтимой их богини Артемиды. Но Тимофей не избежал и резких порицаний. Особенно нападали на него аттические комики. По свидетельству Плутарха (О музыке, гл. 30), Ферекрат представил в одной из своих комедий музыку в виде совершенно изувеченной женщины. Дика (олицетворенная Справедливость) спрашивает: кто ее так изувечил. "Тимофей, - отвечает она, - без стыда истерзал меня и просто в гроб вогнал. Он всех превзошел своими чудовищными диссонансами, от которых ползут мурашки, недопустимые ноты чрезмерной высоты и какие-то свистульки. Модуляции его меня изъели, как гусеницы редьку... А встретив меня, когда я иду куда-нибудь одна, он раздевает меня и запарывает двенадцатью струнами".
Неприветливо встретили Тимофея и спартанцы. Когда он прибыл в Спарту, эфоры предложили обрезать лишние четыре струны на его одинадцатиструнной кифаре.
Но потомство оценило Тимофея. С похвалой отзывался о нем Платон, а Аристотель говорит: "Если бы мы не имели Тимофея, то в нашей мелике был бы большой пробел".[4] Даже суровые дорийцы стали признавать красоту его песен. До настоящего времени сохранилась надпись II века до н. э. критских городов Кносса и Прианса, в которой они благодарят послов города Теоса - Гераклида и Менекла, за то что они исполняли у них под звуки кифары песни Тимофея Милетского.
Тимофей не был забыт и в Византии, о чем свидетельствуют упоминания у Свиды и византийских схолиастов.[5]
Еще до смерти Тимофея греческий мелос стал быстро падать, уступая место другому виду поэзии - драме, переходом к которой послужили уже некоторые произведения Стесихора и такие дифирамбы и номы, как "Тезей" Бакхилида и "Персы" Тимофея.
[1] An seni regend. sit resp., гл. 23.
[2] Timotheus. Die Perser. Берлин, 1903.
[3] Некоторое понятие о сильно приподнятом, вычурном стиле этого нома может дать приблизительный перевод его начала: „…Точно молния, бросились враги на лишенные гребли суда, обнажая опоясанные льняными канатами бока; враги разбивали их, и они, обезображенные ударами железноголовых таранов, стремглав погружались в море. Молниеносный Арес, истребитель смертных, вылетел из рук воинов в виде метательных копий и, поражая врагов, трепетал в их теле своим только что рассекшим воздух древком; то и дело падал твердый, как камень, свинец; носились сжимаемые деревянной рогаткой огненные шары, и легкокрылые медноголовые стрелы, слетая с тетивы, отнимали жизнь у бойцов“.
[4] Arist Metaph. II. I. 993a.
[5] Схолии к „Ахарнянам“ Аристофана, 532.
ДРАМА
Глава XIX НАЧАЛО ГРЕЧЕСКОЙ ДРАМЫ
1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДРАМЫ
Изучение первичной драмы греков, при всей сложности этой задачи, представляет особую важность: в Греции было положено начало художественному развитию этого вида поэзии. Несмотря на всю неполноту сведений о первичной драме у самих греков, здесь все-таки легче, чем на драме какого-либо другого народа, выяснить, хотя бы приблизительно, те условия, при которых из первичных игр и обрядов могло возникнуть произведение высокого искусства.
"Драма в отличие от эпоса и лирики уже в первых своих художественных проявлениях сохранила весь синкретизм обрядового хора, моменты действа, сказа, диалога".[1] Выступления обрядового хора (игры) наблюдаются у всех народов на первичной ступени их развития и сопровождают основные виды труда, причем характер таких игр по своему содержанию стоит в неразрывной связи с различными формами хозяйства, существующего у того или другого народа. Наблюдения этнологов показали, что в среде, поддерживающей свое существование еще только охотой, рыбной ловлей или скотоводством, содержание мимических, т. е. подражательных, игр воспроизводит исключительно разные подробности соответствующего вида производства. Но там, где население уже усвоило себе начатки земледелия, мимические игры наглядно воспроизводят смену зимы весной, связанной с началом полевых работ. Например, у славян, в частности у русских, развилась игра, главным действующим лицом в которой является дочь Мороза и Весны-Красны - Снегурочка. Эта игра ежегодно исполнялась в Поволжье и недалеко от Москвы еще в середине минувшего столетии при первых признаках приближения весны, во время масленицы, которой на Западе соответствуют карнавал, "майские танцы" древних кельтов и т. п.[2] Сравнительное изучение земледельческих праздников доказало почти повсеместную их связь с почитанием - весной и детом - умирающего и воскресающего божества. Не случайно у нас весенний праздник "красной горки", излюбленное время свадеб в недавнем быту, справлялся накануне "радуницы", когда шли на могилы поминать близких.[3] В древнем Египте к таким обрядам относится культ Озириса, в Вавилоне - Таммуза, во Фригии - Аттиса, у греков - Персефоны-Коры, Гиацинта, Адониса и особенно Диониса. Постоянные эпитеты Диониса - Древесный, Лозовой, Виноградный - указывают на связь представлений об этом боге с растительной жизнью природы.
У греков возникновение драмы связывалось с культом Диониса, бога винограда и вина. Очень любопытно свидетельство Симонида (у Афинея II, 11 р. 40b), будто "от опьянения произошло изобретение и комедии и трагедии в Икарии". "Тотемом" Диониса был козел, чем и объясняется выступление его почитателей в обличьи козлов: песнь в честь Диониса его почитатели пели, надев козьи шкуры, подвязав копыта и рога; человек как бы выходил из своей оболочки и в исступлении (по-гречески: экстазе) становился способным к необычным для него поступкам. Это вызывало перевоплощение участников этого культа, которое и составляет основу всякой драмы. Экстаз охватывал не только отдельных участников праздника, но и целые их толпы, хоры, и недаром Аристофан подчеркнул особую любовь Диониса к хорам ("Женщины на празднике Фесмофорий", ст. 991-992).
[1] А. Веселовский, Собр. соч., т. I, СПб., 1913, стр. 354 (Историческая поэтика, Лг., 1940, стр. 291).
[2] См. Вс. Миллер, Русская масленица и западноевропейский карнавал. М., 1884.
[3] См. Ю. М. Соколов, Русский фольклор. М., 1933, стр. 148—149.
2. КУЛЬТ ДИОНИСА И ДИФИРАМБ
В "Вакханках" Эврипида (ст. 526), в песне хора, Зевс обращается к Дионису, называя его Дифирамбом.
Платон (Законы III, гл. 15, р. 790b) упоминает дифирамб, называя его песней о рождении Диониса.[1]
Изобретение дифирамба древние приписывали Ариону: "Говорят, будто дифирамб изобрел в Коринфе Арион. Первому из поэтов наградою на состязании был бык, второму - кувшин вина, третьему - козел, которого уводили, вымазав его виноградным суслом".[2] По видимому, это происходило на празднике, схожем с тем, который видел Павсаний (VIII, 19, 2) в одной из местностей Аркадии, где к храму бога Диониса зимой мужчины, с натертыми жиром телами, приносили быка, взятого из стада, подняв его на плечи. Геродот (I, 23) сообщает, что кифаред Арион из Метимны первый изобрел дифирамб и исполнил его с Коринфе.
Слова Архилоха: "умею начать дифирамб, прекрасную песнь в честь царя Диониса, заглушив свои мысли вином" (фр. 74), - подчеркивают состояние опьянения исполнителей дифирамба, в котором из хора уже выделяется запевала. Такие хоровые игры исполнялись на празднике Диониса, так называемых Дионисиях. Сохранилось достаточно известий об обстановке этого праздника: "в древности он справлялся попросту и весело: кувшин вина и виноградная лоза. Затем кто-нибудь тащил козла, другой шел за ним с корзиной фиг, и наконец - фалл".[3] Это и составляло шествие в честь Диониса - Тиас. Такое шествие ввел Аристофан в состав своих "Ахарнян", где ярко отражена обстановка и настроение сельских Дионисий (ст. 250), сопровождавшихся пением фаллических песен (то φαλλικόν, ст. 261 сл.).
В первичных играх можно видеть "вполне ясные признаки материалистического мышления, которое неизбежно возбуждалось процессами труда и всею суммою явлений социальной жизни древних людей".[4]
У египтян в преданиях об Озирисе или Изиде видное место занимает их плавание на ладье; греки же эпифанию (явление своих божеств) нередко изображали на корабле,[5] особенно часто связывая это с Дионисом, что нашло свое отражение на многих рисунках на вазах, например на Болонской вазе, изданной Ф. Дюммлером.[6] На ней силены тащат колесницу, устроенную в виде корабля. На колеснице сидит Дионис, держащий в руках гроздь винограда, а по бокам его стоит по силену, играющему на двойной флейте. Перед колесницей силены ведут быка, а за ней идут мальчик и женщины с принадлежностями для жертвоприношения. У афинян был обычай по весне представлять пришествие Диониса в обрядовых действах. По мнению Бете, эти шествия, воспроизводившие приход Диониса и замыкавшиеся в орхестре театра, были зародышем трагедии. Маска актера могла меняться, и скоро место первоначального Диониса заступили другие боги, люди и герои.
Искусство часто изображало Диониса на корабле: кроме вазы Мюнхенского музея (О. Ян, № 339) работы мастера Эксекия, он изображен также на Берлинской чаше (№ 2961) и на амфоре из Корнето. На вазах же Афинского, Лондонского и Болонского музеев корабль, в котором сидит Дионис, поставлен на колеса. Окружают его обычно участники процессии, которые ведут ка заклание быка. Процессия с кораблем Диониса устраивалась не в одних Афинах. Дошло подробное описание такой процессии, устроенной в Александрии Птолемеем Филадельфом в 274 г. до н. э. Среди жрецов и актеров двигалась четырехколесная колесница со статуей Диониса в длинной одежде, причем этот бог был изображен совершающим возлияние из золотого кубка (Афиней V, 198с). И у нас, в Сибири и в Архангельске, в середине XIX века существовал обычай возить по улицам огромной величины корабль с парусами и снастями, поставленный на нескольких сколоченных вместе санях, запряженных двадцатью лошадьми. На нем сидели скоморохи, медведь и "госпожа Масленица" - славянское божество плодородия.[7]
Сопоставляя упомянутые рисунки на вазах со свидетельством Горация об исполнении древнейшей трагедии на повозках (Ars poetica,.ст. 276), Э. Бете полагает, что такие шествия могли способствовать развитию драматической игры, и подчеркивает наличие пышных выездов, во многих трагедиях V века до н. э.[8]
[1] Ср. Пиндар, Ол. XIII, ст. 25-26.
[2] Схолии к „Государству“ Платона, р. 394c.
[3] Плутарх, Mor., р. 527c.
[4] А. М. Горький. Доклад на съезде советских писателей 17 августа 1934 г.
[5] См. H. Usener. Sintflutsagen, стр. 120.
[6] Rh. Mus., 1888, стр. 355 сл.
[7] А. Потебня, Чтения Общ, ист. и др., 1865, III, стр. 191.
[8] Эсхил „Просительницы“, ст. 182 сл.; „Персы“, ст. 607; „Семеро против Фив“, cт. 961; „Агамемнон“, ст. 783 сл.; Софокл „Трахинянки“, ст. 240, 305; Эврипид·„Алкестида“, ст. 607; „Просительницы“, ст. 568 сл.
3. НАЧАЛО ГРЕЧЕСКОЙ ДРАМЫ
Выделение из хора запевалы-солиста допускало замену его захожим фигляром, мастером на потешные забавы, менее всего склонный держаться строгих и тесных рамок обряда; но это только помогало росту художественной стороны драмы: по наблюдениям А. Веселовского, моментом художественного развития драмы является ее выход из культа.[1] Ни у одного народа древности миф не давал такой обильной почвы для выхода из культа, как именно у греков. Только у них не было непроходимой пропасти между богом и человеком, как это видно хотя бы из того места "Илиады", где на жалобы своей дочери Афродиты, что ее ранил Диомед, Диона указывает, как много бед терпят живущие на Олимпе боги. Примеры из "Илиады" ясно показывают, что и люди и боги стоят у греков почти в равных условиях борьбы (Ил. V, 375-415, ср. 873-887). Только в Греции не было замкнутой касты жрецов, которая своими запретами и заповедями запрещала бы изображать богов в образе человека и мешала бы свободному развитию мифов, почти незаметно перераставших из религиозных сказаний в чисто поэтические сюжеты. Отсюда в Греции незнакомый другим народам простор для мифотворчества. Драматическое воплощение отвлеченных учения переходит в Греции в состав мистерий, которые в течение нескольких ночей, начиная с 20 боэдромиона (сентябрь - октябрь), справлялись в Элевсине, но были доступны лишь посвященным. Устройство драматических представлений в мистериях засвидетельствовано надписями. Продолжались эти представления несколько дней и изображали брак Зевса с Деметрой, от которого рождался Иакх, похищение Коры Плутоном, поиски Деметрой ее дочери, возвращение ее, примирение Деметры с богами и обучение людей земледелию Триптолемом. Это доказывает связь и мистериальных драм с земледелием.[2]
Гибкость поэтической мысли позволяла грекам свободно переносить черты участников одного предания на участников другого. Благодаря этому в некоторых городах Греции место Диониса заступали иные боги и герои. Так, по Геродоту (V, 67), в Сикионе содержанием трагических хоров были песни не о Дионисе, а об Адрасте.
До самого последнего времени в пределах древней Греции - в глухих деревнях Фракии жили обряды, воспроизводившие земледельческую драму.[3] Эта драма представляет собой причудливое сочетание подробностей культа Диониса с обрядами свадьбы и похорон, взятыми из православного богослужения.
Очень сложное содержание Драм трех великих трагических поэтов Греции не позволило уже древним ученым сводить его целиком к преданиям об оплодотворяющей силе бога Диониса. Так, безыменный составитель схолиев к Дионисию Фракийскому[4] видит в трагедиях обработку древних сказаний о героях, их страданиях и смерти, а также погребальных плачей (θρῆνοι) по ним. Исполнение всего этого в театра должно, по его мнению, удерживать зрителей от их заблуждений и примирять с собственными страданиями, в чем заключается польза трагедии для граждан. Это замечание позднего ученого древности заслуживает особого внимания потому, что объясняет наличие в составе дошедших до нас трагедий многочисленных сцен "плачей", образцом которых может служить то место "Андромахи" Эврипида, где престарелый Пелей оплакивает Неоптолема, склонясь над его трупом (ст. 1173-1225):
Град Фессалийский! О, горе какое!
Племени нет у меня, ни детей!
Гор! К кому обратиться, не знаю.
Кто же утешит меня?
Внук мой усопший, тебя обнимаю.
Милые щеки, уста!
Милые руки! О, если б судьба
Под Илионом сгубила тебя!
Затем хор поет:
О, начнем же и мы
Похоронную песнь
По умершем своем властелине.
Пелей
О несчастный, увы!
На печальную песнь
Я, несчастный, отвечу слезами.
(Перев. Н. Котелова)
Сюда же относится знаменитый монолог Электры у Софокла, когда она берет в руки урну, думая, что в ней заключен прах горячо любимого брата Ореста, в погибели которого она уверена (Электра, ст. 1126 сл.). "Плачам" по умершим придавали особое значение. Так, в "Илиаде" Ахиллес очень скорбит с том, что его друг Патрокл не оплакан (XXII, ст. 385). "Илиада" содержит несколько сцен "плачей" по умершем (XVIII, ст. 21-126, 315-355, XIX, ст. 282-301). Особенной грустью окрашен плач родителей и вдовы по Гектору (XXII, ст. 405-515, XXIV, ст. 61-168, 730-776). Из этих "плачей" легко могли развиться чисто драматические сцены.
Подробнейшее описание "плача" по Патрокле содержит песнь XXIII "Илиады": в честь Патрокла устраиваются пышные состязания в конском беге (ст. 262 сл.), кулачном бою (ст. 653 слл.) и стрельбе из лука (ст. 850 слл.). По мере развития драмы и она могла войти в состав таких состязаний.
В начале XX века возник очень любопытный домысел о происхождении трагедии из обрядовых плачей сперва об умиравшем боге Дионисе, а затем, по мере расширения содержания игр, также и о других богах и героях. Эта сторона сюжетов достигла вершины своего художественного развития в таких образцах, как "Персы" Эсхила, "Эдип в Колоне" Софокла, "Троянки" Эврипида и др.
Такое решение вопроса, объединяющее противоречивые свидетельства самих древних, дает достаточное объяснение составных частей дошедших до нас трагедий греков и, в то же время, связывает возникновение и развитие их драмы с тем, что наблюдается в этой области искусства у других народов, обычаи которых легче поддаются непосредственному наблюдению. Но по самому составу наших источников (их обзор вместе с новейшей литературой вопроса дан в приложении к этой главе) это лишь наиболее правдоподобная из возможных догадок, оставляющая после себя еще много загадочного и неясного.
Решение вопроса о происхождении у греков трагедии должно, по видимому, состоять в признании в ней наличия следов земледельческой игры, связанной с уходом старого и приходом нового года, причем плач об умершем годе мог через развитие мифотворчества переходить в "плачи" и о героях.[5]
[1] А. Веселовский, Собр., соч., т. I, стр. 355 (Истор. поэтика, стр. 291).
[2] См. Н. И. Новосадский, Элевсинские мистерии, СПб., 1887, стр. 119—137.
[3] См. статью R. M. Dawkins в The Joum. of Hell. Stud., т. 25, 1906, стр. 191 206. Ср. Wace, Ann. Brit. School, т. 16, стр. 232 сл.
[4] Bekker, Anecdote Graeca, p. 746, 1.
[5] Позволительно отметить, что русские похоронные плачи, восходящие своими корнями к эпохе язычества, имеют драматическую форму, распадаясь на несколько актов: плач при выносе покойника, плач на кладбищ; перед открытым гробом, плачи на поминальном обеде от лица покойника или покойницы, от лица родителей и т. д. Ср. описание похорон Насти у Мельникова–Печерского („В лесах“) и „Причитания Северного края“ Барсова.
4. ДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ПРАЗДНЕСТВА В ЧЕСТЬ ДИОНИСА
За все время своего существования греческий театр строго сохранял одну особенность первичной драмы: представления происходили лишь в дни празднеств в честь бога Диониса. До нас дошел текст: "Дионисии, праздник Диониса в Афинах". Справлялись сельские Дионисии в месяце посейдеоне (декабрь-январь), Леней - в месяце гамелионе (январь-февраль), городские Дионисии - в месяце элафеболионе (март-апрель)".[1] Пропущенный в этом перечне месяц антестерион (февраль-март) также сопровождался в Афинах драматическими представлениями; на нем поминки умерших соединялись с открытием бочек и с пробой нового вина по случаю пробуждения весны. Первыми цветами весны украшали и сосуды и детей, которым дарили игрушки. На второй день праздника по городу ходили ряженые сатирами и устраивались состязания: кто успевал скорее опорожнить кубок, тот получал в награду венок из плюща и мех вина. Представляли также бракосочетание "царицы", супруги архонта-царя, с Дионисом, в воспоминание "священного" брака Диониса с критской царевной Ариадной.[2] Во время Антестерий в Афинах на колеснице в виде корабля въезжал сам Дионис, тогда как на острове Делосе на колеснице возили его атрибут - фалл.[3] Тождество этого праздника с Дионисиями видно из того, что в Кизике один и тот же праздник в надписях (например, CIG II, 3655) называют то Дионисиями, то Антестериями.
К празднику Дионисий каждая колония посылала по фаллу, как это видно из надписи (IG I², 245), а участники фаллических процессий (итифаллы) пели гимны, в которых в эллинистическую эпоху прославляли владык, например Деметрия, сравнивая его лик с солнцем. Отрывок такого гимна из Дурида приводит Афиней (VI, 63, р. 253 d-e; ср. XII, 60, р. 542c).
Во время праздника Дионис на колеснице изображался либо его символом - фаллом (так было на Делосе), либо человеком, иногда взрослым, иногда мальчиком. Такое перевоплощение человека в бога связывало праздничный обряд с театральным представлением и создавало почву для широкого развития актерского мастерства.
Городские Дионисии находились в непосредственном ведении архонта, в помощь которому народ избирал еще десять особых "попечителей".[4] Устройство этих праздников продолжалось, как это видно из надписей, вплоть до времени Римской империи; после Панафиней они являлись самым блестящим праздником в Афинах; там на время, пока происходили празднества, выпускали даже преступников из тюрем.[5] О ходе и составе устраиваемых на городских Дионисиях драматических представлений можно судить по так называемому закону Эвегора, выписка из которого имеется в речи Демосфена против Мидия (§ 10), и по многочисленным надписям. Ряд надписей содержит записи о победах на этом празднике за много лет подряд (например, IG II, 971 от 472/471 г.) Продолжался праздник три или четыре дня, и в IV веке до н. э. прочно установился такой порядок: первый день - драма сатиров, возобновление старой трагедии, пять комедий; второй день - четыре (или пять) новых трагедий; третий день - пять (или четыре) новых трагедий. Такой же порядок удержался в тех местах Греции, куда этот праздник перешел из Аттики, как это видно по одной надписи из Феспий III века. Участники этих хоров были не платные, а любители из числа граждан.
Наряду с драматическими представлениями на городских Дионисиях выступали хоры юношей и взрослых, исполнявшие дифирамбы. Таких хоров было десять, в связи с десятью филами, установленными Клисфеном. Может быть, поэтому и "Паросская хроника" относит начало этих представлений дифирамбических хоров как раз к 508 г. до н. э., - году законодательной деятельности Клисфена.
Едва ли справедливо мнение Ю. Г. Липсиуса и других, будто сельские Дионисии возникли после 535/534 г. до н. э. путем перенесения из Афин этого праздника: скорее он и в самых Афинах развился из повсеместного праздника. Лучшее, хотя и очень малое понятие об устройстве и характере этих сельских представлений дает комедия Аристофана "Ахарняне", где Дикеополь вместе со своей дочерью и рабом Ксанфием устраивает такое празднество (ст. 241). На сельских Дионисиях исполнялись трагедии таких крупных поэтов, как Эврипид, и ка надписях сохранились сведения только об этих представлениях.[6] Аристофан в "Ахарнянах" (ст. 502 сл.) говорит, что Клеон не обвинит его в том, будто он позволяет себе поносить родной город в присутствии иноземцев, потому что "теперь у нас состязание на празднике Леней, когда нет иноземцев и союзников, приносящих сюда свою дань". Отсюда делали вывод, что вообще Леней отличались меньшей пышностью и многолюдством, чем городские Дионисии, ко времени которых приурочен был и привоз союзной дани в Афины. Но, по мнению Никитина,[7] слова Аристофана не имеют общего значения, а относятся лишь ко времени войны, мешавшей сношениям союзников с Афинами по морю и вообще стеснявшей и ограничивавшей приток в Афины иногородних зрителей.[8] Надписи сохранили протоколы драматических состязаний и на Ленеях: CIA II, 972, 420-192 гг. до н. э.; 975, от 188/187 г. по 157 гг. и т. д.
Заведывал этим праздником также архонт-царь вместе с попечителями (Полидевк VIII, 90).
Леней устраивались не только в Афинах, но и в других местах, например на Родосе.[9] Предисловия древних грамматиков сообщают об исполнении на Ленеях "Ахарнян", "Всадников", "Ос", "Амфиарая" и "Лягушек" Аристофана, тогда как первая обработка его "Облаков", "Мир" и "Птицы" шли на городских Дионисиях.
[1] Bekker, Anecd. Graeca. p. 235, 6.
[2] См. Латышев. Очерк реч. древн., ч. 2, СПб. 1889, стр. 142.
[3] Л. Дейбнер, Arch. Jahrb., т, 42,(1927), стр.172—192, со многими рисунками.
[4] Аристотель, Афинская полития, гл. 56, 3-5.
[5] См. Схолии к речи Демосфена против Андрогиона, § 68.
[6] Например, CIA II, 389, 469, 585.
[7] П. В. Никитин. К истории афинских драматических состязаний, стр. 43.
[8] Однако С. И. Соболевский не согласен с П. В. Никитиным и полагает, что война не служила помехой союзникам приезжать в Афины: во–первых, гегемония на море принадлежала афинянам; во–вторых, в указанном месте Аристофана сказано: κοὔπω ξένοι πάρεισιν — „и еще не присутствуют иностранцы“: слова „еще не“ могут указывать лишь на то, что еще не наступило время приехать иностранцам в Афины, потому что теперь зима, а не весна, — потому что теперь Леней, а не Дионисии. Если бы мешала война, то и на Дионисии им нельзя было бы приезжать.
[9] О празднике Дионисии на этом острове сообщает Диодор, XX, 84. См. также надпись IG XII, 1, 125, если только она относится к Родосу, а не к Риму, как это полагает А. Вильгельм. Составлена она, по видимому, в III веке до н. э.
5. ПЕРВЫЕ ГРЕЧЕСКИЕ ТРАГИКИ ФЕСПИД И ФРИНИХ
Установление (εὕρημα) трагедии древние приписывали Феспиду, уроженцу аттического дема Икарии.[1] Гораций указывает, что произведения Феспида исполнялись актерами, стоявшими на телеге; актеры играли вымазав себе лицо винным суслом.
Родина Феспида - Икария (на юго-западе Аттики). Существовало предание, будто жители этого дема впервые устроили пляски вокруг козла (Гигин II, 1). Плутарх (Жизнь Солона 29) сохранил свидетельство о недовольстве Солона представлениями Феспида, встреченными, как новинка, очень сочувственно большинством зрителей; свидетельство Плутарха относится ко времени, предшествовавшему установлению тираннии Писистрата, т. е. к середине VI века до н. э. Это согласуется со свидетельством "Паросской хроники" об установлении первого "агона" в 61-ю олимпиаду (536-532 г. до н, э.). Из известных четырех названий его трагедий только "Пенфей" относится к кругу сказаний о Дионисе.
К 64-й олимпиаде (524-520 г.) относят первое выступление афинянина Херила, который конкурировал на драматическом состязании с Эсхилом в 499 г. до н. э. Жизнеописание Софокла сообщает, что и он выступал на состязаниях с Херилом. Если это и указывает на продолжительность его сценической деятельности, то все-таки свидетельство древних, приписывавших ему 160 драм, вызывает сомнения. Известна его трагедия "Алопа" (Павсаний I, 14, 2), предание о которой впоследствии обработал и Эврипид. Там шла речь о рождении братьев Керкиона и Триптолема, которого афиняне чтили как зачинателя земледелия, что допускает предположение о связи пьесы Херила с первичной земледельческой драмой.
Учеником Феспида древние называют афинянина Фриниха. Он одержал победу среди трагиков на состязании, устроенном Фемистоклом, как это видно из надписи, приведенной Плутархом в "Жизнеописании Фемистокла" (гл. 5), но на его долю выпадали и неудачи, насчет которых сложилась особая пословица.[2] Его трагедия "Взятие Милета", поставленная вскоре после разгрома этого близкого афинянам города, так их потрясла,[3] что они его оштрафовали на 1000 драхм и, по словам схолий, выгнали со сцены. В списке его пьес упомянуты и "Финикиянки". Эти две его трагедии представляют попытки, впоследствии почти совсем оставленные греками, брать драматические сюжеты из крупнейших событий политической жизни.
В "Лягушках" Аристофана (ст. 1299) сам Эсхил говорит о нежелании вступать на один и тот же "священный луг" с Фринихом.[4] С Софоклом у него есть общее заглавие трагедии "Эригона", с Эврипидом - "Алкестида" и "Финикиянки". Относительно последних древнее предисловие к "Персам" Эсхила указывает, что эта трагедия является переделкой "Финикиянок" Фриниха.
Смерть Мелеагра, которому Эврипид посвятил особую трагедию, Фриних изобразил в "Плевронянках", обработав предание, распространенное по всей Греции (Павсаний X, 31, 2). Но отрывки из этих трагедий так малы, что нельзя установить их отношение к пьесам трех великих трагиков. В трагедиях Фриниха много места было отведено пляскам; о них он сам говорил (у Плутарха, Quaestiones symposiacae VIII, p. 732), что видов их так же много, как волн на море в бурную ночь.
Древние отмечали, что и Фриних и Эсхил настолько расширили содержание трагедий, что в них почти не было уже никакого отношения к Дионису. Сложившаяся на этот счет поговорка была облечена в форму вопроса: τί ταῦτα πρὸς τὸν Διόνυσον.[5] Это позволяет предполагать возникновение ее в кругу таких любителей старины, которым был не по душе выход поэтов из узких рамок первичной обрядовой драмы, хотя Хай[6] находит, что период Фриниха и Эсхила - слишком поздний для возникновения этой поговорки (если принять объяснение о включении в трагедию мифов, не касающихся Диониса), и считает вероятным, что эта поговорка возникла во времена Феспида. Ни от одного из первых трагиков не сохранилось не только цельной драмы, но даже значительных отрывков.
[1] См эпиграммы Диоскорида в Палат, ант. VII, 410, 411, где подчеркнута связь Феспида с сельскими играми.
[2] Схолии к „Осам“ Аристофана, ст. 1490.
[3] Ср. Геродот VI, 21.
[4] В словах Эсхила речь идет о лирических его песнях: он говорит, что взял их „из прекрасного источника“, в противоположность Эврипиду, который без всякого разбора берет свои песни из скверных источников. Под словами „из прекрасного источника“ (ἐκ τοῡ καλόῦ) ван–Леувен разумеет Терпандра. а Роджерс — Гомера. Общий смысл тот, что Эсхил не хотел заимствовать у Фриниха лирические части, которым Фриних славился, или подражать ему.
[5] „Какое отношение это имеет к Дионису?“ Плутарх, Quaest. Symp. I, p. 615a.
[6] Haigh. The tragic drama, 1896, p. 41.
6. ИСТОЧНИКИ И НОВЕЙШАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВОПРОСУ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТРАГЕДИИ
Греки правильно указали отличительный признак драмы - "действие", утверждая, что она получила свое название от "подражающих действиям".[1] Но ко времени Аристотеля, "Поэтика" которого была первой дошедшей до нас попыткой связного изложения вопросов истории и критики литературы, история драмы была уже не вполне ясна грекам, и они пытались восстановить ее путем произвольных догадок.
Аристотель выводит трагедию из так называемой драмы сатиров (τὸ σατυρικόν), утверждая, что в ней "диалог из шутливого сделался позднее величественным и из первоначально малых произведений возникли большие".[2] Эти признаки (малый объем и шутливые речи) подходят к драме сатиров, поскольку о ней можно судить по дошедшим до нас только двум пьесам этого рода - "Киклопу" Эврипида и "Ищейкам" Софокла, причем от последней драмы уцелела лишь часть. Они действительно короче трагедий тех же драматургов и носят ярко выраженную шутливую окраску. Однако новейшие исследователи полагают, что драма сатиров была не первичным видом трагедии, а схожей с ней по форме, но по содержанию совсем отличной ветвью драмы.
В той же главе, несколько выше, Аристотель отмечает импровизационный характер трагедии и приписывает ее создание "сочинителям дифирамба": γενομένη... ἀρχής αὺτοσχεδιαστικῆς... (ἡ τραγῳδία)... ἀπὸ τών ἐξαρχόντων τὸν διθύραμβον (p. 1449a), - что создает очень большие затруднения, потому что дифирамб сам по себе является одним из самых загадочных видов греческой поэзии. Аристотель (Поэтика, гл. 2, р. 1448 а) ссылается на дифирамбы поэтов V века Тимофея и Филоксена, но они не дошли до нас, а дифирамб XVIII Бакхилида "Тезей", представляя собой беседу Эгея и Медеи, ближе подходит к балладам; способ же его исполнения в древности сейчас не может быть точно установлен. Во всяком случае, к преданию о Дионисе и к его культу он не имеет никакого отношения. По мнению большинства исследователей, Аристотель здесь имеет в виду лишь какой-то отдельный, едва ли существенный признак дифирамба, содержание которого, по видимому, было очень разнообразно. Так, Плутарх (О музыке, 10, р. 1134e) среди произведений музыканта Ксенокрита, уроженца Локров в Южной Италии, отмечает и дифирамбы героического содержания.
Почти по каждому частному вопросу истории трагедии, затронутому Аристотелем, у древних были различные взгляды. Так, изобретение трагедии иные приурочивали не к Пелопоннесу, а к Икарии в Аттике (у Афинея II, 11, р. 40b).
Новые подробности об Арионе найдены в одной из рукописей Ватиканской библиотеки, содержащей сочинение византийца Иоанна Диакона с выписками из древних авторов, составляющими ее главнейшую ценность.[3] Здесь идет речь о происхождении трагедии: "Люди, отказавшись от дикой жизни и употребления в пишу желудей, перейдя к земледелию, учредили праздник для приношения богам начатков урожая. Чтобы украсить этот праздник, мудрые люди изобрели первым делом комедию; ее составителем был Сусарион; затем, когда потребовалось дать противовес распущенности комедии, была изобретена трагедия. По свидетельству Аристотеля, и та и другая были изобретены афинянами. Трагическую драму впервые создал Арион из Метимны, как это показал Солон в своих эпиграммах; по свидетельству же Драконта Лампсакского, драма была впервые поставлена в Афинах, когда ее составил Феспид". На основании этого текста считают, что первым этапом в развитии трагедии были дифирамбы Ариона в исполнении сатиров, причем Арион был только зачинателем этой игры, а ввел эти представления в Афинах Феспид. В упоминаемом здесь Драконте Лампсакском видят автора сочинения "Об аттических родах", который отстаивал заслуги афинян в деле создания трагедии против тех, кто, подобно Солону, приписывал это Ариону, действовавшему в дорийском Коринфе.
У более поздних ученых, заполнявших свои труды по большей части набором плохо проверенных выписок из самых разных источников, еще больше колебаний даже насчет самого значения слова "трагедия". Например, так называемый "Большой Этимологик" поясняет это слово тем, что хоры в трагедии состояли по большей части из сатиров, которых звали τράγοι, т. е. козлы. Подтверждение этому археологи видят на тех рисунках аттических и беотийских ваз, где изображены козлоподобные плясуны, в которых видят участников хора трагедии.[4] Другие истолковывали слово "трагедия" как "песнь за козла": козла давали в награду победившему на состязании исполнителю трагедии.[5]
В итоге новейших работ ученых над источниками расширилось и уяснилось представление о праздниках, с которыми связаны зачатки трагедии: обстоятельнейшее исследование Л. Дейбнера доказало родство Антестерий с Дионисиями. Надписи отдельных городов один и тот же праздник плодородия в начале весны называют без различия то Дионисиями, то Антестериями.[6] Э. Рейш оспаривает происхождение трагедии из дифирамба и название ее объясняет тем, что в награду участникам трагедии первоначально давали козла. Э. Бете доказал несостоятельность свидетельств, между прочим, Афинея (XIV, 28, р. 630c), о тождестве трагедии с драмой сатиров, состоявшей будто бы из одних только песен хора. Он настаивал на происхождении трагедии из сочетания хора с актером, воплощавшим бога в его общении со своими служителями и поклонниками. От драмы сатиров резко отличает трагедию П. Нильссон, признавая в τὸ σατυρικόν лишь одну из многочисленных разновидностей первичной драмы. Вместе с В. Риджуэем он особое внимание уделяет плачам (θρῆνοι), которые часто встречаются во многих драмах всех великих трагиков, и полагает, что они составляли существеннейшую принадлежность уже древнейшей трагедии. Эта точка зрения является особенно плодотворной и прекрасно объясняет почву, на которой могло уже в первичной драме возникнуть объединение тех разнообразных нитей, какие наблюдаются в трагедиях V века. Чисто религиозное значение трагедий особенно подчеркивал А. Дитерих, положив в основу своего объяснения связь между театральными представлениями (δράματα) и действами чисто обрядовых мистерий (δρώμενα). По его мнению, последний термин - чисто литургический, а первый - чисто светский, но оба они обозначали одно и то же явление. Он указывает затем, что и мистериям было присуще в высокой степени драматическое начало, в котором перед верующими воспроизводили переход от хорошего к дурному или наоборот. Центром этих мистерий был близко лежавший от Афин Элевсин, и как раз оттуда был родом первый великий трагик Греции - Эсхил. Смысл устройства представлений вообще и трагедий в частности Дитерих объясняет чисто обрядовым их назначением, привлекая к сравнению обычаи современных жителей Явы: там, если захворает в семье ребенок, зовут устроителя "театра теней" и заставляют играть пьесу, в которой изображается выздоровление. В конце актер подает руку отцу, и от этого жеста ребенок будто бы выздоравливает. Связь трагедии с мистериями переоценивает также и Эрвин Роде. Вильгельм Вундт всю драму выводит из мистических танцев, различая в них светскую и чисто религиозную ветви, причем сопоставляет последнюю с мистериями. [7] Гораздо более правдоподобным является, наоборот, использование устроителями поздней лих мистерий драматических сцен для более наглядного воспроизведения своих отвлеченных учений, как это затем повторило христианство, положившее в основу своего богослужения внешнюю рамку античной трагедии.[8]
Против этих попыток от жги от Аристотеля и дополнить его построения решительно восстал Виламовиц-Меллендорф в статье, посвященной вновь открытым отрывкам ."Ищеек" Софокла, найдя в них будто бы полное подтверждение того, что он утверждал уже во введении к "Гераклу" Эврипида.[9] Правда, он должен был признать наличие обильных "плачей" в заключительных частях "Персов" и "Семерых" Эсхила, но это, по его мнению, только позднейшие наросты на первичной трагедии, представлявшей собой до Феспида драму сатиров и состоявшей из сплошного пения. Феспид ввел актера, говорившего ямбические стихи, которые в Афинах были введены Солоном, и благодаря этому диалог трагедии получил ионийско-аттическую окраску, в то время как песни ее лирических частей удержали некоторые элементы языка своей дорийской родины.
Исходя из фрагментов Архилоха, Виламовиц считает, что дифирамб был сольной песней, исполнявшейся в честь Диониса на пирушках, и только Арион превратил его в Коринфе в хоровую песнь.
[1] Аристотель, „Поэтика“ гл. 3, ρ. 1448i: δράματα καλεῖσθαι τίνες αὺτά φασιν ὃτι μιμοῦνται δρῶντας.
[2] Гл. 4, p. 1449a, 19-20: ἑκ μικρών· μύθων και λέξεως γελοίας δια τὸ ἐκ σατυρικοῦ· μεταβαλεῖν όψὶ άπεσεμνύνθη
[3] Издано H. Rabe. Rh. Mus., 1903, стр. 127 сл.
[4] См. заметку Густава Керте в приложении к „Prolegomena“ Э. Бете, стр. 339 — 344.
[5] Схолии к „Государству“ Платона III, р. 394 с; схолии к Дионисию Фракийскому р. 746, 22; эпиграмма Диоскорида в „Палатинской антологии“ VII, 410; Гораций „Ars. poët“ ст. 230, ср. Вергилий „Георгики“ II, ст. 380—384. Римский ученый IV века н. э. Диомед, пользовавшийся разнообразными трудами, начиная с работ ученика Аристотеля Феофраста, принимает наряду с другими и это объяснение слова „трагедия“ (Ars gramm. III, гл. 8), так что его можно считать наиболее распространенным в ученых кругах древности.
[6] Это осторожнее, чем утверждение З. Дымшица („Эпифания Диониса в мифе“, стр. 231), будто Антестерии — древнейшая форма Дионисий.
[7] См. W. Wandt, Völkerpsychologe. Bd. II. Mythus und Religion, 1905, стр. 463—501.
[8] См. W. Kreizenach, Geschichte des neueren Dramas, Галле, 1911, стр. 43 сл.
[9] Wilamowitz Möllendorff, Die Spürhunde des Sophocles (Ilbergs Jahrb., т. 29, 1913, стр. 449 сл.).
Глава XX ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И УСТРОЙСТВО ТЕАТРА
1. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ДРАМАТИЧЕСКИХ СОСТЯЗАНИЯХ
Греческий эпос содержит отдельные указания на устройство состязаний в искусстве, относящихся к баснословным временам: в "Илиаде" (II, ст. 594-600) есть упоминание о фракийском певце Фамире, дерзко хвалившемся, что он победит на состязании в песнях и искусстве играть на кифаре даже самих Муз. Песнь XXIII "Илиады" подробно описывает состязания в честь павшего Патрокла (ст. 226-897), состоявшие из бега колесниц (ст. 262), кулачного боя (ст. 653) и состязания воинов в боевом вооружении (ст. 802 слл.). Гесиод (Тр. и дни, ст. 656-657) сообщает о состязании в песнях, на котором победителя награждали треножником. Учреждение гимнастических состязаний в Олимпии, относимое древними к 776 г. до н. э., придало закономерность исконному обычаю греков проверять свои успехи во всех видах искусства через соревнование на общественном состязании (ἀγών). Этот обычай получил с тэх пор такоз широкое распространение, что Я. Буркхардт удачно подчеркнул целый период греческой культуры заглавием "Der agonale Mensch".[1]
С течением времени состязания распространились и на устройство драматических представлений в Афинах и в других городах, как это доказывают уже самые обозначения положения, какое занимали актеры: термины "протагонист", "девтерагонист", "тритагонист" указывают, что это положение определялось степенью участия в этих состязаниях.
Подробности о драматических состязаниях известны и из сравнительно скудных и неполных свидетельств писателей и особенно из надписей, представляющих собой так называемые дидаскалии, т. е. официальные записи итога драматических состязаний. Сохранилось три вида таких памятников. Первый представляет собою расположенный в хронологическом порядке свод сведений за целый ряд годов о драматических состязаниях с обозначением при каждом годе архонта-эпонима, с перечислением всех поэтов, принимавших участие в состязаниях в порядке достоинства их пьес, установленном судьями, и с перечнем всех пьес и именем первого актера, выступавшего в каждой пьесе, причем в конце указывается имя победителя-актера.
Второй свод представляет собой хронологически расположенный список победителей также и на музыкальных состязаниях праздника Дионисий; третий разряд составляют списки побед, одержанных на состязаниях драматургами, трагиками и комиками с цифрой побед при имени каждого из них.
Первый вид этих надписей по своему содержанию совпадает с сочинением Аристотеля (Διδασκαλίαι), также пользовавшегося надписями; сочинение представляло собой театральную летопись Афин. Вернее всего, что извлечения из этого не дошедшего до нас сочинения Аристотеля вошли в состав тех древних предисловий грамматиков (υποθέσεις), какие в рукописях трагиков и Аристофана предшествуют отдельным пьесам.
Кроме Афин, такие состязания устраивались во многих других местах Греции; так, например, наряду с состязаниями хоров выступали комические актеры на этолийском празднике Сотерий, как это видно опять-таки из надписи.[2]
[1] Дословно: „агонический человек“.
[2] См. о ней Ф. Ф. Соколов, Журн. Мин. народн. просв., 1899, №,6. Обзор этих надписей с образцовым исследованием всех связанных с этими памятниками вопросов дал П. В. Никитин („К истории афинских драматических состязаний“. СПб. 1882).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Покрытие издержек по представлению составляло почетную повинность (так называемую литургию) хорега, "хорегию", название которой получилось от того, что наибольшая часть этих трат шла на содержание хора, изготовление для него костюмов, наем учителя и т. п. Хорегов выбирал архонт из богатых граждан.[1] Впоследствии для облегчения эту повинность могли пополам нести два гражданина.[2] Расходы по хорегии были очень значительны, и в комедии Антифана (фр. 203, 5 Кок) кто-то говорит, что хорег, изготовляя хору золотые одежды, сам мог остаться в рубище. Последний раз имена хорегов упомянуты в надписи 320/319 г., а надпись (BCH II, 391), называющая вместо хорега агонофета, составлена в архонтство Анаксикрата. Так звали архонта 307/306 или 279/278 г. От хорегов агонофеты отличались тем, что должны были давать отчет в своих расходах (CIA II, 307, 314); это в свою очередь указывает на получение ими на свои расходы средств из государственной казны, что сводило их обязанности к простому распорядительству.
Драматические представления входили в состав состязаний и позднейшего времени. Так, В. В. Латышев изданный им (BCH V, 261) отчет о состязаниях на празднике Серапей в Танагре отнес к промежутку между 100 и 70 г. до н. э. Сохранились надписи о таких состязаниях в Феспиях, Оропе и т. д.
Восьмого числа элафеболиона (март) происходил перед Дионисиями так называемый проагон.[3] Некоторые исследователи считали его за "генеральную репетицию", но это скорее была предварительная встреча со зрителями всех участников представления: поэтов, хорегов, актеров и хоревтов. Надпись 290 г. до н. э. (CIA II 307) доказывает, что такие проагоны устраивал агонофет и перед Ленэями.
Достоинства участников драматических состязаний определяли особые судьи, избираемые от каждой филы по жребию. Судей было десять, по одному от филы.[4] Для того, чтобы заручиться их расположением, драматурги прославляли в пьесах их мудрость и давали им шутливые обещания, а в случае провала утешали себя тем, что им достались судьи-невежды.[5] Этим объясняет Элиан (Пестр, ист. II, 8) победу Ксенокла над Эврипидом на том состязании, где последний выступал со своими "Троянками". Бывали случаи и подкупа судей.[6] Так объясняли победу комика Филемона над Менандром.[7] В случае неправильного приговора судьи подлежали наказанию.[8] Платон предъявляет очень высокие требование к судьям, настаивая, чтобы они "сидели не как ученики, а как учителя народа".[9] Свои приговоры судьи записывали, помещая вверху списка того, кому присуждали первую награду.[10] Для получения победы нужно было, чтобы все десять судей присудили ее единогласно.[11] Бывали случаи, когда судьи кривили душой из страха перед влиятельным участником состязания. Изображения таких судей можно было видеть на погибшей теперь картине из Помпей.[12]
[1] Аристотель, Афинская полития, гл. 56,2.
[2] Схолии к „Лягушкам“ Аристофана, ст. 404.
[3] Эсхин, Против Ктесифонта, § 67 со схолиями.
[4] Исократ XVII, 33; Плутарх, Кимон, 8.
[5] Аристофан, Экклесиазусы, ст. 1155; Птицы, ст. 1102; Облака, ст. 1115.
[6] Демосфен XXI, 5, 8.
[7] Авл Геллий XVII, 4, 1.
[8] Эсхин, Против Ктесифонта I, 32.
[9] „Законы“ II, 5, р. 659.
[10] См. Элиан, Пестр, ист. II, 13, где приведены подробности о состязании, на котором шли „Облака“ Аристофана.
[11] Аристофан, Птицы, ст. 445.
[12] Снята в атласе Т. Шрейбера (табл. 6, л. 7). Подробные указания литературы о судьях см. R. E., т. 22, стлб. 1894—1896.
3. УСТРОЙСТВО ГРЕЧЕСКОГО ТЕАТРА
В течение долгого времени основным материалом по вопросу об устройстве греческого театра являлось сочинение "Об архитектуре" римского архитектора Витрувия, жившего при Цезаре и Августе. Он посвятил несколько глав театру в книге V. Витрувий указывает, что приступать к сооружению театра надо, как только закончится устройство городской площади; для театра необходимо выбирать здоровое место. Отсюда ясно, какое видное место занимал театр в жизни древнего города. Удобнее всего устраивать театр у подножия горы. Далее, Витрувий по примеру своих предшественников уделяет очень большое внимание акустике (V, 3, 5-8), заботясь о том, чтобы от неправильного устройства театра не пропадал звук.
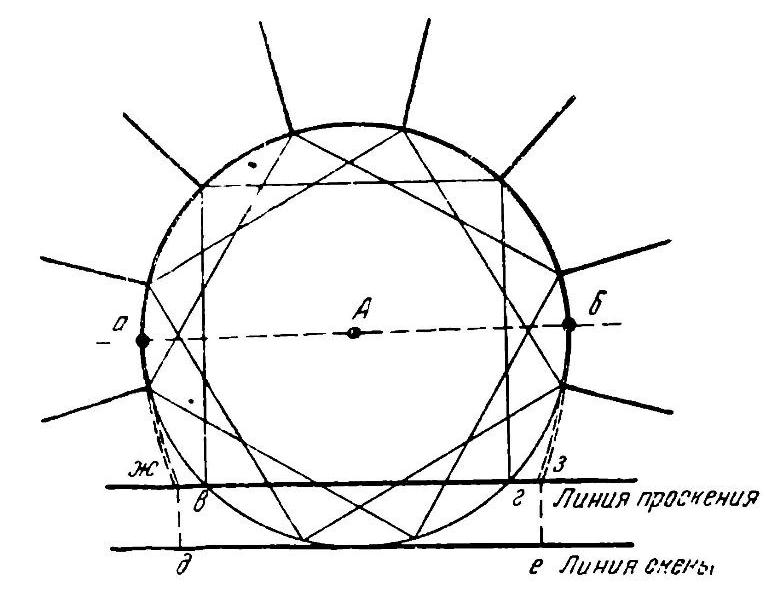
План греческого театра по Витрувию
План греческого театра он предлагает составлять так: начертить круг, соответствующий предполагаемой величине орхестры, в него вписать три квадрата. Сторона одного из этих квадратов (вг) составит переднюю часть проскения (finitio proscaenii); проведенная параллельно ей касательная к окружности (де) даст заднюю его сторону (frons scaenae); далее проводится диаметр аб, параллельный линиям вг и де, а из точек а и б описываются две дуги диаметром основного круга; точки пересечения дуг (ж и з) с продолжением линии вг обозначат пределы скены (или "сцены"), дав ее длину. Углы квадратов в основном круге, обращенные к местам для зрителей, обозначат направление и количество лестниц в первом ярусе; если в театре предполагается два или больше ярусов, то в каждом следующем ярусе лестницы предыдущего надо продолжать а между каждыми двумя лестницами предыдущего яруса надо делать еще по одной лестнице. Дав общий план театра, Витрувий замечает, что у греков орхестра более обширна и сцена более удалена; возвышение, называемое λογεῖον, не так широко, потому что у них трагические и комические актеры выступают на сцене, а остальные исполнители - на орхестре. Отсюда у греков отдельно называются артисты сценические и фимелические, Высота этого возвышения должна быть не более 12 и не менее 10 футов. Затем Витрувий переходит к тому, как надо располагать места для зрителей.
За сценой Витрувий советует устраивать особые портики, где бы публика могла укрыться в случае дождя.
Но Витрувий дает только "идеальный проект" греческого (вернее - эллинистического) театра, которому не соответствует в точности ни одно из сохранившихся театральных зданий. Он сознательно упрощает построение греческого театра (так же, как и римского), чтобы дать читателю-неспециалисту (для которого и написан его трактат) наиболее удобную и понятную архитектурную схему, подобно другим схемам, какие он дает для прочих описываемых им зданий. Этим, а отнюдь не незнакомством Витрувия с устройством греческого театра, объясняется несоответствие его описания большинству дошедших до нас остатков греческих театральных зданий.
Совершенно новую постановку получил вопрос об устройстве греческого театра после 1886 г., когда многочисленные остатки театральных зданий древности стали предметом исследования архитекторов и археологов. Кроме Афин и Эпидавра, теперь исследованы остатки театров в ряде городов: в Оропе, Эретрии, Мегалополе, Сикионе, Магнесии, Пергаме, Приене, Эфесе, Пирее, Рамнунте, Икарии, на острове Сицилии, в Сегесте, Тиндариде, Сиракузах, Таормине (Тавромении), на острове Фере, в Мантинее, Орхомене, Тегее и др.
Эрнст Курциус думал, что постоянной сцены в Афинах еще не было даже в пору расцвета драмы; всякий раз для спектакля подле орхестры сооружали временную деревянную сцену: ее имеет в виду Платон (Пир, 194 a b), упоминающий о ὀκρίβας-λογεῖον, куда всходили актеры.
Последовательному росту драмы должно было соответствовать и развитие театрального сооружения. Первой ступенью драмы явились песни и пляски. Они выполнялись на орхестре, входившей в состав священного участка бога Диониса. В афинском театре Диониса сохранились еще следы древнейшей орхестры, относящейся к VI веку до н. э. Вокруг нее на холме становились зрители, а где подъем холма был незначителен, там воздвигали деревянные помосты, чтобы с их высоты глядеть на орхестру. Из них с течении времени развился "театр" (θέατρον), т. е. места для зрителей. Впоследствии этим словом стали обозначать все театральное здание.
Входившая в состав трагедии мимическая игра нуждалась в устройстве площадки, служившей местом действия актеров. Вместе с тем появившиеся в дополнение к первоначальному хору актеры нуждались в помещении для переодевания; служившая для этого палатка ("скена") помещалась так, чтобы зрителям не виден был выход актеров из палатки через боковые ходы ("пароды") в орхестру. Посредине орхестры находился алтарь Диониса, так как представление рассматривалось как часть богослужения. У самого алтаря перед началом представления приносили жертву, а на ступенях его становился флейтист, сопровождавший пляски своей музыкой. Этот алтарь состоял из двух частей: из собственно алтаря-стола для жертвоприношения и из низкого возвышения для жреца, где закалывали жертвенных животных. Эта часть алтаря называлась фимела (θυμέλη, от θύειν - приносить жертвы) или "пристукок" (βῆμα, ср. βαίνω - ступаю).[1] На таком алтаре Полидевк (Поллукс) помещает хор Феспида (IV, 123). Гораций таким приспособлением ограничивает сцену Эсхила (Ars poët. 278-280). Готфрид Германн и Визелер сводили к нему всю театральную обстановку. С течением времени алтарь потерял свое богослужебное значение, но все-таки продолжал стоять посреди орхестры, что наблюдается даже в римское время. Рисунок на панафинейской вазе[2] доказывает, что актер стоял на таком приступке, который одновременно служил для определения места действия драмы. Так, в "Просительницах" Эсхила посвященный богам алтарь, в "Персах" гробница Дария определяли значение места, придавая орхестре индивидуальный характер. Пока хор преобладал в драме, место действия определялось составом хора. С течением времени значение актеров превосходит значение хора; актеры перестают рассматриваться как "чужаки", орхестра перестает быть главным местом действия, и перед зрителями воспроизводится жилище исполнителя главной роли. Это жилище изображается проскением - передней стеной скены, которая служит и местом пребывания актеров, не занятых в отдельных явлениях, и складом их костюмов и аксессуаров.
Слово "проскений" впервые упоминается в Делосских надписях 290 г. до н. э.,[3] а в надписи 282 г., представляющей собой счета по оплате работ для театра, упомянуты Антидот и Феодот, расписавшие доски (πίνακες) для проскения, что допускает возможность обозначения этой передней стеной скены места действия, для перемены которого устраивали между постоянными столбами проскения подвижные доски, расписанные в соответствии с тем, что представляло собой место действия. О таких расписных досках или тканых занавесях, очевидно служивших для той ее цели, сообщает и Полидевк (IV, 131). Что палатка-скена могла служить местом игры, видно из одного места комедии Гениоха (фр. 5, ст. 6-8 k), где зрителям кто-то говорит: "это место вокруг [т. е. орхестру] считайте за Олимпию, а театральную скену за палатку". Делосская надпись 264 г.[4] упоминает параскении из камня, различая параскении вверху и внизу. Их назначение очень неясно. Обычно их отождествляют с помещениями, устроенными по бокам проскения. Остатки таких помещений найдены в театрах Афин и Эретрии, и относятся они к IV веку до н. в. Поздний грамматик Фотий приравнивает их к входам на скену.
Исчезновение хора из состава драмы, наблюдаемое уже в IV веке до н. э. - в "Богатстве" Аристофана и затем в "новой" комедии, резко изменило объем и характер театральной площадки. Совершенно правильно отмечает В. Шмид[5] нелепость нахождения небольшого числа актеров на громадной орхестре в IV веке, когда пьесы обходились уже без хора, и потому действие пьесы с орхестры, где оно развивалось перед проскением, могло быть перенесено на скену, верхняя поверхность которой теперь стала местом игры. Сюда перешло и название проскений, как передней части скены, а находившиеся по бокам параскении образовали боковые ограничения для той коробки, какой явилась сцена в театре новой Европы.
Делосские надписи[6] доказывают наличие деревянного проскения, следы которого нашлись в Сикионе, Пергаме и Мегалополе. Это была переходная ступень к каменному проскению, возникновение которого относят к началу III или к IV веку до н. э. Остатки таких проскениев нашлись в Афинах, Пирее, Сикионе, Эпидавре и др.
Еще в 1925 г. Дерпфельд упорно держался своего первоначального взгляда, будто в афинском театре всегда играли на орхестре перед проскением, представлявшим собой только декорационный фон. Между тем, сравнение Ксенофонта в его "Киропедии" (VI, 1, 54) строения трагической скены со строением передвижной военной башни пополняет ряд свидетельств о возвышенной скене уже для первой трети IV века до н. э.
Нахождение актеров на сцене, в отличие от хора, доказывают последние слова главы 12 "Поэтики" Аристотеля: χοροῦ καὶ ἀπό σκηνῆς, что позволяет Е. Петерсену и другим оспаривать мнение Дерпфельда, упорно настаивающего на том, будто бы актеры вместе с хором играли перед проскением.
В IV веке места для зрителей строились из камня; остатки таких постоянных театров найдены в разных частях греко-римского мира. В Афинах это здание было закончено при Ликурге (396-325 гг. до н. э ), но в других городах такие сооружения могли возникать и раньше. Устройство каменной скены было различно: в Афинах и Эпидавре она представляет собой большую залу, в Магнесии она состоит из ряда смежных комнат. В Эретрии она обрамлена выступающими вперед параскениями, тогда как в Ассосе их нет. Постоянные проскении, вместо прежних, состоявших из колонн с подвижными досками, встречаются среди развалин многих греческих театров, например в Афинах, где каменная скена и параскении украшены колоннами; но эти украшения могли быть прибавлены для тех случаев, когда театр служил местом народных собраний. Передняя стена скены имела три двери, так что перед ней и между сильно выступающими параскениями с удобством можно было сооружать разделенный на три части проскений. Число дверей во временном проскении было разное. Если проскений должен был изображать храм, городскую или крепостную стену, то ограничивались одной дверью; в других случаях число дверей увеличивалось до трех и более.
Высота скены равнялась в среднем 4 меграм. Ее кровля в Афинах в IV веке была из дерева. Устройство кровли неизвестно, но есть основание думать, что на этом "эпискении", как его называет Витрувий (VII, 5, 5), устанавливали машину, посредством которой там появлялись парившие в воздухе боги и т. п.
Основным свидетельством о месте игры считалось то место Полидевка (IV, 123), где он, перечислив составные части театра, говорит: "скена принадлежит актерам, а орхестра хору. На орхестре находится и фимела". Дальше (127) он сообщает: "входящие в орхестру подымаются по лестницам на скену". Полидевк преподавал софистику в Афинах и посвятил императору Коммоду (161-192 г. н. э.) свой "Ономастикон". Вернее всего, что он имеет в виду афинский театр своего времени, резко отличавшийся от театра времени расцвета греческой драмы. Такому отдалению хора от актеров противоречит целый ряд мест в драме. Так. в "Просительницах" Эсхила глашатай подымал руки на Данаид, составлявших хор трагедии, как это видно из их воплей (ст. 835 сл. и 905).
Новейшие толкователи древних пьес по-разному решают вопрос о том, для какой театральной площадки они предназначались. В 1886 г. Виламовиц признал, что на круглой площадке представления происходили приблизительно до 468-458 гг. На ней, по его мнению, можно было смело представить четыре древнейшие пьесы Эсхила, для которых вовсе не нужно дворца, изображаемого задней декорацией. Таковы "Персы", где драматург со свободой эпического поэта переносит действие даже в народное собрание, "Семеро против Фив", "Просительницы" и "Прометей". Для них достаточно одной лишь эстрады. Ту же самую точку зрения он повторил и в 1914 г. Иначе решает этот вопрос Э. Бете: [7] признавая прежде всего в "Прометее" послеэсхиловскую переработку пьесы (вследствие чего этой пьесой нельзя пользоваться для определения театра времен Эсхила), он установил, что для остальных его трагедий нужна только задняя стена, - для "Просительниц" и "Семерых" (ст. 78), украшенная изображениями богов, - настолько широкая, чтобы перед ней могли поместиться 12 хоревтов. В "Просительницах" (ст. 465) угроза одного из действующих лиц повеситься на этих изображениях богов указывает, что стена эта была не ниже 2,5 метра. Никаких следов, что хор двигался вокруг нее, в тексте нет. Стало быть, незачем предполагать, что она была посреди орхестры. В отдельных случаях можно было помещать актера на известной высоте. Так, в начале "Агамемнона" старец произносит свой вступительный монолог, лежа на кровле дворца Атридов (ст. 3). По мнению Бете, действие "Агамемнона" должно было происходить на орхестре: только на ее широком пространстве мог поместиться торжественный въезд Агамемнона с пышной свитой. Следовательно, на орхестре принимала его Клитеместра (ст. 810-957), которая находилась на одной плоскости с хором аргивских граждан, присутствовавших при этой встрече (ст. 855). Такое место действия Бете принимает для всей трилогии "Орестейя" Эсхила.
Ф. Ноак полагает, что площадка "Персов" по существу не отличалась от той, на которой исполнялись "Просительницы", а для хора "Прометея" необходимы были машины, позволявшие ему показываться в высоте. Он полагает, что для постановки древнейших драм посреди орхестры нужно было сооружение, размеры которого определяются остатками алтарей в Пергаме (8×3 м), Оропе (8,6×4,3 м), Эпидавре (16×3,5 м).
[1] См. схолии к Аристофановым „Всадникам“, ст. 149, где фимела отождествлена с λογεῖον.
[2] Дерпфельд–Рейш, стр. 346, № 86.
[3] Изданы Омоллем BCH, 1894, стр. 161 слл.
[4] Издана Омоллем, там же.
[5] Philologus, т. 55, 1896, стр. 54.
[6] BCH XIV, 1890, стр. 401 сл.; XVIII, 1894, стр. 161.
[7] Hermes, т. 59. 1924, стр. 103 сл.
4. ДЕКОРАЦИИ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Витрувий (V, 6, 9) различает три вида сцены: "во-первых, так называемые трагические, во-вторых, - комические, в-третьих, - сатирические [т. е. для "драмы сатиров"]. Декорации их не сходны и разнородны: трагические изображают колонны, фронтоны, статуи и прочие царственные предметы; комические же представляют частные здания, балконы и изображения ряда окон, в подражание тому, как бывает в обыкновенных домах; а сатирические украшаются деревьями, пещерами, горами и прочими особенностями сельского пейзажа". Но в этом распределении есть много неточностей, и описания Витрувия в лучшем случае отмечают только ту обстановку, которая по преимуществу чаще всего применялась в отдельных видах драмы.
Французские классики XVII века верили в необходимость соблюдения единства места, ссылаясь на пример древних и учение Аристотеля. Их глазами глядели и толкователи древней драмы, но в ней нашлись явные следы отступления от этих "законов", начиная с "Персов" Эсхила. Необходима перемена места действия и во многих комедиях Аристофана: "Ахарнянах", "Осах".[1] Из приспособлений, нужных для этих перемен, древние рельефы и стенные росписи Помпей чаще всего обнаруживают занавеси. Об их применении в театре, помимо Полидевка (IV, 131), говорит еще ряд поздних писателей древности.
Никак нельзя упускать из виду и того, что тогда давала живопись и скульптура: театр везде в своих приемах обстановки пользуется картинами живописцев и произведениями скульпторов данного времени. О живописи V века до н. э. мы можем судить лишь по вазовым рисункам, которые по композиционным приемам никак нельзя отождествлять с картинами Полигнота, потому что вазовые мастера, стесненные пространством своих рисунков, могли их очень упрощать. Зато бесспорный материал дают фризы афинского Парфенона и храма Зевса в Олимпии, ничем не отмечающие местность, среди которой происходит действие. Фризы представляют собой в этом отношении очень резкое отличие от композиции сцен на ликийском памятнике из Гьёльбаши-Триста, где достаточно тщательно изображены крепостные стены при осаде Трои, деревом указано, где едет Елена, и т. д. Эти рельефы по обстановке гораздо ближе к приемам мастера картины "Альдобоандинская свадьба", чем к рельефам Фидия и его школы.
Таким образом, можно считать несомненным, что между началом V и началом следующего века в обстановке греческих пьес должна была произойти существенная перемена, как это, кроме живописи и рельефов того времени, доказывают и драмы. В отличие от прежних драм, "Просительницы" Эврипида нуждаются в изображении Элевсинского храма и возвышающейся над ним скалы (ст. 987), с которой бросается в костер Эвадна. Для "Троянок" нужны над палаткой Агамемнона развалины Илиона, гибнущие в пламени (ст. 1290 сл.), для "Филоктета" Софокла (409 г.), для "Киклопа" Эврипида, для "Птиц" Аристофана (414 г.) скала с пещерой, для "Эдипа в Колоне" (401 г.) священная роща. В "Ионе" (416 г.) боги парят в воздухе. В "Электре" Эврипида (ст. 1233) Диоскуры являются над верхом дома. В "Оресте" (409 г.) актеры выступают на крыше (ст. 1567 сл.), в то время как Менелай пытается взломать двери дворца, а далее в воздухе появляется Аполлон с Еленой (ст. 1625).
Из памятников живописи, воспроизводящих театральные декорации, особенно ценны: Мадридская ваза работы мастера Астея,[2] Берлинская ваза, изображающая сцены "Андромеды",[3] и Луврский кратер с изображением сцены из "Ифигении в Тавриде" Эврипида (ст. 1017 сл.), но роспись кратера принадлежит посредственному мастеру, едва справившемуся с передачей того, что видел. По краям скены - два одноэтажных здания, соединенных навесом; Ифигения и оба юноши стоят перед запертыми дверями обоих, зданий, построенных из дерева. Такое же устройство сцены известно и по мраморному рельефу из Неаполя III века до н, э.[4] Возможно, что находившиеся по бокам скены объемные постройки, которые входили в состав декораций, представляют собой те загадочные "параскении", о которых говорят грамматики.
Помимо памятников искусств, подлинные остатки такой скены обнаруживает театр Приены. Подобное устройство скены нужно для "новой" аттической комедии, где обычно перед зрителем всего два дома, иногда разделенных стеной. На Луврском кратере, изображено, однако, представление трагедии. Возможно, что в III-II веках до н. э. эта сценическая площадка так упрочилась, что на ней кое-где, особенно на окраинах, исполняли и трагедию. В Аттике уже давно играли в объемных декорациях, и они продолжали быть в ходу и в Малой Азии, - как это видно по театру в Приене, - даже тогда, когда в эллинистическую эпоху на проскении устраивали каменную колоннаду, между звеньями которой по мере надобности вставлялись живописные картины (πίνακες), тогда как другие промежутки оставались открытыми, образуя "окна" (θυρώματα).
Но и эти объемные декорации воспроизводили не весь дом целиком, а в лучшем случае ограничивались сооружением наружной пристройки - πρόθυρον, у римских комиков - vestibulum. Вся "новая" комедия, известная нам по римским обработкам и иллюстрированным рукописям Теренция,[5] а также "Третейский суд" Менандра могли быть представлены при такой упрощенной обстановке.[6]
Многие трагедии и комедии греческих драматургов требовали усложненной площадки, которую можно было создать лишь при помощи целого ряда машин. Таковы сцены, где боги появлялись в воздухе, например в "Оресте" Эврипида (ст. 1625), где Аполлон появляется вместе с Еленой, в "Андромахе", где также является Фетида (ст. 1231), в "Прометее" Эсхила, когда появляется целый хор Океанид. Платон (Кратил 425) указывает, что трагические актеры для подъема богов пользуются машинами. То же самое имеет в виду и Аристотель, когда осуждает "Медею" за то, что ее развязка "разрешается машиной". Аристотель говорит, что пользоваться машиной можно лишь "для изображения событий, происходящих вне драмы, или того, что произошло раньше и чего человеку нельзя знать, или того, что произойдет позже и требует предсказания или божественного возвещения" (Поэтика, гл. 15).
К числу таких машин принадлежала деревянная эккиклема на колесах.[7] Древние примечания к "Хоэфорам" (ст. 973) и "Эвменидам" Эсхила (ст. 64) указывают, что в них нужно было пользоваться этой машиной. Аристофан в своих комедиях, высмеивая героев трагедии, часто заставляет их выезжать на эккиклеме,[8] - например, поэта Агафона в "Фесмофориазусах".
Развалины театра в Эретрии обнаружили спереди проскения мраморные рельсы, по которым могла выкатываться такая машина. Полидевк (IV, 129) с эккиклемой отождествлял эксостру; это принимали многие новейшие ученые, тогда как Готфрид Германн считал ее за приспособление вроде нашего балкона, наличие которого на древней сцене позволяют допускать многие рисунки на вазах.[9] Так называемые периакты, по свидетельству Витрувия[10] - треугольные призмы, находились у обеих дверей. Поворачивая их, можно было легко и быстро воспроизводить перемену места действия: каждая из трех сторон такой подвижной призмы содержала декоративный намек на обстановку, где должно было развиваться действие. Для представления флиаков и других пьес низшего пошиба, например мимов, употреблялись переносные декорации вроде ширм, о которых говорит Платон.[11]
В начальной сцене "Геракла" Эврипида Амфитрион говорит (ст. 48), что сидит у алтаря. Из этого текста, равно как и из многих других, делают вывод, что проскений должен был иметь занавес, за которым можно было бы делать приготовления, нужные для создания картины, какую хотели показать при начале пьесы; иначе было бы нелепо, если бы актер садился к алтарю на глазах у зрителей. Такой занавес необходим для "Вакханок", где уже с самого начала Дионис стоит рядом с хором, равно как для "Ореста", "Троянок" и т. д.
Полидевк (IV, 132) говорит о "хароновых лестницах", по которым поднимались Эринии и привидения. Полагают, что этим подземным ходом пользовался и актер, игравший тень Дария в "Персах" Эсхила (ст. 659). Театр в Эретрии обнаружил наличие такого хода с проскения до центра орхестры, где, очевидно, и стояла гробница, из-за которой выступал указанный выше актер, изображавший тень Дария. В театре в, Филиппах (BCH LII, 1918, 74-124) это приспособление относят к середине IV века до н. э.
В позднейшие времена театр служил у греков самым разнообразным целям. Кроме драматических представлений и музыкальных концертов, здесь происходили народные собрания, риторы выступали со своими речами; например, в театре Александрии выступал Дион из Прусы.[12] Правильно поэтому думают, что громадные размеры орхестры в Мегалополе (30 метров в диаметре) зависят как раз от назначения такого театра также и для народных собраний.
В эллинистическом театре очень часто происходили выступления и хоров и отдельных певцов.[13] Для них, как и в древнем театре, орхестра с расположенной на ней фимелой подходила вполне. Поэтому очень правдоподобно предположение Э. Бете,[14] что именно этих фимеликов, а не драматических актеров имеют в виду и Витрувий и Полидевк, когда говорят (см. выше, стр. 296 и сл.) об артистах, выступавших в орхестре, а не на скене.
[1] Комедию „Женщины на празднике Фесмофорий“ разобрал в этом отношении В. К. Ернштедт (Сборник статей в честь Ф. Ф. Соколова, СПб., 1895, стр. 153—165). Обзор иностранной литературы и памятников искусства дан в Журн. Мин. Народн. просв., 1915, № 9, стр. 375-390.
[2] Издана Mon. d. Instit., t VIII, табл.10, и Фуртвенглер–Рейхольд, Griech. Vasen maierei, стр. 62,
[3] Издана Э. Бете (Arch Jahrb., т. 11, 1896, стр. 292—300); ср. E. Müller (Philolosus, т. 66, 1907, стр. 48—66).
[4] Издан в Arch. Jahrb., т. 42, 1927, стр. 30—31.
[5] В, Люндстрем (Eranos, т. I, 1896, стр. 105—106); Э. Бете (Arch, Jahrb., т. 18, 1903, стр. 43—103)
[6] К. Ставенхаген (Hermes, 1910, стр. 572.)
[7] Схолии к „Ахарнянам“ Аристофана, 40.
[8] Ст. 9, 5, 96; ср. „Ахарняне“, ст. 409 и т. п.
[9] Например, в атласе Т. Шрейбера, табл. 5, № 6, ваза Британского музея.
[10] V, 6, 8; ср. Полидевк IV, 126.
[11] „Государство“ VII, 514b, Παραφράγματα. Изображение их сохранилось на вазе из Сицилии, вошедшей в собрание нашего Эрмитажа (инв. № 8883, издана в атласе Т. Шрейбера, табл. 4, № 1).
[12] Речи 1, 32, 51, 5, 7, 11, 20—24; 27/77 по изд. Арнима.
[13] Сведения о них содержат надписи, исследованные в диссертации E. Reisch, De musicis Graecorum certaminibus (Вена, 1885).
[14] „Thymeliker und Skeniker“ (Hermes, т. 36, 1901, стр. 597—611).
5. АКТЕРЫ И ИХ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Первоначально драматурги являлись сами исполнителями своих пьес, как отмечает Аристотель (Ритор. III, 1, р. 1403 в, 22). Это известно насчет Феспида, Фриниха, Эсхила. Лишь с введением второго актера Эсхилом наступило отделение актера от драматурга. В "Поэтике" (гл. 4) Аристотель приписывает Эсхилу введение второго актера, Софоклу - третьего. Последнее новшество усвоил и Эсхил, в "Орестее" которого уже выступали три актера. Схолиаст к "Хоэфорам" (ст. 899) отмечает, что пьеса перерабатывалась для того, чтобы обойтись без четвертого актера. Были, однако, исключения. Так, считали, что в "Эдипе в Колоне" Софокла, "Елене" и "Андромахе" Эврипида выступали четыре актера. Кроме того, выступали исполнители второстепенных ролей "без речей". Для многих пьес Аристофана, например для "Всадников", также можно обойтись тремя актерами.
Лессинг замечает в "Гамбургской драматургии" (гл. IV, 12 мая 1767 г.): "Мы очень мало знаем о хирономии древних, т. е. о совокупности тех правил, которые они предписывали для движения рук. Однако мы знаем, что они довели язык жестов до того совершенства, о котором мы и понятия составить не можем". Немногие случайно дошедшие до нас свидетельства древних показывают справедливость этого. Их изучение позволяет утверждать, что в игре греки стремились к тому самому художественному реализму, какого достигли к середине V века до н. э. все отрасли их искусства. При этом им приходилось преодолевать значительно большие трудности, чем актерам нового времени, как вследствие отсутствия актрис в трагедии и комедии, так и вследствие того, что они играли в масках, ограничивавших всю мимику одними движениями рук и общей посадкой тела. Кроме того, их игра была усложнена самым составом греческой драмы, почти в каждую пьесу которой входили, наряду с речевыми кусками, части речитатива (παρακαταλογή) и пения. Во всех трех видах драмы видное место было отведено пляскам. Основным источником о древних плясках, в частности драматических, является сочинение Лукиана "О пляске".
Уже самое название орхестры, в корне которого лежит глагол "плясать" (ὀρχεῖσθαι), достаточно определяет место пляски в театре греков.
В древней драме движения зачастую заменяли слова. Это указывает схолиаст к ст. 642-644 "Ореста" Эврипида, где Орест говорит, что ему не нужно от Менелая денег; так как Менелай здесь молчит, то Орест отвечает не на слова его, а на жесты.
Греческая драма ставила особо высокие требования для голоса актеров. Недаром у большинства из них указывается наличие хорошего голоса.
У Алкифрона (III, 71) есть выдуманное им письмо одного обладателя прекрасного голоса, которого узнал на пирушке поэт комедии Лексифан и привлек к исполнению своих пьес; стало быть, и драматурги влияли, прямо или косвенно, на подбор состава исполнителей.
Витрувий (V, 6, 4) указывает, что для усиления голоса полезно устраивать крытый портик в верхнем ряду мест для зрителей. Очевидно, путем отражения сила звука увеличивалась. Этой цели служила, например, постройка, найденная в Эфесском театре, которую надпись называет ἀντίσκηνος. Для усиления звучания голоса пользовались в древних театрах еще так называемыми "голосниками" - сосудами, поставленными в особые ниши.[1] Из слов Аристотеля (Ником, этика, VII, 5), что "речи невоздержанных людей надо представлять себе наподобие речей актера", можно заключить, что актеры обычно говорили более возбужденно и повышенно.
Аристотель (Ритор. III, p. 1403 b) указывает, что искусство речи заключается в уменьи передавать оттенками голоса все разнообразие переживаний, а также владеть силой голоса, гармонией и ритмом. За это актеры получают на состязаниях награды и имеют в театре больше значения, чем драматурги.
Платон (Гос. III, 7, р. 395b) прямо указывает, что резные актеры выступали в трагедии и комедии. А Цицерон (Оратор, 31, 109) сообщает, что он видел, как одни и те же актеры не только в совершенстве исполняли самые разные роли, но и как комический актер имел большой успех в трагедии, а трагический - в комедии. От хорошего актера требовалось, чтобы он умел одинаково исполнять такие противоположные роли, как Ферсита и Агамемнона (Диог. Лаэрт. VII, 2).
В игре актеров (ὑπόκρισις) выше всего ценилось соответствие положению изображаемого лица - decor. Этому должны были одинаково быть подчинены и речь и движения.[2]
Ясно, что актеру нужна была подходящая внешность: красивой фигурой отличался актер Эсхин; его противник Демосфен, посмеиваясь над ним, называет его "красивой статуей" (XVIII, 29). Большой силы требовала роль Аякса в одноименной трагедии Софокла (см. схолии к ст. 364). Надпись из Тегеи доказала, что актер Аполлоген, исполнявший роли Ахиллеса, Геракла, Антея, раньше был кулачным бойцом и, вероятно, это определило выбор его ролей.[3]
Со времени появления книги Д. Дидро "Парадокс об актере" по-разному разрешается вопрос о том, насколько актер должен сам переживать изображаемое им чувство.[4] Славились те актеры, которые своей игрой захватывали зрителей, заставляя их плакать, как это отмечали насчет Каллипида.[5] Такова точка зрения и Горация (Ars poët. 102-105):
... если слезы моей хочешь добиться,
Должен ты сам горевать неподдельно, Пелей или Телеф!
Только тогда поразят ваши горести. Если же чувства
Нету в речах, я смеюсь или сплю.
Афинский трагик Феодор кичился перед комическим актером Сатиром, говоря, что заставлять зрителей смеяться - не то, что вызывать их слезы и вопли.[6] О Феодоре известно, что своим исполнением роли Меропы он заставил тиранна Александра Ферейского заплакать и покинуть театр.[7] Насколько Феодор заботился о своем собственном успехе, видно из слов Аристотеля (Политика VII, 15, 1337a), что он никогда не дозволял ни одному актеру, даже из числа второстепенных, выступать на сцене раньше себя, так как, по его мнению, зрители настраиваются соответственно тому, что прежде всего коснется их слуха. У отдельных актеров были и в Греция свои излюбленные амплуа. Так, едва ли случайно все древние особенно похвально отзываются об исполнении актером Феодором ролей женщин-страдалиц: Меропы, Гекабы, Поликсены и Андромахи.[8] Никострат особенно славился в ролях вестников.[9] У драматургов были свои постоянные актеры. Так, древнее жизнеописание Эсхила указывает его актеров Клеандра и Минниска из Халкиды. Аристофан ставил свои комедии при участии актеров Каллистрата и Филонида.
Гораций (Ars poët., 192) выставляет требование, чтобы на сцене выступало одновременно не больше трех актеров. Исследование и трагедии и драмы сатиров показало, что это (как было указано выше) правило соблюдено почти во всех дошедших до нас драмах.[10]
Очень спорно распределение ролей между тремя актерами в отдельных пьесах. Для "Эдипа в Колоне" Джебб дает наиболее вероятное распределение актеров: первый актер - Эдип, второй - Антигона, третий - Исмена и Креонт, четвертый - все остальные роли.
В составе греческих актеров были уроженцы самых разных мест. Кроме афинян, известны Пол с острова Эгины, Неоптолем со Скира, Аполлоген из Аркадии, Сатир из Олинфа, Эвдемон из Фив, Фирс из Эфеса, и т. д.
Актеры принимали большое участие в политической жизни. Демосфен в речи "О венце" (21) сообщает, что актер Аристодем первым высказался в пользу мира. Вместе с Неоптолемом и Ктесифонтом он настойчиво защищал политику Филиппа (XIX, 315), очевидно использовавшего в своих целях влияние актеров и их уменье действовать на слушателей. Главой этой македонской партии Демосфен называет актера Эсхина (XIX, 126). Сын Филиппа Александр Македонский оказывал большое внимание актерам. На свою свадьбу в Сусах (324 г. до н. э.) он привлек трагиков Фессала, Афинодора, Аристократа, комиков Ликона, Формиона и Аристона.[11] Афинодор не явился во время в Афины на состязание на Дионисиях и за это подвергся взысканию, но Александр сам заплатил за него штраф.[12] Для ведения переговоров о браке Клеопатры он послал в Карию к сатрапу Пиксодару актера Фессала.[13]
Известны, однако, случаи и презрительного отношения владык к актерам. Этим отличался спартанский царь Агесилай.[14] Но современники видели в этом доказательство его плохого воспитания.
Амфиктионы предоставляли актерам большие льготы, что видно из надписей, относящихся ко второй половине III века до н. э. Актерам были предоставлены неприкосновенность и освобождение от налогов.[15]
Римляне, утвердившись в Греции, очень подозрительно относились ко всяким обществам и союзам, но для актеров сделали исключение. Когда артель актеров униженно обратилась к римскому сенату, величая его общим благодетелем, то находившемуся в Греции консулу Марку Ливию было предложено сохранить за актерами прежние права и преимущества, причем из артелей разных городов, враждовавших между собой, преимущество было оказано аттической.[16]
Развитие общественной жизни в Греции привело к образованию разного вида союзов, товариществ и т. п., возникавших как на почве культа, так и для более успешного ведения дел. Среди них видное место принадлежало "синодам" (артелям) "мастеров бога Диониса", т. е. актеров, от которых дошло много надписей, впервые собранных и объясненных О. Людерсом.[17] Прием в такую артель, как видно из надписи CIG № 126, происходил после предварительной проверки способностей и нравственных качеств. Такие артели ведали сообща хозяйственными делами, имели дома, где могли жить артисты, и защищали права артистов. Кроме актеров, в их состав входили и драматурги. Часто упоминаются в составе артелей учителя, на обязанности которых лежала подготовка молодой смены артистов. Кроме Афин, такие артели известны во многих местах, например в Дельфах, Феспиях, Эфесе, Смирне, Сиракузах и в Теосе. Артель в Теосе принадлежала к числу наиболее мощных, обладала большими средствами и влиянием. Иногда артель составляли артисты, объединенные каким-либо особым видом творчества. Так Аморгская надпись[18] содержит начало постановления местных кордакистов, т. е. исполнителей разнузданной пляски - кордакса, объединившихся в честь бога Аполлона Пифийского.
Наряду с исполнителями художественных трагедий и комедий у греков были низшие виды драмы: мимы, флиаки и т. п. Их исполнители - мимы тоже имели своих поклонников и ценителей; играли они без маски, как это известно относительно знаменитого мастера этого рода - Клеона.[19] В этих пьесах допускались и актрисы. Изображение их есть на многих вазовых рисунках. Возможно, что и в Греции они выступали иногда обнаженными, как это было в Риме.[20]
[1] См. Витрувий, V, 5.
[2] Цицерон, Оратор 22, 74; Квинтилиан XI, 3, 67; Валерий Максим VIII, 10.
[3] Р. Герцог (Philologus, т. 60, 1901, стр. 440—445).
[4] Ср. Демосфен, О венце, § 287.
[5] Ксенофонт, Пир III, 11.
[6] Плутарх, Mor., р. 545.
[7] Элиан, Пестр, ист. XIV, 40.
[8] Элиан XIV, 40; Плутарх, О счастьи Александра, гл. I, р. 334a; Жизнь Пелопида, гл. 29.
[9] Paroem. Gr. I, 124.
[10] См. Kelly Rees, The so called rule of three actors in ths classical Greek Drama (Чикаго, 1908) и гиссенскую диссертацию Каффенбергера (Дармштадт, 1911).
[11] Афиней XII, гл. 54, 538 f.
[12] Плутарх, Жизнь Александра, гл. 29.
[13] Там же, гл. 10.
[14] Плутарх, Жизнь Агесилая, гл. 21.
[15] См. G. Colin, BCH, т. XXIV, 1900, стр. 82—123; ср. CIA, II, 551.
[16] См. Дельфийскую надпись, BCH, т. XXXIII, 1899, стр. 4—55.
[17] O. Lüders, Die Dionysischen Künstler. Берлин, 1873.
[18] CIG, 2264 о, № 50 сборника Людерса.
[19] Афиней X, 78, р. 452.
[20] Валерий Максим II, 10, 8.
6. КОСТЮМ И МАСКИ АКТЕРОВ
По свидетельству Страбона (XI, 14, 12), в трагедии употреблялись одежды, заимствованные из Фессалии,[1] а Эсхил придал им будто бы такое изящество и величие, что эти костюмы заимствовали деятели культа - дадухи и гиерофанты.[2] Но более правдоподобна догадка М. Бибер, что, наоборот, театр удержал до позднейшего времени одежды жрецов, как это подтверждается и сличением сценических одежд с жреческими, известными по памятникам искусства. Демосфен в речи против Мидия (519) называет одежды хоревтов священными и требует за их кражу более суровой кары, чем за похищение обычных одежд. Это объясняется не только тем, что сценические одежды носили лица, изображавшие мифических существ, но и тем, что на все связанное с театром распространялось благоговейное воспоминание о культовом его происхождении. К тому же костюмы актеров считались общественным достоянием. Подробное описание театральных одежд дает Полидевк (IV, 115-120), отмечая, что они менялись в зависимости от того, в каком виде драмы - трагедии, комедии или драме сатиров-выступали актеры.
Одежды соответствовали и возрасту действующих лиц и их общественному положению: пестрым одеждам царей Атрея или Агамемнона Полидевк противопоставляет рубище Телефа и Филоктета. Особая одежда была у прорицателя Тиресия. Сводни в комедии имели особый головной убор. Параситы должны были носить черную одежду, но в тех случаях, когда парасит готовился жениться, он менял ее на белую. Пастухи появлялись в козьих шкурах (Полидевк VII, 70). Комические актеры надевали особые утолщения для груди и живота.[3] Они видны на южноиталийских вазах, изображающих представления флиаков. Знали древние актеры и трико.
Полидевк распространяет отличие между трагическими и комическими актерами и на их обувь: котурны у трагических актеров, эмбады - у комических (IV, 115). Гораций (Ars poët. 280) приписывает изобретение котурнов Эсхилу. Считали, что котурны служили для увеличения роста актеров и были снабжены очень высокими подбойками. Но исследование таких памятников, как Неаполитанская ваза, изображающая с особой точностью наряд актеров,[4] и Пирейский рельеф V века до н. э, показало отсутствие подобной обуви в лучшую пору греческого театра. Отсюда А. Керте в докладе на 49-м съезде филологов[5] и М. Бибер[6] пришли к выводу, что утверждение Горация неправильно и что высокая обувь появилась лишь во II веке до н. э., когда актеры стали играть на высокой, но узкой сцене. Это нововведение в обуви было сделано будто бы для того, чтобы зрители передних рядов могли видеть актеров с головы до ног; обувь эта, однако, крайне связывала свободные движения актеров. Но Неаполитанская ваза изображает подготовку к представлению драмы сатиров, и переносить ее подробности на все виды драмы нельзя. Мастера остальных памятников могли эту подробность опускать, как они часто вообще упрощали свои работы, особенно на камне. Трудно понять, почему обувь актеров представляла такой интерес для зрителей, что ради этого актеров заставляли преодолевать большие неудобства. В итоге вопрос о котурне вызывает еще очень большие сомнения.
Самой существенной особенностью внешнего облика греческого актера была маска, неизбежная при всем своем неудобстве там, где одному актеру во время представления надо было постоянно переходить от одной роли к другой. Вместе с тем, эти маски являлись в греческом театре даже позднейшего времени внешним показателем его связи с обрядовым действием. Наблюдения над современными народами Африки показывают, что там в погребальных обрядах и на поминках предков тоже надевают маски; чтобы живо представить покойника, этим маскам стараются придать по возможности наибольшее портретное сходство.[7] Маски известны и из древнего Египта. То же мы видим на острове Суматре, где маски при похоронах употреблялись еще в конце XIX века. У остяков они служат для изображения зверей, например медведя (для "медвежьей драмы"), в Сиаме - обезьян, ангелов и т. д.[8] По мере реализации всей драмы у греков "обрядовые маски хора выросли в определенные типы-маски художественной трагедии".[9]
Маски греческих актеров известны и по многочисленным изображениям и по подробному их перечню у Полидевка (IV, 133-154), который разбирает сперва маски трагедии (133-142), затем вкратце маски драмы сатиров (142) и, наконец, комедии (143-154).
Кроме масок, свойственных разным возрастам и сословиям, он выделяет маски отдельных образов, например маску с рогами Актеона, слепого Финея, Фамирида с глазами разного цвета, Аргуса с многими глазами (141), Ахиллеса, остригшего волосы после смерти своего друга Патрокла, и т. п. Были особые маски муз, нимф, олицетворений отвлеченных образов: Смерти, Насилия, Убеждения и т. п. (§ 142). Его определения отдельных масок и неясны и произвольны, например Ликомедовой маски (§ 143). Напрасно видит полную достоверность в этом перечне масок Полидевка К. Роберт, посвятивший ему подробное исследование в 25-й "Винкельмановской" программе (Галле, 1911 г.).
Некоторые маски "древней" комедии носили портретный характер. Так, Элиан (II, 13) сообщает, что. маске Сократа мастера придали такое портретное сходство, что иноземцы во время представления старались узнать по ней Сократа среди зрителей. Но подобную вольность можно было позволять себе только с такими благодушными людьми, как Сократ. О Клеоне сам Аристофан говорит, что из страха перед ним мастера не решались изготовить его маску ("Всадники", ст. 230-233).
Изображения масок на рисунках, терракотах и других предметах доказывают, что греческая маска покрывала всю верхнюю часть головы, представляя собой, таким образом, соединение маски с театральным париком. Это позволяло актеру быстро превращаться из юноши или девушки в старика или старуху. При исполнении роли Исмены в "Антигоне" Софокла актер мог явиться (ст. 528) перед зрителями, благодаря маске, с лицом, расцарапанным до крови, как того требовало обрядовое оплакивание близких.[10]
На тех же самых терракотах, изображающих актеров в ролях молодых женщин или юношей, часто нет ни малейших признаков маски.
Возможно, что по мере отхода театра от обряда в эллинистической драме, в частности в "новой" комедии, маска осталась лишь для тех ролей, которые требовали особого, характерного грима.
[1] Афиней I, 39, р. 21 Е.
[2] „Die Herkunft des tragischen Kostüms“ (Arch. Jahrb., т. 32, 1917, стр. 15—104).
[3] Лукиан, О пляске, 27.
[4] Mon. d. Instil., т. 13, стр. 31.
[5] Напечатан в Festschrift (Базель, 1907, стр. 198—212).
[6] См. исследование „Das Dresdner Schauspielerrelief“ (Бонн, 1907), где собраны снимки со всех памятников искусства.
[7] См. P. German — А. Springer, Kunstgeschichte, т. 6. Лпц., 1929, стр. 570—572.
[8] R. Andree, Archiv f. Anthropologie, т. 16, 1889.
[9] А. Веcеловский, Собр. соч., т. I, стр. 388 (Историческая поэтика, стр. 314).
[10] См. W. Schmid, Rh. Mus., 1902, стр. 624 сл.
7. ХОР
Хор первоначально состоял в трагедии из 12 человек. Свида только Софоклу приписывает его увеличение до 15. Но у Эсхила в "Агамемноне" хор уже состоял из 15 человек, как это указывает схолиаст к "Всадникам" Аристофана (ст. 589); там же указано, что хор комедии, состоявший из мужчин, женщин и детей, включал 13 мужчин и 11 женщин, а где не было мужчин, - из 13 женщин и 11 детей. Состав хора трагедии в 15 и комедии в 24 человека определяет и Полидевк. Один из хоревтов, по словам Полидевка, исполнял обязанности четвертого актера, если в таковом бывала нужда (IV, 109). Теснейшая связь хора с гражданской общиной видна из того, что в него допускались лишь местные граждане, и нарушавший это правило хорег платил большой штраф, как это видно для IV века до н. э. из слов Плутарха (Жизнь Фокиона, гл. 30).
Драматический хор располагался четырехугольником в отличие от дифирамбического, образовывавшего круг. Полидевк (IV, 107) отмечает и деление хора на полухория; полагают, что одна половина исполняла строфу, другая антистрофу, и лишь в конце, для эпода, обе половины выступали вместе. Более правдоподобно, что это зависело от степени той силы, какая нужна была для отдельных песен хора.
Описывая подробно в "Илиаде" оплакивание тела Гектора его родными, Гомер отмечает, что зачинателями этого плача были аэды, певцы (Ил. XXIV, ст. 721). Стало быть, уже в "Илиаде" из общего состава хора выделяется его глава, в чем А. Веселовский усматривает новую ступень развития поэзии. Таким зачинателем драматического хора был его главарь - корифей.[1] Руководитель хора не должен был позволять участвовать "кому-либо", кто поет громче и красивее остальных хористов",[2] что доказывает стремление к стройному ансамблю.
[1] О нем cм. статью Э. Рейша в RE т. 3, стр. 2442.
[2] Аристотель, Политика III, 8, p. 1284 b.
8. ПУБЛИКА.
На театральные представления в Греции собиралось множество зрителей, как это видно из числа мест для них, устроенных в дошедших до нас зданиях: в Афинском театре оно могло достигать 17 000, в Мегалополе даже 44 000. Состав зрителей был очень разнообразен; среди них были и женщины, и дети, и рабы, как это видно из слов Платона;[1] женщины бывали даже на представлениях тех комедий, где н слова актеров, и их движения, и одежды могли бы задевать их скромность.[2] Фиромах, упоминаемый в комедии Аристофана "Женщины в народном собрании", внес будто бы предложение о том, чтобы женщины сидели отдельно от мужчин,[3] а Менандр отмечает, какое ему доставляет удовольствие получить награду на глазах у своей возлюбленной Гликеры.[4]
Во время представления зрители сидели, украшенные венками.[5] "Чтобы сидеть с удобством на каменных скамьях, они клали на них подушки".[6] Аристотель в "Политике" поднимал вопрос, следует ли молодежи воспрещать посещение театра (VII, 15, 9, р. 1337a); он полагал, что закон должен запрещать молодежи посещать комедии. Платон в "Законах" (III 15, р. 701a) порицает властное проявление зрителями своего мнения, говоря что вместо аристократии образовалась своего рода "театрократия". Из письма Алкифрона (III, 71), где актер комедии просит своего знакомого вместе с приятелями поддержать его рукоплесканиями, видно, что и в древнем театре была наемная клака.
Особые места в театре отводились почетным лицам, пользовавшимся правом так называемой проэдрии, о чем свидетельствуют многие надписи.[7] Самое почетное место принадлежало жрецу бога Диониса-Элевтерия. Среди остатков афинского театра времени императора Адриана уцелело его место, помеченное соответствующей надписью и роскошно украшенное скульптурной резьбой. В Афинском театре отделка почетных мест первого ряда была роскошнее, чем в остальных, и сиденья были снабжены значительно более удобными спинками. Они предназначались для жрецов Зевса, Аполлона, для архонтов, иноземных послов и т. д. В первом ряду таких мест было 67, но надписи, выделяющие почетные места, находятся и выше первого ряда. Особые места были отведены и эфебам.[8]
Места для зрителей, поднимавшиеся концентрическими кругами кверху и, расходившиеся наподобие лучей, делились на клинья лестницами; лестницы эти были узки, в Афинах - шириной, достаточной для прохода только одного человека; по клиньям обозначались места на дошедших до нас марках из кости,[9] заменявших театральные билеты нового времени. Надпись CIA II, 573 середины IV века до н. э. сохранила часть контракта Пирейского дема с четырьмя арендаторами местного театра, который, стало быть, здесь, как и повсеместно, составлял собственность общины. Арендная плата определена в 3300 драхм, причем двое арендаторов внесли по 1100, третий 600, четвертый 500 драхм. Они обязуются следить за сохранностью театра, иначе дем сам произведет ремонт за счет арендаторов. Ясно, что арендаторы принимали на себя эти расходы, надеясь вернуть их путем сбора платы с зрителей. Первоначально посещение зрелищ было даровым, затем платным, но Перикл[10] ввел выдачу зрелищных денег (το θεωρικόν) из государственной казны; для заведывания ими поднятием рук избиралось особое лицо.[11]
Во время представлений, которые были гораздо продолжительнее, чем в новом театре, потому что - шло несколько пьес подряд, публика подкрепляла себя пищей и лакомствами. Аристотель замечает: "В театрах едят сласти преимущественно тогда, когда актеры плохи".[12] За плохую игру актеров освистывали, и власти подвергали их телесному наказанию.[13]
Из многочисленных попыток установить стиль греческого спектакля особого внимания заслуживает обширная работа Евг. Петерсена,[14] где установлено, как изменялась техника и трагических поэтов и актеров в зависимости от развития скульптуры и живописи: творчество Эсхила он сближает с мастерами так называемой лесхи книдян, а Эврипида - с картинами Зевксида. Исходя из этого, стиль и комедий Аристофана и драмы сатиров надо определять по тем вазовым рисункам, которые изображают забавные стороны жизни в духе, близком этим видам драмы. В итоге стиль спектаклей был так же сложен и разнообразен, как разнообразна была и вся жизнь, отраженная в искусстве.
[1] Горгий 502d.
[2] См. „Мир“ Аристофана, ст. 966.
[3] Схол. к 22 ст. этой комедии.
[4] Алкифрон II, 3, 10.
[5] Афиней XI, р. 464e.
[6] Аристофан, Всадники, 783 сл.
[7] Например, CIA II, 589.
[8] Схолии к „Птицам“ Аристофана, ст, 794.
[9] См. атлас Т, Шрейбера, табл. 1, № 11 —13.
[10] Плутарх, Жизнь Перикла, гл. 9.
[11] Аристотель, Афинская полития, гл. 43, 1.
[12] Никомахова этика, X, 5.
[13] Демосфен, О ложн. посольстве, § 337.
[14] Ε. Petersen, Die attische Tragoedie als Bild and Bühnenkunst. Бонн, 1927
Глава XXI ЭСХИЛ
1. ВРЕМЯ ЭСХИЛА
О начальном периоде греческой трагедии до Эсхила мы знаем очень мало. Эсхил - первый из греческих драматургов, который известен нам непосредственно по его произведениям, хотя и из них только немногие дошли до нас. У Эсхила греческая трагедия приобретает свою вполне законченную форму, которая становится затем классической и сохраняется в течение всей дальнейшей истории античного мира. Так как все творчество Эсхила проникнуто современной ему действительностью, то для понимания его трагедий необходимо предварительно остановиться на главных моментах истории этого времени.
Жизнь Эсхила совпадает с очень важной эпохой в истории Афин и всей Греции. После свержения тираннии Гиппия Писистратида в 510 г. до н. э. Афины установили широкие экономические связи, в особенности с ионийскими городами Малой Азии. Афиняне энергично укреплялись на морских путях, ведущих к малоазиатским берегам. В самых Афинах усилилось демократическое движение крестьян и ремесленников, которое дало возможность Клисфену провести в 508 г. до н. э. реформы демократического характера. С этого момента начинается история афинской рабовладельческой демократии. При этом внутри господствующего класса начинается борьба двух групп - прогрессивных торговых слоев и консервативных землевладельцев, интересы которых отчасти совпадали с интересами аристократии.
В 500 г. в Малой Азии началось восстание греческих городов против персидского владычества, но это восстание кончилось неудачей. Персам удалось жестоко покарать восставших: центр восстания - город Милет был взят и разрушен, а его жители частью перебиты, частью уведены в рабство - в 494 г. Известие о разрушении этого богатого города произвело потрясающее впечатление в Греции. Фриних, поставивший в это время в Афинах свою трагедию "Взятие Милета", вызвал у зрителей слезы и за это был подвергнут властями большому штрафу - в тысячу драхм (Геродот VI, 21). Разгром одного из самых цветущих греческих городов в Малой Азии представлялся как результат неудачной политики Афин, и изображение в театре этой неудачи было едкой критикой политического руководства. Театр сделался орудием политической пропаганды.
Покорив Малую Азию, персидский царь Дарий задумал подчинить и материковую Грецию. Так начался период греко-персидских войн. В это время руководство политической жизнью в Афинах находилось в руках старого аристократического учреждения - Ареопага. С большим напряжением всех сил грекам удалось отстоять свою независимость. Борьба за отечество и свободу вызвала высокий патриотический подъем. Не удивительно поэтому, что воспоминания об этих событиях насыщены пафосом героики, рассказами о чудесных подвигах и даже о помощи самих богов. Отклики этих настроений явно видны еще и позднее в истории Геродота. После изгнания персов, с 479 г. закипели первые работы по восстановлению разоренных персами Афин. Фемистокл проявил напряженную энергию в постройке стен вокруг города а затем в укреплении гавани Пирея. В этих-то условиях Фриних в 476 г. создал другую свою трагедию - "Финикиянки", а Эсхил (в 472 г.) - трагедию "Персы". Обе трагедии посвящены рассказу о битве при Саламине и были рассчитаны на то, чтобы действовать на патриотические чувства зрителей. Эсхил был не только современником, но и активным участником происходивших в стране знаменательных событий. Вполне понятно поэтому, что все его миросозерцание и политический пафос определяются этими событиями.
Эти важные события содержали в себе зародыш дальнейших серьезных изменений в политической жизни Греции. Создание морского могущества Афин в результате побед над персами, образование морского союза под главенством Афин, расширение военного и торгового флота - все это подняло значение низшего класса афинских граждан, так называемых фетов, и привело к сильному демократическому движению. Начались нападки на учреждение, которое было оплотом аристократии в Афинах - на Ареопаг. Вождем этого движения был Эфиальт. Ему удалось в 462 г. провести реформу, которая отняла у Ареопага все политические функции и низвела его на степень судебного учреждения по религиозным делам. Насколько ожесточенной была борьба, которая велась на этой почве, видно из того, что Эфиальт был убит своими противниками. После его смерти отклики этой борьбы всё еще продолжались. В 461 г. был изгнан посредством остракизма глава аристократической партии Кимон, произошел разрыв с аристократической Спартой и заключен союз с демократическим Аргосом. Политику Эфиальта наследовал затем Перикл. В результате этой борьбы должности архонтов с 457 г. стали доступными для граждан третьего класса - зевгитов. Несомненную связь с политической борьбой имеет трагедия Эсхила "Эвмениды", поставленная в 458 г.
Время Эсхила вместе с тем является временем серьезных изменений в художественной жизни Греции. Это - переход от архаики к искусству зрелого периода, известный нам по скульптуре эгинских · фронтонов, воспроизводящей образы Троянской войны, по статуе "Дельфийского возницы" и по фронтонам храма Зевса в Олимпии, где (на западном фронтоне) изображена битва лапифов с кентаврами. Этот переходный период завершается творчеством Мирона с его знаменитым "Дискоболом". Новые образы еще лишены индивидуальности, но зато они полны силы и величия. Такими свойствами обладали, повидимому, и картины Полигнота. Сходные черты видны и в поэзии Эсхила. Современником Эсхила был величайший лирический поэт Греции Пиндар. Хотя они и были представителями разных поэтических жанров, но между ними обнаруживается глубочайшее внутреннее сродство.
2. БИОГРАФИЯ ЭСХИЛА
Эсхил, сын Эвфориона, родился, согласно показанию "Паросской хроники", в 525 г. до н. э. в местечке Элевсине, близ Афин, принадлежавшем к району так называемой Равнины и бывшем центром землевладельческой аристократии. Там у его отца было поместье и виноградники. Детство поэта, как и вся его жизнь, в воображении позднейших времен античного мира было окутано множеством легенд. Так, например, рассказывали, будто он в детстве однажды заснул, охраняя отцовский виноградник, и тут ему явился сам бог Дионис и велел писать трагедии.
Эсхил происходил из знатного рода и, может быть, имел отношение к элевсинским мистериям. Намек на это видят в словах, которые влагает в его уста Аристофан в комедии "Лягушки" (ст. 886 сл.): "Деметра, воспитавшая мое сердце, сделай меня достойным твоих мистерий!" Другие же рассказы, касающиеся этого, очень неясны и противоречивы.
Семья Эвфориона принимала деятельное участие в войне с персами, сам Эсхил сражался при Марафоне, при Саламине и при Платеях. Он рано начал писать драматические произведения. Первое его выступление относится к 70-й олимпиаде (500-497 гг. до н. э.), когда ему было 25 лет отроду.
Эсхил оставил после себя 72 или 90 пьес и тринадцать раз был победителем на состязаниях - первый раз в 484 г. Однако под конец его жизни успех стал склоняться на сторону молодого Софокла, который одержал первую победу в 468 г. Из Афин Эсхил на некоторое время (около 470 г.) уезжал в Сицилию, где при дворе Гиерона в Сиракузах была вторично поставлена его трагедия "Персы". На местную сицилийскую тему была написана не дошедшая до нас трагедия "Этнянки", где прославлялся город Этна, основанный Гиероном у подножия огнедышащей горы того же названия. В 458 г. Эсхил окончательно переселился в Сицилию и умер в 456 г. в городе Геле, где и был погребен.
Относительно переселения Эсхила под конец жизни в Сицилию древние биографы приводят разные объяснения. По словам одних, против него поднято было обвинение в разглашении таинств элевсинских мистерий,[1] причем он будто бы оправдался тем, что вовсе не был в них посвящен, или якобы спасся благодаря заступничеству Ареопага ия уважения к военным заслугам его самого или его брата. Другие объясняли его отъезд чувством обиды вследствие предпочтения, которое публики стала оказывать молодому Софоклу или даже Симониду, победившему его в элегии в честь воинов, павших при Марафоне. Однако все вти объяснения неудовлетворительны. Скорее всего причина была политическая. О каких-то расхождениях его с афинскими гражданами бегло упоминает Аристофан в "Лягушках" (ст. 807): "Не сходился Эсхил с афинянами". Вероятно, ему, как прирожденному аристократу и стороннику Ареопага, казалось неприемлемым торжество демократии в Афинах. О его политических симпатиях лучше всего мы можем судить по последней трагедии "Эвмениды", где прославляется Ареопаг. Таким образом, это предположение имеет фактическую основу.
Конец Эсхила, так же как и вся его жизнь, был украшен легендой: он погиб будто бы от того, что пролетавший орел сбросил ему на голову черепаху. Сохранилась даже античная гемма с изображением Эсхила, над которым парит орел с черепахой. Эта сказка, подобная многим сказкам о великих людях-Софокле, Эврипиде и др., настолько наивна, что не требует опровержения.
[1] Об Этом мимоходом упоминает Аристотель в „Никомаховой этике“ (III, 2).
3. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭСХИЛА
Литературную славу Эсхил заслужил своими драматическими произведениями - трагедиями и сатировскими драмами. У нас, однако, есть сведения, что он писал, кроме того, элегии и эпиграммы. Из них сохранилось до нас очень немного,[1] но они не имеют серьезного значения в сравнении с его драматическими произведениями. Однако из богатого драматического наследия Эсхила до нас дошло только семь трагедий. Хронологически они распределяются в следующем порядке: "Просительницы"- неизвестной даты, "Персы"-472 г., "Прометей" - неизвестной даты, но во всяком случае начала 60-х годов, "Семеро против Фив" - 467 г., три трагедии - "Агамемнон", "Хоэфоры" и "Эвмениды" из тетралогии "Орестея", поставленной в 458 г. Кроме "Персов", все эти трагедии имеют мифологические сюжеты. Они заимствованы по преимуществу из так называемых киклических поэм, которые часто приписывались огульно Гомеру. Эсхил сам говорил (Афиней VIII, р. 347e), что его произведения - это "крохи от пышного пиршества Гомера". Из "Илиады" был взят сюжет трилогии об Ахиллесе - "Мирмидоняне", "Нереиды" и "Фригийцы, или Выкуп тела Гектора".
Самим ранним из дошедших до нас произведений Эсхила, а вместе с тем и из всех вообще произведений греческих драматургов, надо считать трагедию "Просительницы". О времени ее создания высказывались весьма различные мнения. Так, некоторые исследователи приурочивали ее к 461 г. Однако особенности драматургической и театральной техники обнаруживают здесь бо́льшую примитивность, чем во всех других известных нам пьесах Эсхила.
Трагедия "Просительницы" была первой частью тетралогии, сюжетом которой был миф о Данаидах, т. е. о дочерях Даная. Второй частью, по видимому, была трагедия "Египтяне", третьей - "Данаиды", а четвертой- драма сатиров "Амимона". Сюжет этот, составлявший содержание древней эпической поэмы "Данаиды", был уже, по видимому, использован Фринихом. Содержание "Просительниц" следующее: Данаиды - пятьдесят дочерей Даная - спасаются от преследования своих двоюродных братьев, пятидесяти сыновей Эгипта, которые хотят жениться на них. Данаиды вместе с отцом своим Данаем, в сопровождении толпы прислужниц, приезжают в город Аргос и, расположившись у алтаря, умоляют о защите. Они выражают надежду на помощь Зевса, от которого ведут свое происхождение, а также на родственную связь с городом, так как отсюда вышла их родоначальница - праматерь Ио. Местный царь Пеласг не решается оказать им покровительство, но в то же время сознает, что на него может пасть гнев богов, если не будет уважена просьба молящих. Девушки угрожают покончить с собой у священного алтаря и этим осквернить его святость. Под влиянием этого царь, не принимая на себя разрешение вопроса, предлагает Данаю обратиться к народу, и только после согласия народа он, наконец, обещает просительницам защиту. Вскоре после этого Данай видит приближение флота преследователей. Это сообщение повергает в ужас Данаид. Является глашатай с толпой египтян и пытается насильно увести их, но царь Пеласг берет их под свое покровительство и объявляет преследователям войну. Он уводит Данаид в свой город, и те воссылают благодарность богам за свое спасение. Однако у них остается тревожное предчувствие, так как хор служительниц признает, что своим сопротивлением браку они нарушают волю Афродиты. Это является переходом к следующей части тетралогии - к трагедии "Египтяне", где было представлено, как Данаиды после поражения Аргоса, насильственно вынужденные к браку, отмстили за себя и по наущению Даная все, за исключением одной, Гиперместры, убили своих новобрачных мужей.[2] В трагедии "Данаиды", как предполагают, был представлен суд над Гиперместрой, как отступницей от общего дела. Но, в конце концов, она получает оправдание, благодаря заступничеству Афродиты, и делается родоначальницей царского дома в Аргосе. О содержании сатировской драмы "Амимона" можно судить по изложению мифа в "Библиотеке" псевдо-Аполлодора (II, 13 сл.): "Страна не имела воды, так как Посейдон иссушил источники в гневе на Инаха за то, что тот свидетельствовал о принадлежности страны Гере. Данай послал своих дочерей за водой. Одна из них, Амимона, во время поисков воды выстрелила в оленя, но попала в спавшего сатира. Тот, поднявшись, хотел овладеть ею. Но тут появился Посейдон, и сатир убежал. Тогда Амимона отдалась Посейдону, и Посейдон указал ей источники в Лерне" (фр. 13-15).
Трагедия "Персы", по вполне точным показаниям дидаскалий, была поставлена в 472 г. при участии молодого Перикла в качестве хорега. Она занимала второе место в тетралогии, состоявшей из трагедий: "Финей", "Персы", "Главк Понтийский" и сатировской драмы "Прометей, зажигатель огня". Она не связана по содержанию с другими частями тетралогии и имеет исторический сюжет на тему из недавно пережитых событий. До Эсхила такой же темой занимался уже Фриних в трагедии "Финикиянки", поставленной в 476 г. Один стих, сохранившийся из этой трагедии, прямо напоминает начальный стих трагедии Эсхила.
Действие "Персов" происходит, как и у Фриниха, в Сусах. Старейшины государства, составляющие хор, собираются к дворцу, вспоминая о том, как отправлялось в Грецию огромное войско персов. Подробное перечисление отрядов войска и их вождей имеет в виду создать впечатление особенной грандиозности похода. Ответственность за него всецело падает на Ксеркса. У старцев остается тревожное чувство. Мать царя Ксеркса, царица Атосса, правящая в его отсутствие страной, сообщает о виденном ею сне. Ей казалось, что сын ее Ксеркс хотел запрячь в колесницу двух женщин: одна, которая была в азиатской одежде, покорно подчинилась ему; другая, одетая в греческое платье, сбросила узду и опрокинула самого царя. А на утро представилось ей знамение - орел, спасающийся от преследования ястреба. Атосса чувствует во всем этом предвестие беды, угрожающей ее сыну. Хор советует царице молить помощи у покойного супруга, царя Дария, а кстати, когда она расспрашивает о стране, в которую отправился с войском Ксеркс, характеризует Грецию и ее народ. В это время является вестник, который рассказывает о полном разгроме персидского флота при Саламине. В этом рассказе (ст. 302-514) поэт, не называя никого по имени, воспроизводит свои личные воспоминания о сражении, о хитрости Фемистокла, пославшего Ксерксу письмо с предупреждением, будто греки хотят бежать, о доблести своего брата, начавшего сражение, о подвиге Аристида, уничтожившего отряд персов на близлежащем островке Пситталии, об общем патриотическом порыве греков и т. д. Он рассказывает о призыве, который слышен был перед сражением (ст. 402-405):
... Вперед, сыны Эллады,
Спасайте родину, спасайте жен,
Детей своих, богов отцовских храмы.
Гробницы предков: бой теперь - за все![3]
Этот призыв характеризует настроение греческого войска, и описание получает тем большую силу, что влагается в уста врага - персидского вестника.
Его рассказ составляет центральную часть трагедии. Все предыдущее только подготовляет ее, а последующее является лишь заключением. После рассказа вестника царица совершает жертвенные обряды на могиле царя Дария и вызывает его тень. Тень Дария, появляясь из могилы, объясняет поражение персов карой богов за чрезмерную надменность Ксеркса и предсказывает еще новое поражение под Платеями и дальнейший разгром сухопутной армии во время бегства (ст. 796-802). Старцы хора предвидят уже распад всего могущества персидской державы. После этого приходит Ксеркс, оплакивая свое несчастье. Хор присоединяется к нему. Трагедия заканчивается общим "плачем".
Поэт замечательно представляет постепенное приближение бедствия: сначала предчувствие его, затем точное известие и, наконец, появление самого Ксеркса. Эта трагедия исполнена патриотических чувств и прославляет Грецию. В противоположность персам, у которых "все - рабы, кроме одного", греки характеризуются как свободный народ: "никому они не служат, и ничьи они рабы" (ст. 242). Персы изображаются настоящими варварами, не знающими меры в своей роскоши и в выражениях своей печали. Вестник, рассказывая, как греки, несмотря на свои малые силы, одержали победу, заявляет: "Паллады город боги охраняют". Царица спрашивает: "Так можно ли Афины разорить?" И вестник на это отвечает: "Нет, мужи им надежная охрана!" (ст. 348 сл.). Далее, тень Дария заявляет: "Сама земля всегда в союзе с ними" (ст. 792). Покойный царь советует никогда не предпринимать походов на Грецию (ст. 790 сл.). Он заключает свою речь следующим предостережением (ст.· 823 сл.):
Такую казнь за эту гордость видя,
Эллады и Афин не забывайте,
И пусть никто, презрев свою судьбу
И пожелав чужой, не расточает
Великого богатства своего:
Ведь есть Зевес, каратель гордецов
Чрезмерных и судья неумолимый!
Вся трагедия - настоящее прославление победы греков. Впоследствии Аристофан (Лягушки, ст. 1026-1029) отмечал патриотическое значение этой трагедии. "Персы" были вторично поставлены Эсхилом в Сицилии по предложению сиракузского тиранна Гиерона.[4] Интерес к ним в Сицилии становится понятным, если вспомнить, что в тот же 480 г., когда афиняне и спартанцы боролись с персами, Гиерон во главе греческих сил вел на западе упорную борьбу с карфагенянами и нанес им решительное поражение при Гимере.
Трагедия "Семеро против Фив", по точным данным дидаскалий, была поставлена в 467 г. до н. э. и занимала третье место в тетралогии из мифа об Эдипе. Это были трагедии: "Лай", "Эдип", "Семеро против Фив" и сатировская драма "Сфинкс". Миф об Эдипе излагался ранее в киклических поэмах - "Эдиподии", "Фиваиде", "Эпигонах" и других и мимоходом упоминается в "Одиссее" (XI, 271-280). Известно было также лирическое произведение поэтессы Коринны под названием "Семеро против Фив". Впоследствии этот сюжет много раз обрабатывался поэтами и нам хорошо известен по произведениям Софокла и Эврипида.
Царь Лай за грех противоестественной любви был проклят богиней Герой. От оракула Аполлона он получил предупреждение, что если он хочет блага государству, то не должен иметь детей, иначе погибнет от руки собственного сына. Но у него все-таки родился сын от супруги Иокасты,[5] и тогда он велел новорожденного ребенка убить. Однако приказание его не было исполнено. Эдип, воспитанный в Коринфе, под влиянием предсказания, что убьет отца и женится на своей матери, бежал из Коринфа, по дороге в случайном столкновении убил царя Лая, потом, придя в Фивы, освободил их от чудовища - Сфинкса. За это он был избран на царство и женился на вдове покойного царя Иокасте. Когда обнаружилось, что Лай был его отцом, а Иокаста матерью, Иокаста покончила с собой, а Эдип ослепил себя. Потом за нанесенную обиду он проклял своих сыновей Этеокла и Полиника, предсказав им, что они мечом будут делить наследство (Семеро, ст. 727-733). После смерти отца Этеокл захватил власть и изгнал Полиника. Полиник в изгнании собрал шестерых друзей и вместе с ними и их войсками сам-седьмой пришел осаждать родной город.
Трагедия "Семеро против Фив" начинается с пролога, в котором представлено, как Этеокл распоряжается обороной города и посылает лазутчика узнать о направления сил противника. Местные женщины, составляющие хор, мечутся в ужасе, но Этеокл строгими мерами останавливает панику. Центральное место в трагедии составляет разговор Этеокла с лазутчиком, когда тот сообщает о движении неприятельских сил: к семи воротам города подступают со своими отрядами семеро вождей. Узнав, что к седьмым воротам идет его брат Полиник, Этеокл заявляет, что никому другому не подобает идти против брата, кроме него самого. Женщины хора, в ужасе перед предстоящим братоубийством, тщетно пытаются остановить его. Однако решение его бесповоротно. Хор поет скорбную песнь, вспоминая старый грех Лая и тяготеющее над домом проклятие. После окончания этой песни появляется вестник, который сообщает о поражении врагов и о смерти обоих братьев. В последней сцене глашатай объявляет, что старейшины города (пробулы) постановили предать тело Этеокла почетному погребению, а тело Полиника оставить без погребения. Антигона, сестра убитых, говорит, что, несмотря на запрещение, похоронит брата.
Наиболее знаменитой трагедией Эсхила является "Прикованный Прометей". Время ее постановки остается спорным. С несомненностью можно сказать, что она написана после первой поездки Эсхила в Сицилию. Упоминание извержения Этны (Прометей, ст. 367-372), случившегося в 479/478 г., близко напоминает поэтическое описание его в 1-й Пифийской оде Пиндара, относящейся к 470 г. На основании этого ученые относят создание "Прометея" к ближайшим годам после 470 г.
Трагедия "Прикованный Прометей" принадлежала к тетралогии, в состав которой, кроме этой трагедии, входили "Освобождаемый Прометей", "Прометей-Огненосец" и еще какая-то пьеса. Вопрос о последовательности этих произведений остается до сих пор невыясненным. Сюжет их взят из всемирно распространенного народного сказания о богатыре, который борется с богами за благо человечества.
Греческий миф о Прометее содержит в себе два основных момента: похищение огня для людей, что является началом культурной жизни человека, и борьбу с Зевсом.
В Аттике Прометея чтили в качестве божества, имел он культ в Колоне и в священной роще Академии. В честь его ежегодно справлялся праздник Прометии, сопровождавшийся состязанием в беге с факелом. Прометей считался покровителем кузнецов и горшечников. Как бог огня он был сходен с Гефестом - богом младшего поколения. Можно видеть, что усиление культа Гефеста оттеснило на задний план более старый культ Прометея.
Первая элементарная версия мифа о Прометее известна еще в поэмах Гесиода, где Прометей обрисован как хитрец, обманывающий Зевса; рядом с ним фигурирует его глуповатый брат Эпиметей, который принимает коварный подарок богов - женщину Пандору, приносящую людям всякие беды. Прометей, по Гесиоду, - сын Иапета и Океаниды Климены, один из титанов, богов старшего поколения. Эсхил представляет его сыном Фемиды-Земли. Когда воцарился над богами Зевс, против него восстали титаны, несмотря на убеждения Прометея. Тогда Прометей стал на сторону Зевса и помог ему. Однако эти услуги вскоре были забыты. Потом Зевс хотел погубить созданных Прометеем людей, и Прометей, чтобы спасти род человеческий, похитил с небесного алтаря огонь и передал его людям. Этим он навлек на себя гнев Зевса. В первой сцене трагедии представлена казнь Прометея, которого Гефест, по распоряжению Зевса, приковывает к скале в Скифии. Титан безмолвно переносит эту казнь. Когда он, наконец, оставшись один, изливает свою скорбь, прилетают дочери Океана, нимфы Океаниды. Их устами как бы вся природа выражает сочувствие страдальцу. Прометей рассказывает о том, какую помощь он оказал Зевсу и как прогневал его. Сам старый Океан прилетает на крылатом коне грифоне. Он выражает сочувствие Прометею, но в то же время советует примириться с владыкой мира. Прометей отказывается от какого бы то ни было компромисса, и Океан улетает, ничего не добившись. Прометей подробно рассказывает хору о своих благодеяниях людям: он научил их строить жилища и укрываться от холода и жары, преподал им великую науку чисел и грамоту, научил обуздывать животных, делать паруса для кораблей, находить лекарства от болезней, открыл науку гаданий, открыл в недрах земли металлы, научил всяким ремеслам и т. д., только от смерти не мог их спасти. Эта сцена заканчивается заключением, что есть сила выше самого Зевса. Это Мойры, олицетворение Судьбы, и "памятливые Эринии" (ст. 515 сл.). Тут открывается, таким образом, отдаленная возможность освобождения Прометея. В это время появляется Ио, возлюбленная Зевса, превращенная Герой в корову. Прометей, как пророк, рассказывает о ее прошлых странствованиях и об ожидающей ее судьбе: от нее произойдет со временем тот великий герой, который освободит от мук его самого. Так намечается связь со следующей частью тетралогии. Далее, Ио, охваченная приступом безумия, убегает. Прометей говорит хору, что знает тайну гибели Зевса от нового брака, в который он вступит (ст. 908-914), и что один Прометей может его спасти. Тогда с неба является Гермес и требует, по поручению Зевса, раскрытия этой тайны. Но Прометей решительно отказывается, несмотря на страшные угрозы Гермеса. Эти предвещания новых мук, которые должны длиться до тех пор, пока кто-нибудь из богов не примет их на себя и не согласится сам сойти в не озаряемый лучами солнца Аид и в мрачные глубины Тартара, - образуют связь со следующей частью тетралогии. Трагедия кончается тем, что Зевс своей молнией ударяет в скалу и Прометей вместе с ней проваливается в глубь земли. С ним проваливаются и Океаниды.
Освобождение Прометея было сюжетом другой трагедии, не дошедшей до нас, под названием "Освобождаемый Прометей". Судя по данным самого мифа и по незначительным сохранившимся отрывкам из этой трагедии, ее содержание можно представить себе так. По прошествии тридцати тысяч лет Прометей подвергнут новым страданиям: он прикован к Кавказской скале, и каждые три дня прилетает к нему орел, который терзает его печень, а расклеванная печень отрастает заново. Узнав о страданиях Прометея, к нему сходятся его собратья, Титаны. Они составляют в этой трагедии хор. Большое место в их печальной песне занимал рассказ об их странствиях; в свою очередь и Прометей рассказывал им о своих страданиях. Центральным моментом в трагедии был приход Геракла, потомка Ио. Прометей предсказывал ему совершение великих подвигов. Сюда относятся отрывки, говорящие о его странствиях (фр. 195-199). Затем Геракл убивал орла, и Прометей объяснял, что Зевсу грозит гибель, если он вступит в брак с Фетидой, как он хотел. Последствием этого было то, что Фетиду поспешили выдать замуж за простого смертного - Пелея. В награду за открытие этой тайны Геракл, по воле Зевса, освобождал Прометея,[6] причем кентавр Хирон соглашался добровольно умереть вместо него. Дело заканчивалось, по видимому, установлением культа Прометея в Аттике, характерной частностью которого был бег с факелом; при этом молящиеся должны были надевать на голову венки в память о тех оковах, в которые долгое время был заключен Прометей. Было ли все это представлено в конечной части "Освобождаемого Прометея" или служило сюжетом специальной драмы "Прометей-Огненосец", - остается крайне спорным.
Темы обеих трагедий-"Прометей прикованный" и "Прометей освобождаемый" привлекли к себе особенное внимание и художников и писателей, которые уже в новое время неоднократно перерабатывали первую трагедию и на свой лад старались реконструировать вторую.[7]
Трилогия "Орестея" - самое зрелое произведение Эсхила - состоит из трех частей: "Агамемнон", "Хоэфоры" и "Эвмениды". В "Агамемноне" представлены возвращение из-под Трои и смерть Агамемнона, в "Хоэфорах" - мщение Ореста, в "Эвменидах" - суд над Орестом. Сюжет этот взят из старого мифа, служившего темой для одной из киклических поэм о возвращении героев. Частично он передается в разных местах "Одиссеи".[8] Его обрабатывали, кроме того, лирические поэты: известный нам только по имени Ксанф и Стесихор.
Последний в большом лирическом произведении, называвшемся "Орестея", уже пытался придать сюжету драматические черты. Один отрывок из этого стихотворения содержит мотив появления тени убитого Агамемнона во сне его супруге Клитеместре. По версии Стесихора, Орест прежде убивает Эгисфа; Клитеместра, схватив секиру, спешит на помощь своему любовнику, но в этот момент один из слуг удерживает ее. Затем, по этой версии, Аполлон спасает Ореста, дав ему лук и стрелы, чтобы защищаться от Эриний. Наконец, этого сюжета касался и Пиндар в 11-й Пифийской оде, написанной около 474 г, К началу V века относится также не мало изображений этих сюжетов в пластическом искусстве. Все это свидетельствует о большом интересе к подобным темам. Сам Эсхил разработал ранее одну часть этого мифа в не дошедшей до нас трагедии "Ифигения".
Содержание "Агамемнона" таково. Десятый год войны подходит к концу; согласно предсказаниям прорицателей, в городе Аргосе ожидают известия о взятии Трои. На кровле дворца Атридов дежурит сторож, поставленный царицей Клитеместрой, которая ожидает вести посредством сигнального огня о взятии Трои. Сторож говорит о своей тяжелой доле и намекает на непорядки в царском доме. По мифу известно, что во время долгого отсутствия царя Агамемнона Клитеместра вступила в связь с Эгисфом и задумала погубить мужа. Размышления сторожа прерываются появлением сигнального огня; значит, Троя взята, и сторож спешит сообщить радостную весть царице. Наступает утро. Появляется хор, состоящий из старейшин города. Старцы хора вспоминают о том, как Агамемнон отправлялся под Трою. Предзнаменования предвещали тогда успешное окончание войны, но предвещали также и многие бедствия. Самое ужасное произошло, когда греческое войско собралось в гавани Авлиде: богиня Артемида не давала попутного ветра. Царь Агамемнон дерзнул при этом на ужасное дело - собственноручно заклал ей в жертву собственную дочь. Старцы молят о прекращении бедствий.
Клитеместра объявляет старцам о полученном известии и рассказывает, как оно было передано. Но это не рассеивает недобрых предчувствий: столько воинов погибло, всюду раздаются проклятия виновникам войны, а боги внемлют гласу проклятий и посылают свои кары. В следующей сцене появляется глашатай, присланный Агамемноном, с известием о победе и возвращении его на родину. Но и это известие не радует старцев, которые слышат о многих бедствиях, испытанных войском; хор проклинает Елену как виновницу всех несчастий. Но вот появляется сам Агамемнон. Он въезжает на колеснице с пленною Кассандрой, дочерью царя Приама. Клитеместра встречает его льстивой речью и велит рабыням разостлать пурпуровый ковер для торжественного входа во дворец. Агамемнон сначала отказывается идти по нему, боясь возбудить зависть богов, но потом уступает настояниям Клитеместры и идет, сняв предварительно сандалии.
Мрачное раздумье хора, несмотря на прибытие царя, еще более усиливается. Старцы знают, что пролитая кровь не останется без отмщения, Клитеместра зовет Кассандру в дом, как рабыню, для участия в домашнем жертвоприношении. Кассандра сидит, не обращая внимания на все окружающее. Но вдруг она спрашивает, обращаясь к статуе Аполлона, куда он ее привел. Она охвачена страшными видениями. Ей представляются ужасные злодеяния, совершившиеся в этом дворце. Постепенно от событий прошлого она переходит к настоящему. Двуногая львица, вступившая в связь с трусливым волком, готовит смерть благородному льву. Кассандра пророчески видит смерть Агамемнона и вместе с тем знает, что смерть ожидает и ее самоё. Когда она, наконец, входит во дворец, хор предается горестному раздумью. В это время из дворца слышатся вопли царя. Пока хор принимает решение пойти во дворец, внутренность его раскрывается, и зрители видят тела убитых Агамемнона и Кассандры, а над ними с секирой а руках - всю забрызганную кровью Клитеместру. Клитеместра с торжеством заявляет, что исполнила дело, которое давно замыслила. В это время приходит любовник Клитеместры Эгисф, окруженный толпой телохранителей. Хор выражает надежду, что жив Орест, который придет отмстить за отца. Эгисф велит своим телохранителям усмирить негодующих. Но Клитеместра останавливает кровопролитие, и на этом трагедия заканчивается.
Вторая трагедия этой трилогии "Хоэфоры" (дословно: "Женщины, несущие надгробные возлияния") носит название по хору женщин, которым Клитеместра поручила совершить надгробный обряд на могиле Агамемнона. Действие ее происходит через несколько лет. Сын Агамемнона Орест был отправлен старшей сестрой своей Электрой в Фокиду к дружественному царю Строфию и воспитывался там вместе с сыном последнего, Пиладом, который сделался его неразлучным другом. Достигнув зрелого возраста, он сознает лежащий на нем долг мести за отца, но его ужасает мысль, что ради этого он должен убить собственную мать. Чтобы разрешить свои сомнения, он обращается к оракулу Аполлона. Тот угрожает ему жестокими карами, если он не исполнит своего долга. Действие трагедии начинается с того, что на могилу Агамемнона приходит Орест с Пиладом и совершает поминальный обряд, умоляя тень своего отца о помощи. После этого туда же приходит сестра его Электра в сопровождении женщин - троянских пленниц, составляющих хор в трагедии. Из песни хора зрители узнают, что Клитеместра видела ночью недобрый сон и боится, что ей грозит какая-то беда от тени убитого мужа. Для умилостивления его она посылает свою дочь Электру на могилу мужа вместе с женщинами хора, но Электра молит тень отца поскорее прислать в качестве мстителя Ореста. В это время она видит на могиле следы жертвоприношения и догадывается о прибытии брата. Орест, узнав сестру, открывается ей, и они совместно составляют план мщения. После этого Орест идет к матери и, не узнанный ею, рассказывает, будто Орест погиб. Та велит старой няньке Ореста позвать Эгисфа, чтобы сообщить ему радостную весть. Нянька полна искреннего горя, когда узнает о смерти своего питомца, но хор утешает ее и просит поскорее привести Эгисфа. Когда Эгисф приходит второпях без телохранителей, Орест и Пилад его убивают. Один из рабов, видевший смерть Эгисфа, спешит сообщить об этом царице. Клитеместра понимает обман и, упав к ногам сына, умоляет его о пощаде. Орест колеблется; но когда Пилар напоминает ему о повелении Аполлона, он убивает мать. Едва совершилось убийство, как Орест видит ужасные образы преследующих его богинь мщения Эриний. Он бежит искать спасения у Аполлона.
Все действие этой трагедии от начала до конца отличается замечательной целостностью, единством сюжета и целеустремленностью.
Продолжением этой трагедии являются "Эвмениды". Орест, преследуемый Эриниями, ищет защиты в храме Аполлона, так как убийство Клитеместры совершено по его повелению. Следом за Орестом туда являются и Эринии, составляющие в этой трагедии хор. Пифия, видя окровавленного убийцу и ужасные образы Эриний, выбегает из храма. Аполлон велит Оресту идти в Афины и там искать оправдания перед богиней Афиной. Пользуясь тем, что преследовательницы заснули в храме, Орест бежит в Афины, провожаемый Гермесом. Тень убитой Клитеместры будит Эриний и побуждает их к преследованию, а Аполлон гонит их из храма. Место действия переносится к храму Афины, на Акрополь. Орест обнимает кумир богини и молит о помощи. Эринии окружают его и, взывая о мщении, поют страшный "связывающий гимн". Наконец, богиня Афина является на призыв Ореста, созывает лучших граждан, образует из них судилище под именем Ареопага и открывает судебное заседание. Эринии выступают как обвинительницы и требуют наказания за невиданное доселе преступление - убийство матери. Орест, как подсудимый, признает совершенное преступление, но слагает вину на Аполлона, так как это он велел совершить убийство. Аполлон подтверждает это и доказывает справедливость такого дела, так как отец, за которого мстил Орест, имеет большее значение в семье, чем мать, а тем более отец, который был великим вождем. Афина, выслушав объяснения сторон, призывает судей подать голоса и при этом сама присоединяет свой голос за оправдание Ореста. Оправданный Орест дает обещание от имени своей страны - Аргоса никогда не поднимать оружия против Афин, ·- мотив, явно намекающий на политические отношения того времени, когда написана трагедия, - предупреждение Аргосу о соблюдении нравственной обязанности по отношению к Афинам. Эринии негодуют на умаление их прав этим приговором. Но Афина успокаивает Эриний, обещая, что святость прав будет еще более уважаться и в их честь будет воздвигнуто святилище, в котором они будут почитаться под именем богинь "милостивых" - Эвменид; отсюда и название трагедии.
Смысл всего сказания об оправдании Ореста, убийцы своей матери, прекрасно выяснен Энгельсом. Это-драматическое изображение борьбы между гибнущим материнским правом и возникающим в героическую эпоху и одерживающим победу отцовским правом. "Весь предмет спора, - говорит Энгельс, - сжато формулируется в прениях, происходящих между Орестом и Эриниями. Орест ссылается на то, что Клитеместра совершила двойное, злодеяние, убив своего супруга и вместе с тем его отца. Почему же Эринии преследуют его, а не ее, гораздо более виновную? Ответ поразителен: "С мужем, ею убитым, она в кровном родстве не была".[9]
Итак, Эсхил обработал в этой трагедии старинный миф, отразивший борьбу отживающего матриархата с торжествующим патриархатом. Физиологическое представление об отце как о главном зиждущем начале семьи было широко распространено у греческих мыслителей.[10]
Кроме рассмотренных трагедий, сохранилось около 500 отрывков из разных произведений Эсхила. Однако эти отрывки в большинстве случаев так незначительны, что по ним трудно судить о произведениях, и которым они принадлежат.
На основании отрывков Германн, а затем Виламовиц-Меллендорф пытаются например, представить содержание тетралогии об Ахиллесе, сюжет которой был взят из песен XVIII-XXIV "Илиады". Первой частью тетралогии была трагедия "Мирмидоняне". Воины прибегают к Ахиллесу и требуют, чтобы он отпустил их пойти на помощь ахейцам, теснимым троянцами. По видимому, тут являлось к нему и посольство от ахейцев с участием Патрокла. Патрокл отправлялся в бой. Затем следовали известия о его победах, а потом прибегал Антилох и сообщал о смерти Патрокла. Благодаря вмешательству Ахиллеса тело Патрокла было вынесено с поля битвы и принесено в его палатку. Трагедия заканчивалась оплакиванием Патрокла. Затем следовала трагедия "Нереиды", где рассказывалось, как Фетида принесла доспехи Ахиллесу и как он одержал победу над Гектором. Продолжением "Нереид" была трагедия "Фригийцы", или "Выкуп тела", где также воспроизводилась соответствующая сцена из "Илиады". Она начиналась разговором Гермеса с Ахиллесом, после чего являлся хор фригийцев, т. е. троянцев, которые сопровождали колесницу Приама и везли выкуп за тело Гектора.
К известным ранее недавно присоединилось еще некоторое число отрывков, открытых на папирусах. Наиболее крупный ив них относится к трагедии "Ниоба". Тут действие начиналось после катастрофы. Ниоба сидит безмолвная в своем горе, и богиня Лето объясняет положение дела. Мораль пьесы высказывается самой Ниобой в другом отрывке: "пойми, что не следует слишком чтить человеческие дела" (фр. 159). В этой трагедии особенно проявлялась, как указывал еще Аристофан (Лягушки, ст. 911), манера Эсхила выводить действующих лиц, которые долгое время ничего не говорят. Но несмотря на это, "Ниоба" Эсхила заслужила одобрение Аристотеля (Поэтика, гл. 18).
[1] Свод их см. Diehl, т. 1, стр. 56. Лиц. 1925.
[2] См. Nauck, TGF, стр. 4 фр. 5.
[3] Цитируется везде по переводу В. Аппельрота (М. 1888).
[4] Vita 18; схолии к „Лягушкам“ Аристофана, 1028.
[5] В „Одиссее“ она называется Эпикастой.
[6] Псевдо–Аполдодор, Библиотека К, 85 (5, 4, 5)
[7] Об этом см. в § 10 данной главы.
[8] I, 29—43, 298—300; III, 194—198, 234—235, 256—275, 303—312; IV, 524—537, XI, 385—461; XXIV, 19—97, 199—202.
[9] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 119; Эсхил, Эвмениды стр. 605.
[10] Эврипид, Орест, ст. 552—554; Аристотель, О родах животных IV, 1; Диодор Сицилийский I, 80, 40.
4. ОБЩИЙ ХАРАКТЕР ТВОРЧЕСТВА ЭСХИЛА И ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ЕГО ТРАГЕДИЙ
Трагедия в том виде, как она сложилась до Эсхила, едва выйдя из своей лирической основы, содержала еще очень мало драматических элементов. Она не могла еще воспроизвести настоящий драматический конфликт, так как все роли исполнялись одним актером. Только с введением второго актера явилась возможность драматизировать действие. Эта важная перемена была произведена Эсхилом и явилась настоящим переворотом в истории драмы. Поэтому сами древние склонны были считать Эсхила "отцом трагедии"[1]. Так характеризует его и Энгельс в письме к Минне Каутской[2] от 26 ноября 1885 г.
Главные нововведения, сделанные Эсхилом, Аристотель (Поэтика, гл. 4) характеризует следующим образом: "Эсхил первый увеличил число актеров от одного до двух, уменьшил хоровые партии и подготовил первенствующую роль диалогу".[3]
В своем творчестве Эсхил, несомненно, многое позаимствовал у своих современников. Так, мы знаем определенно, что сюжет для тетралогии о Данаидах, в которую входят "Просительницы", был заимствован у Фриниха. Его же трагедия "Финикиянки" послужила образцом для "Персов". О влиянии Софокла мы можем судить отчасти и сами. Софокл, как известно, впервые ввел третьего актера и увеличил состав хора с 12 до 15 человек. Ему же принадлежит, по видимому, введение декораций и других театральных усовершенствований, которыми под конец жизни стал пользоваться Эсхил. Наконец, его же влиянию можно приписать и чисто литературные усовершенствования - более сложную структуру трагедий и оживление действия, например, в "Орестее", а вместе с этим и большую жизненность в изображении действующих лиц.
Трагедия образовалась из песен хора, и в трагедиях Эсхила эти песни еще занимают очень значительное и существенное место. В "Просительницах" хор Данаид - главное действующее лицо. Хотя это коллективное лицо имеет по преимуществу пассивный характер, но судьба его стоит в центре всего действия. Данаиды воссылают мольбы к богам, трепещут за свою судьбу, и это составляет фон всей трагедии. Фигура Даная, который руководит действиями своих дочерей и представляет их интересы, еще слабо обособляется от хора. В "Хоэфорах" хор постоянно побуждает Ореста к действию. В "Эвменидах" хор Эриний представляет одну из борющихся сил. В то время как Орест остается в тени, являясь только орудием в руках богов, все драматическое действие ведется хором Эриний: они ищут, преследуют Ореста и вступают из-за него в столкновение сначала с Аполлоном, потом с Афиной. Высшего напряжения достигает трагическое действие в сцене, когда Эринии обступают со всех сторон трепещущего Ореста и, вопя о мщении, поют свой "связывающий гимн", нечто вроде магического заклинания. Когда же Орест уходит оправданным, Эринии продолжают спор за поддержание своей чести и, наконец, в заключение, они, возвеличенные и прославленные, удаляются к месту своего нового культа в сопровождении торжественного шествия граждан.
В "Агамемноне" хору принадлежит совершенно исключительная роль. Хотя он не является в прямом смысле действующем лицом и только в конце трагедии пытается действовать, но его песни создают основу, на которой развивается все действие трагедии. Психология массы, ее смутные, инстинктивные чувства, наивная вера, колебания, разногласия между отдельными лицами, например, в вопросе - не пойти ли скорее во дворец на помощь царю (ст. 1346-1371), - все это воспроизведено в выступлениях хора с такой живостью, какую трудно найти в литературе вплоть до Шекспира.
Если Данаиды, Океаниды и Эринии являются необычными существами и потому отличаются от уровня обыкновенных людей, то хор старцев, выведенный в "Агамемноне" и в "Персах", уже наделен чисто человеческими чертами: это - люди, умудренные житейским опытом, люди среднего уровня, представляющие поучительный контраст с главными героями драматического действия, увлекаемыми личными страстями. Эти старцы выражают идею государственности, общественное мнение страны.
В "Семерых" хор под конец разделяется на две части: одна идет оплакивать Этеокла, другая - Полиника. Иногда появляется и дополнительный хор, как, например, в "Просительницах", где с хором Данаид перекликается хор их прислужниц; в "Эвменидах" ту же роль выполняет хор, который провожает Эриний к их новому местопребыванию.
Спорным остается вопрос о составе хора. Древний лексикограф Полидевк (IV, 110) говорит, что до "Эвменид" хор состоял ка 50 человек Это противоречит нашему обычному представлению, что у Эсхила хор уже с самого начала состоял из 12 человек. Соответственно с этим некоторые допускают даже, что для восполнения традиционного числа Данаид в "Просительницах" к 12 хоревтам присоединилось 38 статистов или что самое число 12 имело чисто условное значение. Точна так же остается невыясненным, применял ли Эсхил в своих последних трагедиях нововведение Софокла - хор из 15 человек.
Введение Эсхилом второго актера, как мы уже сказали, серьезно изменило характер греческой драмы; оно дало возможность изображать драматические конфликты. Но на первых порах поэт еще слабо применяет это усовершенствование. В "Просительницах", самой ранней из дошедших до нас трагедий, участие двух актеров уже необходимо. Однако поэт еще мало пользуется вторым актером. Еще более изменилось положение, когда Эсхил воспользовался нововведением Софокла - привлечением третьего актера. Явилась возможность введения эпизодических ролей вроде сторожа в "Агамемноне", привратника и няньки в "Хоэфорах" и т. д. Все это вносило больше естественности в ход действия. Правда, и тут применение этого новшества весьма ограничено. Вместе с тем, центр тяжести в драматическом произведении постепенно перемещался от хора к актерам, к действующим лицам.
Как ни мало произведений сохранилось от Эсхила, но и дошедшие семь трагедий дают материал для интересных наблюдений. Эти семь трагедий представляют две различные группы: первые четыре можно считать ранними, а три трагедии "Орестеи" - поздними. Ранние требуют участия только двух актеров. В поздних же трагедиях, где требуются три актера, мы можем заметить существенное изменение и в структуре трагедий, в развитии действия и в характеристике действующих лиц, и в этом, может быть, следует видеть результат влияния Софокла. Кроме того, первые две трагедии, "Просительницы" и "Персы", не имеют пролога и начинаются песнью хора.
Структура ранних трагедий примитивна. Действие развивается мало и только внешним образом, лишь к самому концу трагедии. Первая половина пьесы обычно лишена движения, дает характеристику создавшегося положения и служит только подготовкой для действия, которое разыгрывается затем с крайней быстротой во второй части или даже в конце. Трагедия представляет ряд сцен, иногда как будто не связанных между собой внутренней последовательностью, и число их бывает самое различное, так же как и объем. Действующие липа появляются попеременно, одно за другим, и образуют отдельные сцены. Даже в "Прометее" появление Океанид, Океана, Ио не подвигает действия вперед, и только угрозы Гермеса подготовляют развязку. Хотя эти сцены представляют как будто отступление от темы, они имеют глубокий смысл, раскрывая всесторонне характер главного действующего лица. Зато трагедия "Агамемнон" представляет образец постепенно нарастающего драматизма. Уже в прологе сторож намечает возможность трагической развязки, говоря о том, что в доме не все благополучно, а затем в хитрых, двусмысленных речах Клитеместры, в полных обратного смысла речах глашатая и самого Агамемнона и, наконец, в потрясающих видениях и пророчествах Кассандры постепенно подготовляется катастрофа.
В каждой трагедии Эсхила значительная часть ее занята рассказами "вестников". Монолог явно преобладает над диалогом. В "Персах" центральную часть составляет рассказ вестника, и этот рассказ сам представляет художественное целое, как бы самостоятельную трагедию, составленную из трех частей; к основному рассказу присоединяется еще описание полного уничтожения персов на близлежащем островке и, наконец, описание бедствий сухопутного войска. В "Семерых" есть три таких рассказа: предварительный доклад лазутчика, затем его подробное донесение о наступлении врагов (эта речь разделяется на семь частей, которые перемежаются ответными речами Этеокла) и, наконец, рассказ вестника, перебиваемый посредине вопросами хора. Повествование преобладает и в "Прикованном Прометее". Действие представляется, таким образом, преимущественно как происходящее за сценой. Но все-таки поэт старается драматизировать такой рассказ. Для этой цели он разбивает его на части, вставляя реплики собеседников, например в "Персах" и в "Семерых". Особенно замечателен прием, к которому прибегает Эсхил в "Агамемноне". Это - безумные видения Кассандры. Она наперед раскрывает перед зрителями то, что вскоре совершится за сценой во дворце, а потом подтверждается в торжествующей похвальбе Клитеместры.
Некоторая примитивность драматической техники Эсхила обращала на себя внимание уже последующих поэтов. Так, Эврипид, изображая на новый лад, применительно к требованиям своего времени, сцену узнавания Ореста и Электры, подчеркивает неубедительность тех признаков, по которым у Эсхила Электра догадывается о приходе брата - прядь волос, следы ног возле могилы отца и, наконец, тайное сердечное чувство (ст. 164-211).
Другую особенность драматургии Эсхила отмечает Аристофан, влагая критическое замечание в уста Эврипида:
... Сперва, лицо закутав покрывалом,
Сажает в одиночку он Ахилла иль Ниобу -·
Трагические чучела: они молчат, не пикнут.[4]
Эта мысль повторяется и в "Жизнеописании" Эсхила (6), где мы читаем: "Например, в "Ниобе" до третьей части пьесы она [Ниоба] сидит, закрывшись, на могиле своих детей и ничего не говорит; а в "Выкупе тела Гектора" Ахиллес, точно так же закутанный, ничего не говорит, кроме нескольких слов вначале в ответ Гермесу".[5] Это сообщение вполне подтвердилось недавно найденным отрывком из "Ниобы". Примером такого же приема может служить и начальная сцена из "Прикованного Прометея", в которой этот титан, несмотря на все свои муки во время казни, не произносит ни одного слова.
Эсхил писал обыкновенно не одиночные трагедии, а соединял их в группы по четыре, так что они составляли последовательное целое. Это так называемая связная тетралогия. Отдельные части ее представляют собою как бы акты одной большой драмы. Ясное представление об этом дает сохранившаяся до нас трилогия "Орестея", к которой еще присоединялась не сохранившаяся сатировская драма "Протей". Такова же была его фиванская тетралогия, состоявшая из трагедий "Лай", "Эдип" и "Семеро против Фив" и сатировской драмы "Сфинкс". Такова же тетралогия о Прометее. В некоторых случаях тетралогии изображали судьбу каких-нибудь знаменитых родов, как Пелопидов ("Орестея") или Лабдакидов ("Лай", "Эдип" и др.). В эпоху кризиса аристократии сложилось немало сказаний о роке, тяготеющем над целым родом, и такие циклы мифов давали возможность последовательно изобразить их трагическую историю. Действие, слабо выраженное в отдельных трагедиях, развивалось тут в широком масштабе. Действие "Прикованного Прометея" обрывается, заставляя ожидать разрешения конфликта между Зевсом и Прометеем в дальнейших частях. Такая связь определенно намечается между отдельными частями "Орестеи". В "Агамемноне" Кассандра предсказывает мщение Ореста - и хор в конце угрожает его местью убийцам. "Хоэфоры" заканчиваются бегством Ореста, который надеётся найти защиту у Аполлона, - и этим подготовляется сюжет "Эвменид". В "Агамемноне" описание бури, во время которой исчез из виду корабль Менелая (ст. 624-633, 674-679), намечает связь с конечной пьесой, с сатировской драмой "Протей", где раскрывалась судьба Менелая. Ясно, что для полного понимания каждой отдельной трагедии, входящей в состав тетралогии, необходимо знать всю тетралогию. Поэтому мы оказываемся в чрезвычайно затруднительном положении, когда из крупного целого имеем лишь одну часть. Это приводит современных ученых к самым противоположным толкованиям смысла некоторых трагедий, например "Прометея". Возвеличение богоборца Прометея и изображение Зевса как тиранна повергало в недоумение многих исследователей.
Однако уже у Эсхила некоторые тетралогии не были связанными и состояли из совершенно самостоятельных произведений, например в тетралогии, в которую входили "Персы". Все попытки установить какую-то внутреннюю связь между этой трагедией и другими частями тетралогии оказались безрезультатными. Со времени Софокла такое свободное комбинирование отдельных пьес стало уже обычным, и каждое произведение поэты стали обрабатывать как вполне законченное и самостоятельное целое.
Деятельность Эсхила падает на такое время, когда только устанавливался порядок театральных постановок. Таким образом, ему приходилось самому во всем пробивать дорогу и изобретать театральные приемы. Естественно, что он был и режиссером и главным исполнителем. Он должен был изобретать и формы мимических плясок для своего хора. По крайней мере, Аристофан в одной из не. дошедших до нас комедий влагал в его уста следующее заявление: "Я сам сочинял фигуры для хоров". Это утверждали и александрийские ученые, в том числе Хамелеонт (Афиней I, р. 21 а).
Введение второго, а затем и третьего актера поставило серьезный вопрос о привлечении специальных исполнителей. Первым актером Эсхила был Клеандр (Жизнеописание, 15). Аристотель называет в качестве обычного исполнителя в его пьесах актера Минниска, который отличался холодностью и величавостью жестикуляции и возмущался свободой и легкостью игры Каллиппида, - актера, игравшего пьесы Софокла.[6]
Вся постановочная часть у Эсхила отличалась простотой, и поэт имел возможность с большой свободой, как в эпосе, вести свою драму, не стесняясь местом действия. В "Просительницах" действие не требует никакой декорации. Оно ведется около алтаря, посреди орхестры, и только в конце трагедии упоминается какое-то возвышение, с которого Данай видит приближение неприятельских кораблей. В "Персах" действие уже происходит, по видимому, перед зданием Совета (ст. 140), хотя прямых указаний на это нет, но частично переносится к могиле Дария. Подобным же образом в "Хоэфорах" оно начинается у могилы Агамемнона, а потом продолжается перед дворцом. В "Прометее" изображается скала, к которой его приковывают и которая под конец проваливается вместе с ним и с хором Океанид. В "Агамемноне" уже вполне определенно требуется декорация дворца: на крыше его дежурит сторож, из дворца выходит Клитеместра, туда входят Агамемнон и Кассандра. Особым приемом, - вероятно, с помощью эккиклемы, - показывалась внутренность дворца, где совершилось убийство Агамемнона. В "Эвменидах" место действия изменяется: оно начинается в Дельфах перед храмом Аполлона, затем видна внутренность этого храма с сидящим у статуи Орестом и спящими Эриниями; наконец, оно переносится в Афины - к храму Афины-Паллады на Акрополе.
Древние отмечали (Жизнеописание, 7 и 14), что трагедии Эсхила содержали много чудесного и способны были поражать воображение зрителей. Величие сюжетов дополнялось величавостью образов и внешней пышностью обстановки и костюмов. Несомненно, большой эффект производили пышные и торжественные процессии, как появление пятидесяти Данаид с таким же количеством прислужниц, одетых в варварские экзотические костюмы, а затея появление на колеснице царя Пеласга со свитой, далее - приход египетского герольда, борьба Пеласга с насильниками. В "Персах" подобный эффект производил первый выход царицы Атоссы, приезжающей на колеснице, в "Эвменидах" - созыв членов Ареопага и торжественные проводы Эриний в конце трагедии.
[1] Филострат, Жизнеописание Аполлония VI, 11, р. 220, 8к.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XXVII, стр. 503—506.
[3] Перевод Н. И. Новосадского.
[4] „Лягушки“, ст. 911—913, ср. схолии к этому месту.
[5] Ср. схолии к „Прометею“, ст. 430.
[6] Аристотель, Поэтика, 26, р. 1461b; ср. Плутарх, О славе афинян, 5
5. ОБРАЗЫ ТРАГЕДИЙ ЭСХИЛА
Одновременно с развитием драматической техники возрастала и пластичность в изображении действующих лиц. Политический и экономический рост Афин, обострение классовой борьбы в эпоху Эсхила, рост демократического движения - все это повышало интерес к отдельному человеку, выдвигало фигуры сильных личностей. Такое усиление индивидуалистических стремлений не могло не отразиться на драматическом творчестве, в которой роль трагического героя неизбежно должна была выступить на первый план.
Увеличение числа актеров давало возможность углублять характеры героев, и мы можем наблюдать в творчестве Эсхила переход от простых, элементарных и обобщенных образов к более сложным и индивидуальным. Данай и Пеласг в "Просительницах", Атосса и Ксеркс в "Персах", еще более тень Дария в той же трагедии - это совершенно отвлеченные образы, носители общего представления о царской власти: Пеласг и Дарий - идеальные типы царей, Ксеркс - безумный тиранн. Другой этап представляют трагедии "Семеро против Фив", "Прометей" и трилогия "Орестея". Особенность этих трагедий - в том, что все внимание поэта сосредоточено исключительно на главных образах, тогда как второстепенные играют лишь служебную роль и введены только для того, чтобы ярче показать и оттенить основные роли. Даже Электра в "Хоэфорах", исполнив все, что ее непосредственно касается, в первой части трагедии, во второй уже более не появляется, хотя ее присутствие было бы вполне естественным. Точно так же роль Пилада низведена до самого малого значения.
Отличительная черта образов Эсхила - это их простота, а вместе с тем цельность, монолитность, отсутствие в них всяких колебаний и противоречий, что придает им характер величавости. Герой появляется с готовым решением и до конца остается верен ему. Никакие посторонние влияния не способны отклонить его от однажды принятого решения, хотя бы ему пришлось из-за этого погибнуть. При таких условиях в характере не видно развития. Аристофан говорит, что это - "люди четырех локтей ростом" ("Лягушки", ст. 1013, ср. "Осы", ст. 553).
Все это хорошо видно на примере Этеокла ("Семеро"). Поэт совершенно исключает вопрос о том, что он, по некоторым версиям мифа, был зачинщиком ссоры и изгнал Полиника из города. В трагедии он выступает просто как защитник города. Взяв власть в свои руки, он твердо осуществляет ее и принимает решительные меры для защиты отечества. В его голове сосредоточены все нити военных планов, он все предусмотрел: это - идеальный военачальник. Но вот Этеокл слышит, что против седьмых ворот идет его брат: он видит в нем смертельного врага и, не колеблясь, идет, чтобы пасть в единоборстве (ст. 281, 719). Мы видим, что он мог свободно выбирать образ действий; он идет в битву по собственной воле, во имя своей личной цели. Это уже ярко выраженная, индивидуальная личность. Вместе с тем в него вложена большая сила патриотического пафоса: он умирает сам, но спасает свое отечество (ст. 10-20, 1009-1011).
Еще большей силы достигает образ Прометея. Это уже не тот плутоватый хитрец и ловкий обманщик, каким он был изображен в поэмах Гесиода. Здесь он - носитель великой культурной силы, "провидец", в соответствии с самым значением своего имени. Он - титан, создатель рода человеческого, вылепивший из земли фигуры людей и вдохнувший в них жизнь; он похитил для них небесный огонь и этим спас их от гибели, хотя знал, что за это понесет кару; он научил их гражданскому общежитию; он изобретатель наук и письма; он смелый борец за правду; он отвергает всякие компромиссы, протестует против всякого насилия и деспотизма; он революционер, богоборец, ненавидящий всех богов, новатор, ищущий новых путей, - более того: он не боится даже самой жестокой пытки во имя своей великой идеи - он сознательно пошел на свое дело.
Глубокая симпатия, с которой обрисован этот могучий образ, показывает, что поэт находил в нем внутреннее сродство с самим собой, Глубокую трагичность придает Прометею сознание, что все-таки, несмотря на свою силу и твердость, несмотря на свое искусство, он должен покоряться высшей необходимости (ст. 514).
Прометей был излюбленным образом Маркса, и он в предисловии к своей докторской диссертации считает уместным повторить в назидание своему времени замечательные слова Прометея в ответ Гермесу:
Знай хорошо, что я б не променял
Своих скорбен на рабское служенье:
Мне лучше быть прикованным к скале,
Чем верным быть прислужником Зевеса.
И Маркс заключает свое рассуждение: "Прометей - самый благородный святой и мученик в философской календаре".[1] Белинский дал истолкование этому образу в духе гегелевской философии: "Прометей и Зевс, - говорит он - это божество, разделившееся на самого себя, это сознание, распавшееся на две стороны, которые по закону диалектического развития враждебно стали одна к другой. Зевс - это непосредственная полнота сознания. Прометей - это сила рассуждающая, дух, не признающий никаких авторитетов, кроме разума и справедливости".[2] Конечно, в настоящее время нет необходимости пояснять, что это толкование является модернизацией античного образа. Но сейчас для нас важно отметить, как высоко ценил Белинский этот образ. Высокое значение ему придавал и А. М. Горький.[3] Образ Прометея принадлежит к числу мировых и вечных, излюбленных образов человечества.
В "Агамемноне" главным действующим лицом является не Агамемнон, который показывается только в одной сцене, хотя вокруг его имени сосредоточивается все действие, а Клитеместра. Образ Агамемнона дает только фон, на котором ярко выделяются и преступление и весь образ его убийцы - Клитеместры. Это - Царь, "великий лев", утомленный невзгодами длительной войны, но сильный, чтимый своими подданными, хотя в прошлом он подавал много причин для недовольства, особенно тем, что затеял войну из-за преступной Елены. Он благочестив и даже суеверен. Но он научен горьким опытом, знает о многом, что происходило на родине во время его отсутствия, и для многих должен наступить час расплаты (ст. 844-850). Его образ становится тем более великим, что ему противополагается Эгисф -трус, не имевший смелости совершить злодеяние собственной рукой, а предоставивший это дело женщине. Эгисф способен только хвалиться - "как пред курицей петух", так характеризует его хор (ст. 1671). Хор даже называет его в глаза женщиной (ст. 1625).
Чтобы понять образ Клитеместры в этой трагедии, надо помнить, что в эпосе убийство Агамемнона описывалось совершенно иначе, В "Одиссее" (I, 35-43; IV, 524-535; XI, 409), где передается версия, обстоятельно излагавшаяся в не дошедшей до нас поэме о возвращении Агамемнона, главным виновником называется Эгисф, который заманил Агамемнона к себе и убил его во время пира, а Клитеместра играет роль только его сообщницы. Впервые у Пиндара она называется единственной виновницей преступления, и при этом поэт задумывается над тем, что было причиной убийства - месть за Ифигению или любовь к Эгисфу.[4] У Эсхила Эгисф появляется лишь после совершения убийства, и все дело приписывается одной Клитеместре. Тем самым ее образ приобретает еще более могучую силу. "Это - женщина с умом, твердым, как у мужа", - так характеризуют ее в прологе сторож и, позднее, старцы хора (ст. 11 и 351). Все это оттеняется еще общепринятым тогда взглядом, что женщина не может иметь самостоятельного значения в обществе. С твердостью, не испытывая ни малейшего колебания, выступает она перед людьми, которым известна ее измена мужу. Но вот она добилась своего. Зловеще звучит в ее устах двусмысленная молитва к Зевсу (Агамемнон, ст. 973 сл.):
О Зевс верховный, Зевс вершитель, сам сверши,
О чем молю. Воспомни, что судил свершить.
Когда затем она выходит, чтобы позвать во дворец Кассандру, ее речь дышит настоящей злобой и угрозой. И вот, наконец, убийство совершилось. Она появляется перед зрителями с секирой в руках, обрызганная кровью, с кровавым пятном на лице и стоит над телами Агамемнона и Кассандры. Теперь притворство не нужно, и она с самой грубой прямотой заявляет, что исполнила дело, которое замыслила давно. Правда, Клитеместра пытается смягчить ужас своего злодеяния тем, что она будто мстила за дочь свою Ифигению и за измену мужа с Хрисеидой и Кассандрой. Но ясно, что дело не в этом. Старцы хора потрясены всем виденным. Поступок Клитеместры им представляется совершенно нечеловеческим: в этот момент в ней видно что-то демоническое (ст. 1463 сл.). Впрочем под конец Клитеместрой в "Агамемноне" овладевает как бы какое-то смущение от совершенного злодеяния, она старается несколько смягчить ужас своего преступления и заявляет, что готова отказаться от дальнейших убийств (ст. 1568-1576). Позднее, .когда Эгисф со своими телохранителями хочет напасть на непокорных старцев хора, она своим вмешательством останавливает кровопролитие и уводит Эгисфа во дворец. Из этой последней сцены уже видно, что властвовать будет она, а не он.
В трагедии "Агамемнон" есть еще замечательный образ пророчицы Кассандры. Она, вдохновляемая наитием божества, представляется людям безумной. По воле богов она влачит несчастную жизнь отверженной нищенки. Бог Аполлон, влюбленный в нее, наделил ее даром пророчества, но так как она не удовлетворила его страсти, он наказал ее тем, что никто не верит ее предсказаниям. И вот, наконец, она попадает пленницей в дом Агамемнона, чтобы тут найти ужасную смерть. Особый трагизм получает эта фигура потому, что Кассандра знает ожидающую ее участь и возбуждает тем глубокое сострадание хора. Несколько схожа с ней Ио в "Прометее", несчастная жертва любви Зевса и гнева преследующей ее Геры. Приступы безумия Ио подготовляют уже некоторые черты для изображения пророческого экстаза Кассандры.
В двух других трагедиях "Орестеи" образы действующих лиц не возбуждают такого глубокого интереса, как только что рассмотренные. Клитеместра в "Хоэфорах" уже не та могучая и гордая женщина, как в предыдущей трагедии: она вечно страдает от ожидания мести. Весть о смерти сына пробуждает в ней противоположные чувства - и жалость к нему и радость избавления от вечного страха; однако последняя одерживает верх. Но вдруг оказывается, что Эгисф убит, и перед ней стоит грозный мститель. В Клитеместре на минуту пробуждается ее прежний дух, и она кричит, чтобы скорее подали ей секиру (ст. 889). Орест в "Хоэфорах" и "Эвменидах" выступает как орудие божества и потому несколько теряет индивидуальные черты. Однако, когда Орест видит перед собой стоящую на коленях мать, которая раскрывает перед ним вскормившую его грудь, он содрогается и колеблется в своем решении. Это одна из замечательнейших сцен в мировой литературе. "Пилад, что делать? пощадить ли мать?" - обращается он к своему верному другу и спутнику (ст. 899). Эта нерешительность и колебание навели Гегеля на сравнение Ореста с Гамлетом.[5] Пилад напоминает Оресту о повелении Аполлона, и Орест выполняет волю божества. По религиозному обычаю он, как убийца, должен для очищения удалиться из страны. Но вот он велит показать ту одежду, которою Клитеместра опутала Агамемнона, когда убивала его, и на которой видны следы крови. Он чувствует, как ум у него начинает мутиться. Чувствуя голос потрясенной совести, он хочет найти оправдание своему поступку, но видит страшные образы Эриний, которые преследуют его. Начинается трагедия совести. В таком состоянии находим мы его и в следующей трагедии - в "Эзменидах".
Интересно отметить, что Софокл несколько иначе разработал в своей "Электре" аналогичный эпизод: встречу Клитеместры с Орестом он отнес за сцену, а на сцене вывел менее значительную встречу Эгисфа с Орестом. Сжатая, но выразительная трактовка Эсхила имеет явное преимущество перед трактовкой Софокла.
Из второстепенных действующих лиц только немногие наделены индивидуальными чертами. Очень интересно представлено нравственное ничтожество и трусость Океана в "Прометее". Океан, который некогда сам был соучастником Прометея, сумел во-время перейти на сторону победителя и теперь осторожно предлагает свое заступничество. Великолепна в своем простом и искреннем горе старая нянька Ореста, когда она узнает о смерти (мнимой) Ореста. В трактовку ее образа вкрадываются даже некоторые комические черты, когда она вспоминает младенчество своего питомца. Во всем отвратительном безобразии придворного холопа представлен Гермес; близок к нему и бог Власти в "Прометее".
[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 26.
[2] Белинский. Русская народная поэзия, статья II, т. II, стр. 333. СПб., 1896.
[3] А. М. Горький. О литературе, стр. 450. М., 1937; ср. его же „По поводу плана Хрестоматии“ (Правда от 18 июня 1939 г., № 167).
[4] Пиндар, Пифийские оды, XI, ст. 17—25.
[5] Aesthetik, т. III, стр. 542, 566 сл., Берлин, 1843, сл. Впрочем Гегель отмечает и серьезное различие между этими двумя образами.
6. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭСХИЛА
Всякое суждение о мировоззрении поэта на основании его поэтических произведений чрезвычайно затруднительно, а тем более на основании драматических сочинений, где мысль выражается не прямо, а в противоречивых образах и суждениях действующих лиц. Кроме того, поэт, перенося действие в героическое прошлое, естественно, стилизует его.
Взгляды ученых на этот вопрос весьма разнообразны. Некоторые склонны вовсе отрицать наличие у Эсхила каких-нибудь иных задач, кроме чисто художественных (Плюсс и Говальд). Другие считают его "призванным учителем народа" (Виламовиц-Меллендорф).[1] Некоторые соглашаются, что если Эсхил и не задавался целью морализировать, то объективно его трагедия имела все-таки моральный характер и оказывала такое действие (Рихтер). Один из недавних исследователей, Порциг относит Эсхила даже к разряду пророков, возвещавших новые учения в разных частях Передней Азии и средиземноморских стран. Некоторые же доходят до того, что открывают во взглядах древнего поэта воззрения новейших мыслителей - Гельдерлина, Ницше, Шеллинга или Гегеля.
Вся сила великого художника заключается в том, что он умеет с глубокой проникновенностью откликнуться в своих художественных образах на запросы времени, и если мы сейчас не можем разобрать всех руководящих мотивов, то из этого отнюдь не следует, что их вовсе не было. Но и те сведения, которые у нас имеются, все более приводят нас к убеждению, что даже мифологические сюжеты избираются поэтами и художниками предпочтительно такие, какие наиболее отвечают запросам текущего момента. Энгельс говорит, что Эсхил и Аристофан были "ярко выраженными тенденциозными поэтами".[2]
Остается серьезный вопрос о том, как можно среди множества противоречивых рассуждений в драме определить взгляды самого автора. Ясно, что эти взгляды должны обособляться от взглядов действующих лиц. Выделение некоторых мыслей из связи с происходящим действием и даже противоречие с ним, несоответствие характеру говорящего лица, - например, слишком высокая и тонкая мысль, не подходящая для данного лица, - наконец, многократное и настойчивое повторение одной мысли в разных местах, в нескольких произведениях, в различной связи - могут служить признаком того, что эти мысли принадлежат не действующему лицу, а самому автору. Сюда надо отнести, например, отдельные рассуждения о религии, далекие от традиционных представлений и похожие скорее на воззрения современных Эсхилу философов. Любопытно заявление хора в "Агамемноне": δίχα δ᾿ ἄλλων μονόφρων εἰμί[3] (ст. 757). В этом замечании Виламовиц-Меллендорф с полным основанием признавал мнение самого автора.
Эсхил принадлежал к знатному роду из Элевсина. Элевсин был центром землевладельческой аристократии, которая вела воинственную политику во время столкновения с персами. Эсхил со своими братьями принимал в этой войне самое активное участие и сражался в главных боях с персами. Естественно, что эти события наложили свой отпечаток на его мировоззрение и на его художественное творчество. Яснее всего это видно в трагедии "Персы".
Патриотическая идея выражена и в замечательной песне хора в трагедии "Семеро против Фив" (ст. 304-320), а царь Этеокл представлен в этой трагедии как образец патриотизма. Откликом живой афинской действительности является сцена назначения полководцев, но поэт допускает натяжку, представляя, будто лазутчик мог слышать все разговоры о полководцах, которые велись в неприятельском лагере. Эсхил представляет в идеализированном виде систему избрания стратегов в Афинах и в лице благочестивого Амфиарая дает тип идеального полководца (ст. 592-594, 600 сл., 619), каким ему представлялся Мильтиад или Аристид, представители землевладельческой аристократии. У Плутарха (Аристид, 3) есть рассказ, что во время представления этой трагедии, когда лазутчик произнес слова, характеризующие Амфиарая: "Не казаться благородным он хочет, а быте таковым на самом деле" (ст. 592), все присутствующие обратили взоры на сидевшего в театре Аристида, который был героем сражения при Платеях, пользовался общей симпатией и получил прозвище Справедливого. Этот анекдот, по видимому, отражает идеологическую связь, какую и в последующие времена усматривали у поэта с Аристидом.
Патриотические настроения поэта видны во многих рассуждениях в его трагедиях. Особенно богата ими трагедия "Семеро против Фив". Этеокл, представленный как образец патриотизма, называет отечество "матерью". Обращаясь к согражданам, он призывает их защищать город и алтари богов, детей, "землю-мать, любезнейшую кормилицу". "Ведь в то время, - говорит он, - когда вы ползали по ее благосклонной почве, она принимала на себя все бремя воспитания и вырастила из вас граждан-щитоносцев, чтобы вы сделались верными в исполнении своего долга" (ст. 16-20). Сама Правда посылает бойца на защиту родины-матери (ст. 415 сл.). Боец, который падет в борьбе за отечество, заплатит только долг за свое воспитание (ст. 477). Та же моральная мерка применяется и к действиям Полиника. Правда не может быть на его стороне потому, что он, как отступник, выступает против родной земли (ст. 664-671). Образ действий Полиника разоблачается, по рассказу лазутчика, речью его же соратника - благочестивого Амфиарая (ст. 580).
Счастью человека, имеющего возможность жить на родине, противопоставляется тоска того, кто на долгие годы оторван от родной земли. Образцом этого может служить сцела в "Агамемноне", когда появляется глашатай с известием о возвращении царя. Глашатай проливает слезы радости, приветствуя родную землю, родных богов, счастливый тем, что может умереть на родине (ст. 503-521, 541). Тем более велика тяжесть изгнания. Это познал на себе Эгисф. Он знает, что изгнанники живут лишь надеждами на возвращение (ст. 1668).
Рисуя образы правителей - мужественного и энергичного защитника родины Этеокла, великого, хотя и совершившего много ошибок Агамемнона и, наконец, несколько отвлеченный и нереальный образ Пеласга, - образы, которых он не видел в подлинной действительности, Эсхил влагает в них оригинальные идеи своего времени. Он показывает, что обязанности царя трудны, что они налагают на него большую ответственность перед народом. Так, Агамемнон признается, что "народная молва имеет великую силу" ("Агамемнон", ст. 938). Он сам хочет обсуждать дела государства совместно с народом - ἐν πανηγύρει (ст 844 сл.). Особенно любопытно эта идея выражена в лице царя Пеласга ("Просительницы"), который видит, что покровительство Данаидам может привести к войне с сыновьями Египта, и не берет на себя ответственности, а советует Данаидам обратиться непосредственно к народу (ст. 365-369). Это удивляет Данаид, которые видят в царе выражение всей силы народа: "Ты - это город, ты - народный совет (τό δάμιον), - поют они в своей песне, - ты - неограниченный правитель, владыка алтаря и очага страны; единоличными изъявлениями своей воли на единодержавном троне ты вершишь всякое дело. Берегись же нечестия!" (ст. 370-375). Потом, получив обещание покровительства, они говорят: "Пусть же народный совет, который правит этим городом, бестрепетно хранит свои почетные права, как власть, имеющая предусмотрительное попечение об общем благе!" (ст. 693-700). В "Агамемноне" старцы хора, слыша об убийстве царя, думают о необходимости созвать скорее народ (ст. 1348).
Рассматривая случаи соединения власти царя с властью народа, Бухгольц делал заключение, что идеалом Эсхила была умеренная монархия. Буржуазный ученый, таким образом, приписал Эсхилу идеал конституционной монархии, свойственный его собственному времени. Рисуя мир героического прошлого, Бухгольц окрашивал его чертами своего времени и эсхиловскому царю приписал буржуазно-либеральные свойства. Вспомним тут слова Маркса: "Европейские ученые, в большинстве своем прирожденные придворные лакеи, превращают базилевса в монарха в современном смысле слова".[4]
Эсхил, согласно с традициями землевладельческой аристократии, вел энергичную борьбу против тираннии, которая иногда оказывала поддержку демократическим элементам. "Лучше умереть, чем быть под властью тиранна", - рассуждают в "Агамемноне" старцы хора (ст. 1364 сл ). "Тираннии присуща болезнь - не доверять своим друзьям", - характеризует ее Прометей ("Прометей", ст. 224 сл.). Эсхил изобразил самыми резкими чертами тип самовластного деспота-тиранна в лице Зевса (см. ниже, стр. 336).
Отражение собственных политических взглядов Эсхила больше всего ищут в трагедии "Эвмениды", которая вызвала в научной литературе горячие споры. Они начались со времени К. - О. Мюллера и не улеглись еще и до сего времени. Трагедия была поставлена в 458 г. до н. э. Она содержит прославление Ареопага, который за четыре года перед этим, в 462 г., подвергся серьезной реформе, отнявшей у него все политические функции. Постановка этой трагедии совпала с ожесточенной борьбой, происходившей внутри государства. Недаром в трагедии неоднократно высказываются призывы к согласию (ст. 992-995) и делаются предупреждения против междоусобий (ст. 861-866, 913-915, 976-987).
Ареопаг - древнее учреждение, остаток патриархального совета старейшин, оплот аристократии. Он уже стал терять свое влияние после реформы Клисфена, но в острый момент персидских войн сумел снова вернуть себе руководящее значение в политической жизни Афин. Однако остается спорным, какое положение Ареопага идеализирует поэт - то ли, которое принадлежало ему до реформы Эфиальта, или то, которое он получил в результате этой реформы. Решение этого вопроса дало бы возможность определить политическую позицию автора: поддерживал ли он консервативную аристократическую партию, которая видела свой идеал в старом Ареопаге, или более прогрессивную, которая сочувствовала реформе Эфиальта.
Эсхил нередко рисует в своих трагедиях противоречие между личностью и окружающей средой. Если личность оказывается бессильной, Эсхил находит единственную опору в коллективе, и поэтому особый интерес представляет изображение поэтом этого коллектива. Царь Пеласг обращается к воле народа за разрешением вопроса о принятии под покровительство Данаид; Ксеркс терпит крушение потому, что не считался с интересами государства; Этеокл умирает за родину; Прометей страдает за благо человечества; Агамемнон встречает осуждение, пока действует самовластно, но находит оправдание при сопоставлении с грубыми захватчиками его власти; Орест возвращает себе спокойствие и благополучие после оправдания государственным судом. Торжественное шествие, которым заканчиваются "Эвмениды", захватывает не только действующих лиц: оно рассчитано на то, чтобы увлечь и всех зрителей в общем патриотическом порыве прославления Афинского государства.
При всем консерватизме своего мировоззрения Эсхил, как объективный художник, умел находить образы и краски для воспроизведения захватывающих прогрессивных вопросов современной жизни, представляющих вечный интерес для человечества.
[1] В „Эвменидах“ Виламовиц–Меллендорф, считая Эсхила „не политиком, а поэтом, религиозным учителем своего народа“, видит призыв к спокойствию после убийства Эфиальта.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXVII, стр. 505.
[3] „Особо от других я держусь своего мнении“.
[4] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 81.
7. РЕЛИГИОЗНЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ ЭСХИЛА
Миросозерцание Эсхила может быть названо в основе своей религиозным, но оно сильно отличается от взглядов большинства его современников. Он видит даже нечестие в словах тех людей, которые утверждают, будто боги не считают нужным вмешиваться в дела людей и карать нечестивых (Агамемнон, ст. 369-372). Религиозная мысль Эсхила останавливает внимание с особенным интересом на трех божествах-Зевсе, Афине и Аполлоне. Выражение традиционной веры в богов он дал только в хоре Данаид в "Просительницах"и в лице Ореста в "Эвменидах". Однако оказывается, что, несмотря на мольбы Данаид, которые считают Зевса своим родоначальником, он отдает их во второй трагедии тетралогии во власть насильников, сыновей Эгипта, что наносит серьезный удар религиозной вере. В изображении Аполлона есть еще и чисто гомеровские черты. Так, глашатай Агамемнона вспоминает о том, как он метал стрелы на ахейское войско (Агамемнон, ст. 509-511, ср. "Илиада", I, 44-53).
Однако наряду с этими традиционными представлениями мы находим и совершенно новые черты. Подобно своим старшим современникам Ксенофану и Гераклиту, Эсхил иногда жестоко нападает на ходячие религиозные воззрения. В "Эвменидах" изображен спор между богами- Аполлоном и Эриниями, причем последние обрисованы самыми мрачными красками, и Аполлон выгоняет их из своего храма. В "Хоэфорах" рассказывается, что Аполлон дал повеление Оресту убить собственную мать, - повеление, которое вызывает ужас со стороны Ореста; тем более потрясающим оно должно было казаться современникам Эсхила. В "Агамемноне" Кассандра вспоминает о своих страданиях, насланных на нее Аполлоном за то, что она отвергла его любовь. Такой же страдалицей является Ио в "Прометее" вследствие сластолюбия Зевса и преследований со стороны Геры. Во всем ужасе описано в "Агамемноне" принесение в жертву Ифигении. Хор Эриний в "Эвменидах" упрекает Зевса за то, что он заковал в цепи своего отца Крона (ст. 641). Особенно ярко критика религиозных образов дается в "Прометее". Зевс изображен чисто человеческими чертами, как жестокий тиранн, захвативший власть: "суровым бывает всякий, кто правит внове" (ст. 35). Лишь освоившись с властью, он, наконец, соглашается освободить Прометея. Сам Прометей представлен благодетелем рода человеческого и невинным страдальцем вследствие жестокой тираннии Зевса. Гефест, несмотря на свое сочувствие Прометею, оказывается покорным исполнителем воли Зевса. Бог Океан - хитрый придворный, готовый на всякие компромиссы. Все это и дало основание для заключения Маркса, что боги Греции были трагически ранены насмерть в "Прикованном Прометее" Эсхила.[1]
Наряду с этим критическим отношением к религии мы встречаем также иронические замечания об оракулах и предсказаниях. Разве бывает какая-нибудь добрая весть для людей в предсказаниях? "Искусство гадателей в многословных речах возвещает только бедствия и внушает лишь страх", - говорит хор в "Агамемноне" (ст. 1132-1335). Разве можно узнать будущее? "Услышишь о нем тогда, когда оно наступит Не нужно этого: узнавать его - это значит наперед страдать" (ст. 250-252).
Отвергая таким образом и критикуя общепринятые мифологические представления, Эсхил, однако, не доходит до отрицания религии. Одно несомненно: данное поэтом изображение богов в "Прикованном Прометее" хотя бы и дополнялось какими-нибудь изменениями в других частях тетралогии, все-таки оставляло впечатление серьезного удара по традиционным религиозным представлениям. Но Эсхил не ограничивается такой отрицательной критикой, а, подобно современным ему философам, создает общую идею божества, совмещающего в себе все высшие свойства. (В современной науке обобщающее представление о божестве принято называть "генотеизмом"). Для своего обобщенного представления Эсхил сохраняет традиционное имя Зевса, хотя и оговаривается, что, может быть, его надо называть как-нибудь иначе. Особенно замечательно эта мысль выражена в обращенной к Зевсу песне хора в "Агамемноне" (ст. 160-166).
В таких рассуждениях, где бог отождествляется со всеми стихиями мира, поэт приближается к пантеистическому пониманию божества. Он сходится в этом с Ксенофаном и Гераклитом, которые выступали с критикой греческой мифологии. Отсюда видно, до какой степени Эсхил стоял выше традиционных взглядов своих современников. Это уже есть разрушение обычной религии греков и их политеизма.
Обоснование своих взглядов Эсхил ищет в моральных представлениях. Зевс и отчасти Аполлон являются выразителями его религиозно-этических воззрений. В религии Эсхил ищет этическое начало - Правду, которую он ставит выше всего. Правда обеспечивает человеку успех в его делах ("Семеро", ст. 662; "Хоэфоры", ст. 946-953). Ни один преступник не уйдет от ее карающей руки. Александр-Парис, а вместе с ним и весь троянский народ несут возмездие за свое злодеяние, за то, что попрали великий алтарь Правды ("Агамемнон", ст. 381-384). Ни сила, ни богатство не спасут преступника. Правда более всего любит скромные хижины и бежит из богатых дворцов ("Агамемнон", ст. 773-780).
Прославление Правды, которая, хотя и после долгого времени, торжествует над злодеяниями, дается в "Хоэфорах" (ст. 946-952); "Пришла она, дочь Зевса, которая имеет попечение о хитроумной Каре, в тайной битве и в битве подлинно коснулась его [Ореста] руки. Мы, смертные, называем ее Правдой-тем именем, которое ей подобает. Она пышет пагубной злобой на врагов". Правда есть лучший союзник ("Просительницы", ст. 339). Правда есть не только моральная сила, но и чувство меры. Ее противница - "надменность" (ὔβρις), которая отождествляется с "дерзостью" и "обидой". Все серьезные преступления у людей происходят от надменности. Когда человек теряет здравый рассудок (σωφροσύνη) и, по образному выражению Эсхила, "как мальчик, начинает ловить птицу в небесах" ("Агамемнон", ст. 394), он утрачивает сознание подлинной действительности, у него наступает нравственное ослепление ("Агамемнон", ст. 770), которое боги и особенно Эринии насылают людям в наказание ("Агамемнон", ст. 1192; "Хоэфоры", ст. 403; Эвмениды, ст. 376), и люди решаются на недопустимые дела. Кровавый поступок сам по себе помрачает разум ("Хоэфоры", ст. 1055 сл.). Не рок, тяготеющий свыше, а собственная преступность человека влечет его от одного преступления к другому ("Агамемнон", ст. 763-772). Если боги и терпят некоторое время недопустимые дела людей, то все-таки, в конце концов, они жестоко карают преступника, уничтожая и его самого и весь его род. Трагедии Эсхила по преимуществу и рисуют судьбу таких людей. Сыновья Эгипта хотят насильственно овладеть Данаидами. Полиник идет на брата. Он пытается прикрыть свои действия видимостью Правды. Этеокл, слыша об этом, замечает: "Это было бы для нее совершенно ложное название, если бы она сопутствовала человеку, который в сердце преисполнен дерзости" ("Семеро", ст. 670 сл.). Клитеместра убивает Агамемнона, но потом сама падает убитой.
По представлению Эсхила, человек, который попирал пятой великий алтарь Правды, сам становится жертвой рокового ослепления и начинает совершать преступления, впадая в грех ("Агамемнон", ст. 385-387).
В духе общенародных представлений Эсхил видит эту Правду прежде всего в исполнении элементарных требований патриархальной нравственности - в соблюдении обязанностей гостеприимства, в почитании богов и родителей. "Пусть они [члены народного совета], - так высказывают свои пожелания жителям Аргоса Данаиды, - блюдут Правду, согласную с договорами по отношению к иностранцам, не начиная войны, и не навлекают на себя несчастий. Пусть чтут они вечно богов своей земли по обычаям отцов и, украшенные лавровыми ветвями, приносят в жертву тельцов. Третий завет, написанный в уставах высокочтимой Правды, велит чтить родителей" ("Просительницы", ст. 701-709). Подобным образом и Эринии считают эти три свойства первыми условиями своей морали ("Эвмениды", ст. 269-272).
Суровый жизненный опыт приводит к печальному заключению, что истина познается в страдании πάθει μάθος ("Агамемнон", ст. 176- 178). С логической необходимостью действует тут правило: "Свершивший зло потерпит зло" ("Агамемнон", ст. 1564). "Полезно, - рассуждает хор Эриний, - под влиянием тяжелых обстоятельств быть благоразумным" ("Эвмениды", ст. 520). Рано или поздно человек, наученный горьким опытом, познает благоразумие ("Агамемнон", ст. 181, 1425). Эта мысль еще полнее высказывается в "Хоэфорах": "За слово враждебное, - поет хор, - пусть платится словом враждебным. Громко взывает Правда, требуя возмездия за содеянное преступление. За кровавый удар пусть платят кровавым ударом. Содеявший да будет нести страдание. Так гласит стародавнее изречение" (ст. 309-314). Поэт прямо ссылается на древние правила морали - воздавать за злодеяние равным (ius talionis: око за око, зуб за зуб). Мы находим эти правила и в римском законодательстве Двенадцати таблиц, и в вавилонском законодательстве Хаммурапи.
Но Эсхил не мог довольствоваться этой устаревшей моралью. Его время выдвигало новое представление о возмездии. Ius talionis и кровавая месть, типичная принадлежность родовых отношений, вытесняются новым сознанием. Борьба нового миропонимания со старым нашла отклик в трактовке сюжета об Оресте, матереубийце.
Мы уже говорили выше, что в этом мифе отложились воспоминания о борьбе между материнским и отцовским правом, между падающим матриархатом и утверждающимся патриархатом. Однако и после победы последнего общественное сознание продолжало изменяться, и поэтому вполне естественно, что трактовка мифа об Оресте у Эсхила получила еще новую окраску: он ввел идею нравственного оправдания. Не всякое преступление заслуживает жестокого наказания, но необходимо считаться и с мотивами, вызвавшими его.
Государство, основанное на родовом принципе, считает всякую обиду, нанесенную родичу, преступлением, требующим мести. Поэтому одним из важнейших элементов родового права является кровавая месть. Если кровь человека пала на землю, ее ничем нельзя вернуть к жизни, - этот мотив на разные лады повторяется и в "Агамемноне" (ст. 1018- 1021), и в "Хоэфорах" (ст. 48, 66 сл.), и в "Эвменидах" (ст. 647-651). Кровь вопиет о мщении. Анимистическое представление исходит из мысли, что душа убитого сама требует мщения и руководит действиями мстителя. Согласно с этим, у Эсхила Кассандра, предрекая месть за Агамемнона, говорит, что "поведет Ореста сам убитый отец" ("Агамемнон", ст. 1284). Клитеместра боится мщения души убитого ею мужа и думает умилостивить ее жертвоприношениями, чтобы отвратить от себя гибель ("Хоэфоры", ст. 41 сл.). Также и Орест с Электрой молятся покойному отцу, прося у него помощи, и обещают совершать ему полагающиеся жертвоприношения ("Хоэфоры", ст. 479-488, 497-509). Но, кроме того, душа убитого насылает духов подземного мира, всевозможные бедствия, неурожай, падеж скота, моровую язву, гражданские смуты и междоусобия. Это все представляется как действие Эриний, богинь мщения, в которых олицетворяется весь ужас, какой только может представить себе расстроенное воображение преступника, терзаемого муками совести. Это - олицетворение проклятий умирающего, это - детища самой Земли, исчадия подземного мира. Кассандра в своем ясновидении видит в доме Агамемнона разгул Эриний, напившихся человеческой крови ("Агамемнон", ст. 1187-1193). Так они и рисуются у Эсхила в первой части "Эвменид".
Мысль человека, стоящего на первобытной ступени развития, принадлежащего к патриархальному роду, знает только один способ примирения - убийство виновников смерти родича, только удовлетворение души убитого. Это требование имеет абсолютный, категорический смысл. По мере культурного развития и смягчения нравов становятся допустимыми другие способы примирения. Они встречались изредка и в гомеровском обществе, где знали уже уплату штрафа (Ил. XVIII, 497-508).
Эсхил представил особенно тяжелый случай родовой мести, когда сын - Орест - во имя долга убивает собственную мать, мстя за убийство отца. Поэт показал решительное осуждение этого акта Орестом, который считает это недопустимым. Но убийство Клитеместры совершается по повелению Аполлона. Поэт замечательно изобразил переживания Ореста, который долго не может решиться на убийство. Только когда ему напомнили все подробности смерти отца и когда он услыхал о вещем сне матери, который свидетельствует о воле богов, он, наконец, приступает к своему делу; но и после его совесть не может примириться с совершенным злодейством, и он впадает в душевное расстройство. Душевная драма подготовляет, таким образом, его дальнейшее оправдание, но это оправдание есть в то же время разрыв со старыми моральными представлениями. Богиня Афина не берет на себя окончательного решения этого дела и передает его человеческому суду; однако и тут оправдание Ореста при равенстве голосов, поданных за оправдание и за осуждение, достигается только присоединением ее голоса. С такими оговорками вступает в силу новый суд совести. Решение же сложного морального вопроса "о пролитой крови" поручается отныне и навеки высочайшему авторитету Ареопага.
Старый миф получил, таким образом, новое, более созвучное с духом времени осмысление.
Отклики первобытных верований звучат и в рассуждениях о зависти богов. Об этих первобытных верованиях мы знаем по знаменитому рассказу Геродота о перстне Поликрата (III, 40-43). Боги рисуются как враждебная сила, которая стремится смирить всякого человека, возвышающегося над общим уровнем, подстерегает его и, чем выше он вознесется в своем призрачном счастии, тем ниже низвергает его в бездну несчастий.
Боги наделены такими же чувствами, как и люди; поэтому, как и люди, они полны зависти ("Агамемнон", ст. 135). А на того, кто приобретает чрезмерную славу, падает молния от очей Зевса ("Агамемнон", ст. 468- 470). Как чрезмерно удачное плавание, так и чрезмерное здоровье может вызвать эту зависть ("Агамемнон", ст. 1001-1014). Но у людей это стремление к счастью ненасытно, и не найдется ни одного человека, который бы сказал, когда оно постучится в дверь: "не входи" ("Агамемнон", ст. 1331-1334).
Эсхил дает и конкретные примеры зависти богов. Ксеркс слишком вознесся в сознании своей силы и могущества, не понял "зависти богов" ("Персы", ст. 362) - и он низринут со своей высоты. То же случилось и с Агамемноном. Поэт очень красочно показывает это в сцене с пурпурным ковром, по которому Клитеместра убеждает войти во дворец вернувшегося из-под Трои Агамемнона ("Агамемнон", ст. 905- 957).
[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 1, стр. 403.
8. ВОПРОС О СУДЬБЕ И ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА. ТРАГИЧЕСКАЯ ИРОНИЯ
С вопросами о религии и нравственности тесным образом соприкасаются взгляды на судьбу и на значение личности человека.
Уже в поэзии Гомера имеется представление о высшей силе, которой подчинены даже сами боги. Это - судьба. Но герои Гомера не знают ничего о родовом проклятии. В период революций и потрясения могущества старых аристократических родов получили широкое распространение мифы об ужасной гибели целых родов. Мифы о судьбе Пелопидов (главным образом Атрея, Агамемнона и Ореста) и Лабдакидов (Лая, Эдипа и его детей) давали богатый материал для поэзии, и Эсхил в тетралогиях изображал последовательную судьбу их из поколения в поколение. "О древнем преступлении, требующем скорого возмездия, говорю я, - поет хор в "Семерых", вспоминая о том, как Лай ослушался повеления Аполлона, запретившего ему иметь потомство, - этот грех остается на третье поколение" ("Семеро", ст. 742-745). "Трудно найти искупление древних проклятий", - говорит хор в другом месте (ст. 766 сл.). Точно так же и над домом Агамемнона тяготеет древнее проклятие. Оно представляется то в виде демона Аластора ("Агамемнон", ст. 1501, 1509; ср. "Просительницы", ст. 415; "Персы", ст. 354), то вообще в виде некоего демона, живущего в доме и обрушивающегося на его обитателей ("Агамемнон", ст. 1468-1474). Клитеместра после убийства Агамемнона хочет приостановить дальнейшие злодеяния и заключить договор с демоном дома Плисфенидов ("Агамемнон", ст. 1569 сл.). В "Прометее" мы читаем, что три Мойры, т. е. богини судьбы, и памятливые Эринии господствуют даже над Зевсом (ст. 516) - представление, напоминающее гомеровского Зевса. Орест в "Хоэфорах" и в "Эвменидах" действует как орудие божества.
Но если фаталистическое представление о господстве над человеком роковой силы, от которой никто не может уйти, было широко распространено в свое время и дало определенную окраску некоторым мифам, то из этого вовсе не следует, что и сам Эсхил держался такого взгляда. Правда, мнения современных ученых по этому вопросу расходятся. Некоторые склонны отрицать у Эсхила признание свободы воли. С этим, конечно, согласиться нельзя. Однако, принимая взгляд о признании Эсхилом свободы воли, не следует видеть в Эсхиле мыслителя, похожего на современного философа-рационалиста. У Эсхила нельзя ожидать строгой последовательности в трактовке философских проблем, а тем более той полноты, которая более свойственна научным, чем поэтическим сочинениям. Ко всему этому надо прибавить, что он, естественно, отдавал в некоторых случаях дань и чисто народным воззрениям. А особенно надо учитывать то обстоятельство, что сюжеты для своих трагедий он брал из мифов с их готовой, сложившейся гораздо ранее концепцией, которая вступает иногда в противоречие с воззрениями самого поэта. Принимая традиционную версию мифа, Эсхил в то же время показывает, что роковое несчастье происходит вследствие нечестия самих людей ("Агамемнон", ст. 758-780). Изображая титанические личности, он сосредоточивает внимание на их самостоятельных решениях, на значении их свободной воли. Так, Прометей идет на свое дело в полном сознании того, что его ожидает. Яснее всего проявление такого сознания показано в образах Этеокла и Клитемеетры.
Независимо от рока, тяготеющего над всем родом Лая, и даже независимо от отцовского проклятия Этеокл имеет возможность избрать то решение, которое ему кажется наиболее подходящим: хор говорит, что найдутся и другие люди, которых можно послать против Полиника ("Семеро", ст. 679 сл.). Но Этеокл остается тверд в своем решении и идет на смерть. Смерть, говорит он, не позорна (ст. 683--685). Всю ответственность он берет на себя (ст. 5 сл.), он знает свою судьбу (ст. 653-655, 709-711). Таким образом, рок и свободная воля действуют одновременно, но самостоятельно. Агамемнон, как говорится в песне хора, надел сам на себя роковое ярмо необходимости, когда решился принести в жертву собственную дочь ("Агамемнон", ст. 218).
В уста Клитеместры Эсхил вложил рассуждение о том, что, убивая Агамемнона, она действовала как орудие демона, который направлял все дела в доме Агамемнона ("Агамемнон", ст. 1500-1504). Это - детерминизм, который, как видно, был ходячим в некоторых кругах греческого общества. Однако хор тут же категорически разоблачает это объяснение; "Кто же возьмет на себя свидетельство, что твоей вины нет в этом убийстве?" ("Агамемнон", ст. 1505). Демон, быть может, и участвовал в этом деле, но и вина Клитеместры очевидна. Сознание собственной вины, характеризующее нечистую совесть, живо видно в следующей трагедии, особенно в сне Клитеместры. В "Хоэфорах" поэт подчеркивает, что Орест выступает в качестве мстителя не только потому, что должен исполнить волю Аполлона, но и потому, что сам сознает необходимость этого (ст. 298 сл.).
Эти примеры показывают, что Эсхил уже. освободился от взгляда о связанности человека, хотя и не оставил еще веры в действие божества. Его сильные, могучие герои способны будить мысль человека и вести к дальнейшим завоеваниям культуры, В арсенале поэтических средств, которыми пользуется Эсхил, его представление о свободе воли играет особенную роль. На нем строится так называемая трагическая ирония. Действующее лицо, стремясь к своей цели, достигает на самом деле как раз обратного, так как скрытая сила ведет его к гибели. Особенно много примеров этого в "Агамемноне". Клитеместра велела рабыням для пышности встречи Агамемнона разостлать пурпуровый ковер (пурпуровые ткани ценились наравне с золотом). Агамемнон знает, что если он ступит на эту роскошь, то возбудит зависть богов: "Богов чтить этим надо", - говорит он (ст. 922). Однако хитрая лесть Клитеместры заставляет его отступить от первоначального решения, и он идет, хотя старается оградить себя тем, что велит рабам снять со своих ног сандалии (ст. 916-949). Он, таким образом, обрекает себя на гнев богов. Особенно зловеще звучат слова Клитеместры: "Пусть Правда в дом нечаянный ведет" (ст. 911). Она имеет в виду при этом не дворец царя, как должно было казаться Агамемнону, а чертог Аида.
Другой образец мы находим в сцене с глашатаем Агамемнона. Прибыв ко дворцу с радостной вестью о взятии Трои, он не хочет омрачать радости рассказом о перенесенных бедствиях, - с точки зрения верующего человека, этим можно нарушить чувство благодарности к богам и накликать на себя несчастье, - но все-таки рассказывает и тем как будто приближает роковую развязку (ст. 656-680).
Такая противоречивость в положении действующих лиц приводит к раздвоению точки зрения: действующее лицо видит дело в одном свете, а зритель понимает его по-другому. Клитеместра обращается к Зевсу с мольбой об исполнении ее желания (ст. 973 сл.). Присутствующие видят в этом заботу о благополучии Агамемнона, но на самом деле она имеет в виду удачное совершение убийства. Агамемнон самоуверенно заявляет, что хорошо умеет разбираться в людях (ст. 838-843), но он не подозревает, какое предательство ожидает его в доме. Такое же значение имеют видения и предвещания Кассандры. Она обращается к статуе Аполлона и спрашивает: "Куда ты привел меня?" Хор на это отвечает: "К дворцу Атридов" (ст. 1085-1089). На самом деле она думает, что приведена к дому Аида, т. е. смерти. Ей чудится запах могильного тленья, - хор наивно объясняет ей, что в доме совершается жертвоприношение (ст. 1307-1312) и т. д. Ксеркс дает приказ к наступлению, не зная, что ему суждено богами; он надеется уничтожить противников, а на самом деле его меры приводят к еще более жестокому поражению его собственного войска ("Персы", ст. 372 сл., 450 сл.).
Все это создает в трагедии особое настроение, которое подготовляет зрителя к страшной развязке всего действия, создает особый пафос трагедии, в котором Эсхил показал себя замечательным мастером.
9. ЯЗЫК И СТИЛЬ ЭСХИЛА
Эсхил, создатель удивительных титанических образов, нуждался, для воплощения их, в могучем языке. Будучи создателем нового литературного жанра, он должен был найти для него соответствующую речь. Как подлинный поэт, он мыслит образами, в изобилии рассыпает их в песнях хора, в диалогах действующих лиц. Речь его очень эмоциональна и поэтому богата метафорами, которые у него, в сравнении с Софоклом и Эврипидом, отличаются большей выдержанностью и иногда проходят как лейтмотив через всю трагедию, например мотив корабля, носимого по бурному морю в "Семерых", мотив ярма в "Персах", мотив зверя, попавшего в сеть, в "Агамемноне" и т. д.
Если вообще речь трагедии, соответственно всему ее стилю, отличается величавостью и торжественностью, то язык Эсхила обладает этими свойствами в сильнейшей степени. Уже во времена Аристофана он звучал как нечто необыкновенное. "В соответствии с великими изречениями и мыслями, - говорит у Аристофана Эсхил, - поэт должен порождать подобные же слова, и вообще полубогам подобает пользоваться и словами особенно величественными" ("Лягушки", ст. 1058-1060, ср. 926-930). Особенно обращают на себя внимание слова составные, соединяющие в себе иногда по нескольку корней и начинающиеся двумя-тремя приставками: они содержат сразу по нескольку поэтических образов, что сильно затрудняет перевод таких выражений на другой язык. Встречается не мало звуковых и стилистических эффектов - вроде аллитераций или сопоставлений и особенно омонимов, т. е. сходно звучащих слов неодинакового происхождения: например, имя Елены (Ἑλένη) Эсхил сопоставляет с глаголом ἑλεῖν ("взять"), и Елена фигурирует у него как захватчица кораблей, мужей, города (ἑλέναυς, ἕλανδρος, ἑλέπτολις ("Агамемнон", ст. 689); Аполлон, имя которого напоминает глагол ἀπόλλυμι ("гублю"), назван "губителем" ("Агамемнон", ст. 1080 сл.).
У Эсхила есть много слов, которые вовсе не встречаются у других писателей. Речь его отличается удивительной смелостью и выразительностью, она насыщена всевозможными фигурами - метафорами, метонимиями, гиперболами и т. п. Так, захват греками Трои представляется скачком коня, - тут разумеется знаменитый деревянный конь, в котором скрывались греческие вожди ("Агамемнон", ст. 825 сл.). Приезд Елены в Трою уподобляется приручению молодого львенка, который, сделавшись взрослым, перерезал стадо у своего хозяина (ст.717-736). Клитеместра представлена как двуногая львица, которая вступила в связь с трусливым волком (ст. 1258 сл.).
Любопытны такие места из трагедии "Семеро против Фив": "зазвучали дудки вертящихся колес (т. е. ступицы), в конских устах заговорили уздечки, рожденные в огне поводьев", - так Эсхил описывает быстрое движение неприятельских колесниц (ст. 205-208). Эсхил искусно воспроизводит народные и культовые формы речи: обрядовые песни, заплачки (френы), заклинания, молитвы и т. д. В некоторых случаях он пытается индивидуализировать речи действующих лиц. Например, характеризуя Данаид, египетского герольда или персов, как иностранцев, он влагает в их уста иностранные слова или специальные термины, как βᾶρις - "корабль", βοᾶνις - "гористая страна", ἄγγαρος -"почтовый" и т. п. Древние критики находили в его языке, кроме того, даже сицилийские элементы (Афиней IX, р. 402b). Изображая Эриний, Эсхил влагает в их уста какое-то нечленораздельное мычание (Эвмениды, ст. 117, 120, 123, 126, 129 сл.).
В трагедиях Эсхила преобладает лирический элемент, притом, как справедливо отмечается некоторыми исследователями, не только в хоровых партиях, а нередко и в диалогических частях. Таково, например, замечательное описание бури и исчезновения Менелая в "Агамемноне". "Его совершеннейшие ритмы - дохмии и особенно трохеи и ямбы, - замечает Виламовиц-Меллендорф, - выступают для нас совершенно неожиданно, как "чудесное явление" высочайшего греческого благозвучия и в то же время высочайшей силы". Однако у Эсхила еще нет песен соло - ἀπὸ σκηνῆς, арий действующих лиц. Метрическая структура его песен значительно проще, чем у младших трагических поэтов.
Диалогические части написаны по преимуществу ямбическим триметром и в некоторых случаях трохаическим тетраметром. При этом у него никогда один стих не разделяется между двумя говорящими лицами. Часто он прибегает к приему стихомитии,[1] который является остатком первоначальных форм драмы. Нарастание трагического пафоса искусно оттеняется переходом от спокойного диалога к тончайшему лирическому "коммосу", что особенно видно в сцене с Каcсандрой в "Агамемноне".
[1] Распределение стихов между действующими лицами, так что каждая реплика состоит из одного стиха.
10. ОЦЕНКА ЭСХИЛА В ДРЕВНОСТИ И ЕГО МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Переворот, произведенный Эсхилом в технике первоначальной драмы и сила его таланта обеспечили ему выдающееся место среди национальных поэтов Греции. В течение всего V века и в IV веке до н. э. он сохранял значение образцового поэта, и его произведения получили исключительное право на повторные постановки. Вскоре после его смерти афиняне особым постановлением предоставили право другим поэтам заново ставить его произведения, и многие с его пьесами одерживали победы на состязаниях. Аристофан в комедии "Лягушки" поставил его на первое место среди знаменитых трагиков. Он охарактеризовал его как воспитателя народа (ст. 1471-1473), истинного представителя поколения марафонских бойцов. Он особенно отмечал бодрое настроение и воинственный пыл таких трагедий, как "Персы" и "Семеро против Фив" ("Лягушки", ст. 1021 сл., 1026 сл.). Точно так же и Горгий называл последнюю трагедию "полной Ареса".[1]
Около 330 г. до н. э. по предложению Ликурга в новоотстроенном театре был поставлен памятник Эсхилу наряду с другими знаменитыми драматургами. Тогда же были собраны его сочинения в тщательно выверенном государственном списке. Впоследствии мы видим интерес к нему у эллинистических ученых - Хамелеонта (конец IV и начало III века до н. э.) и Дидима (I век до н. э.). Дион Хрисостом (II век н. э.) дал сопоставление "Филоктета" Эсхила с одноименными трагедиями Софокла и Эврипида.[2]
Уже Аристофан отмечал тяжеловесность языка Эсхила ("Лягушки", ст. 1004 сл.). В дальнейшем это свойство становилось все более серьезным затруднением для понимания произведений Эсхила; соответственно с этим стал понижаться интерес к нему, и он уступил место своим младшим современникам - Софоклу и Эврипиду.
Эсхил оказал сильное влияние не только на греческую, но и на римскую поэзию, в которой Энний, Акций[3] и Сенека занимались переработкой его произведений.
Но влияние Эсхила не ограничилось периодом античного мира, он продолжал оказывать могучее действие и на людей нового времени.
Как известно по воспоминаниям Лафарга, Эсхил был одним из любимых писателей Маркса, который ежегодно перечитывал его в подлиннике.
Особенно сильное влияние на поэтов нового времени оказала трагедия "Прикованный Прометей", а вместе с тем и самый миф о нем. Большое значение образу Прометея придавал Горький.[4]
Переделок и подражаний этой трагедии невозможно пересчитать.[5] И поэты и музыканты нового времени много раз пытались возродить на новый лад этот замечательный образ. Так, Кальдерой написал драму "Статуя Прометея" (1670). Вольтер - драму "Пандора" (1748), основанную на любви Прометея к созданной им Пандоре и на соперничестве с ним Зевса. Далее, Гердер (1744-1803) написал сцены "Освобожденный Прометей" - настоящее прославление Прометея как создателя человеческой культуры. На этой основе Лист создал свою симфоническую поэму "Освобожденный Прометей". Вспомним драматический фрагмент Гёте "Прометей" (1772-1773), где юный автор в период "бури и натиска" вложил в этот образ вдохновлявшие его революционные мечты, и его же отрывок "Пандора" (1808), отходящий уже от революционной основы и только прославляющий идею порядка. Черты Прометея видны во многих произведениях Байрона. Его лирическое стихотворение "Прометей" изливает тот протест против человеческого бессилия, который нашел особенно яркое выражение в "Каине" и "Манфреде". Не менее замечателен "Освобожденный Прометей" Шелли, это олицетворение любви к человечеству. Леопарди в своих полных глубокого пессимизма "Разговорах" представляет Прометея типом бесплодного мечтателя. Сильное влияние оказал Эсхил на знаменитого композитора Рихарда Вагнера.
В русской литературе делал попытки перевода "Прометея" Д. В. Веневитинов, отрывки из "Прометея" перевела Каролина Павлова. Н. П. Огарев написал горячее стихотворение "Прометей", в котором выражал протест против тираннии Николая I. В наше время А. Н. Скрябин написал симфонию "Прометей". Только Вяч. Иванов в своей трагедии "Прометей" (1919) придал этому образу реакционный смысл "самоистощения личности", "греха человеческой свободы".
Таким образом, Прометей в полном смысле слова является мировым и вечным образом человечества.
Кроме этого, мы можем указать в русской литературе переводы А. Ф. Мерзлякова отдельных сцен из разных трагедий Эсхила, а также обработку сцен из "Агамемнона" под названием "Кассандра" у А. Н. Майкова. Прибавим к этому, что русскому композитору С. И. Танееву принадлежит замечательная опера "Орестея" на сюжет трилогии Эсхила. Либретто этой оперы написал А. А. Венкстерн.
[1] Плутарх, Mor., Symp. VI, р. 715.
[2] См. фр. 249—257 Эсхила.
[3] Акций написал „Освобожденного Прометея“, из которого несколько отрывков сохранилось до нас.
[4] Горький, О литературе, 3–е изд. М., 1937.
[5] См. И. М. Нусинов. История образа Прометея („Вековые образы“, стр. 12— 188), М.. 1937.
Глава XXII ВЕК СОФОКЛА И ЭВРИПИДА
Софокл и Эврипид - деятели того "пятидесятилетия" (пентеконтоэтии), которое началось после 479 г. до н. э., когда греки в героической борьбе победили персов, и закончилось в 431 г., когда началась Пелопоннесская война, приведшая к гибели демократии и в Афинах и в других греческих городах. В эти пятьдесят лет создались необходимые условия для всестороннего культурного расцвета Афинского государства.
После войны с персами афиняне, которым принадлежала наибольшая заслуга в победе над врагом, стали господствовать на прилегавших к Греции морях, и это очень благоприятно отразилось на хозяйственной жизни их города. Сильно расширилась сеть новых рынков; усилилась торговля с колониями на Черном море, откуда Афины стали получать значительную часть хлеба. Казна Афинского морского союза была перенесена с острова Делоса в Афины. Громадные суммы дани союзников (до 600 талантов) были использованы на украшение Афин и на "кормление" более 20000 человек.[1]
Союзники возмущались этими расходами, сравнивая Афины с женщиной, которая тратится на наряды, но Перикл, наоборот, видел в этом побуждение к развитию деятельности граждан, к оживлению всяких ремесл и считал это способом распространения зажиточности во всех слоях населения.[2] Перикл говорил: "Все наше государство - центр просвещения Эллады: каждый человек может у нас приспособиться к многочисленным родам деятельности и, выполняя свое дело с изяществом и ловкостью, лучше всего может добиться для себя самодовлеющего состояния" (Фукидид II, 41).
Речь Перикла, приведенная у Фукидида (II, 37 сл.), является выражением взглядов на демократию ее сторонников:
"Называется наш строй демократическим потому, что он зиждется не на меньшинстве граждан, а на их большинстве. По отношению к частным интересам наши законы предоставляют равноправие для всех; что же касается политического значения, то у нас в государственной жизни каждый им пользуется предпочтительно перед другим не в силу того, что его поддерживает та или иная политическая партия, но в зависимости от его достоинств, доставляющих ему хорошую славу в различных отношениях. Скромность звания не служит бедняку препятствием к деятельности, если я он может оказать государству в чем-нибудь пользу. Мы живем в государстве свободной политической жизнью, не страдаем подозрительностью во взаимных отношениях повседневной жизни; не раздражаемся, если кто-нибудь делает что-либо в свое удовольствие, и не проявляем досады, хотя бы безвредной, но все же раздражающей другого. Свободные от всякого принуждения в частной жизни, мы в общественной не нарушаем законов, больше всего из страха перед ними, и повинуемся лицам, облеченным властью в данное время; в особенности прислушиваемся ко всем тем законам, которые существуют на пользу обижаемых и которые, хотя и не записаны, навлекают общепризнанный позор на тех, кто их нарушает... Благодаря обширности нашего государства к нам со всей Земли стекается все, так что мы наслаждаемся благами всех других народов с таким же удобством, как если бы это были плоды нашей собственной земли... Государство наше мы предоставляем для всех, не высылаем иностранцев, никому не препятствуем ни учиться у нас, ни осматривать наш город... Что касается воспитания, то противники наши еще с детства закаляются в мужестве тяжелыми упражнениями, мы же ведем непринужденный образ жизни и тем не менее с не меньшей отвагой идем на борьбу с равносильным противником".
Эта блестящая картина должна была успокоить слушателей Перикла, но действительность далеко не соответствовала ей. Какие последствия принесло афинянам использование для себя средств других государств, показало отношение к ним союзников уже в первый год Пелопоннесской войны.
При оценке афинской демократии надо иметь в виду, что она распространялась далеко не на всех даже свободных граждан, из которых многие, как например, метеки, были сильно ограничены в правах. К тому же, по предложению Перикла, гражданские права предоставлялись лишь тем, у кого и отец и мать принадлежали к числу полноправных граждан.[3]
Положение рабов в Греции, в частности в Афинах, было особенно тяжело. Всякие новшества, которые могли бы улучшить положение бесправных граждан, тормозила влиятельная верхушка. Влиятельные граждане, по свидетельству Платона, ставили в вину законодателям всякую попытку изменить законы в отношении владения землей, освобождения от долговых обязательств и вообще всего того, что приводило к равенству имуществ.[4]
В середине V века до н. э. во главе государства стал Перикл, сын Ксантиппа, победившего персов при Микале. Родился он в самом начале V века. В своей политической деятельности Перикл продолжал то, чему положили начало реформы Эфиальта. Завоевательные цели не входили в программу Перикла, но он последовательно стремился к подчинению всех греков власти афинян. Он ограничил возможность получения прав афинского гражданства иноземцами. Он заботился об устройстве общин афинских граждан во владениях союзников и хотел, чтобы власть Афин распространилась на всю Элладу. В настойчивом проведении своих планов Перикл проявлял спокойную выдержку и избегал резких новшеств.
Перикл первоначально опирался на менее зажиточных граждан, которым была очень выгодна введенная им оплата участия в судебных заседаниях, состоявшая первоначально из одного обола в день (около 6 коп.), а затем повышенная до трех оболов.[5] Из государственной казны он отпускал и "зрелищные деньги", служившие для оплаты посещения театра. Способствовал он поднятию благосостояния граждан и тем, что при нем очень усилились общественные работы по сооружению целого ряда зданий, что давало большие доходы из государственной казны не только подрядчикам, но и множеству ремесленников. Но, как только Периклу удалось достигнуть власти, он уже не стал по прежнему подчиняться воле народа и желаниям большинства, а, по словам Плутарха (Перикл, 15), стал придавать своей власти аристократический и "царский" характер.
При Перикле "по имени была демократия, на деле же власть принадлежала первому мужу" (т. е. Периклу), говорит Фукидид (II, 65, 9). Пятнадцать лет подряд его выбирали в стратеги, но военные неудачи 430 г. поколебали его положение: ему было предъявлено тяжелое обвинение в расхищении государственных средств, грозившее смертной казнью.[6]
В оценке личности Перикла существуют большие разногласия. Несомненно одно: Перикл принадлежал к самому передовому слою афинского общества и собирал вокруг себя наиболее просвещенных и даровитых людей своего времени с философом Анаксагором во главе.[7] "Высочайший внутренний расцвет Греции совпадает с эпохой Перикла, высочайший внешний расцвет - с эпохой Александра", - так оценивает Маркс афинскую демократию и Перикла.[8] И в семейной жизни Перикл смело рвал с обычаями старины; так, после неудачной женитьбы на вдове из знатного рода он разошелся с ней и ввел в свой дом уроженку Милета, Аспасию, имевшую на него большое влияние. Отношения Перикла к Аспасии любопытны тем, что в них мы видим новые веяния. Выступление этой женщины, принесшей из Ионии новые нравы и занявшей более широкое место в жизни, чем отводили женщинам афиняне, - это знамение нового времени, наступившего при Перикле. Передовые современники Перикла смело вносили в жизнь и искусство новшества, вызывая злобу и нападки отсталых ревнителей старого быта.
Развитие афинской демократии привело к расцвету архитектуры, скульптуры и живописи. Строительная деятельность Перикла была направлена к тому, чтобы, восстановив здания, разрушенные персами, умножить постройки, как этого требовало значение города, ставшего центром морского союза. Приморский. город Пирей обстраивался по плану ученого Гипподама из Милета, постройками в афинском Акрополе руководили Иктин, Калликрат и Мнесикл. Крупнейшим и лучшим зданием явилось жилище девы-богини Афины - храм Парфенон (стройка шла с 447 по 438 г.). Пять лет (437-432 гг.) ушло на сооружение величественного входа в Акрополь - Пропилеи, выполненное Мнесиклом, использовавшим под картинную галерею одно из боковых помещений Пропилеев (Пинакотека). Положено было начало сооружению храма в честь местного героя Эрехтея.
За пределами Акрополя был построен храм в честь царя Афин Тезея, а на мысе Сунии - храм в честь владыки морей Посейдона. В близком к Афинам Элевсине Иктин расширил и перестроил местный храм. Для этих построек материалом был впервые взят местный драгоценный пентелийский мрамор. Пропорции и детали исконного для Афин дорийского стиля теперь получили дальнейшее развитие и завершение, придав постройкам воздушную легкость. Очень важно было для зодчества Афин и впервые допущенное введение нового, ионийского стиля, получившего затем распространение по всей Греции.
Началось смелое сочетание обоих стилей: внутри зданий с. наружными дорийскими колоннами возвышались местами легкие ионийские.
Следы влияния афинских построек мы находим на Родосе и в Сицилии. Одним из отличительных признаков всех этих сооружений было сочетание в них архитектуры с ваянием и живописью: конструктивное назначение отдельных частей было скрыто обильными скульптурными украшениями, в свою очередь покрытыми яркой росписью.
В кругу Сократа высшими художниками считались: в скульптуре - Поликлет, в живописи - Зевксид.[9]
С такой оценкой Поликлета согласны и другие древние источники.[10] При этом отмечают, что он всех превосходил тщательностью отделки, красотой своих работ; нехватало им только величия: придав человеческому телу особую красоту, он недостаточно выражал традиционное представление о природе богов. Основная заслуга его состояла в том, что он свое творчество строил на строго научном основании, создав так называемый "канон", т. е. учение о строжайшем математическом соответствии всех мельчайших единиц человеческого тела, что являлось необходимым условием красоты. То, чего нехватало Поликлету, находили у Фидия и Алкамена (Квинтилиан XII, 10, 8). Высокая оценка Фидия и в древности и в новое время вполне оправдывается хотя бы теми, выполненными под руководством Фидия, женскими статуями фронтона Парфенона, пышно расцветшее тело которых живет и дышит сквозь тончайшие складки одежды. Замечательные колоссальные статуи Афины-Воительницы, Афины-Девы, статуя Зевса Олимпийского и др. до нас не дошли.
Но как бы ни была широка деятельность Фидия, один он был не в силах собственноручно изготовить все пластические украшения Парфенона. При тщательном изучении этих украшений обнаруживаются различные ступени мастерства, что зависело от степени одаренности многочисленных его учеников и сотрудников, работавших по его плану и под его руководством.
Афины в V веке являлись местом наивысшего расцвета искусств; подобно тому как творчество афинских трагиков находило живой отклик и полное сочувствие и в Македонии и в Сицилии, скульптура Аттики распространила свое влияние далеко за ее пределы. Уже А. Фуртвенглер тонко показал, как сооруженная около 420 г. статуя Афины из Лептиса (сейчас находится в Константинопольском музее) является образцом усвоения аттицизма мастерами провинции. То же самое можно сказать и о лондонских Нереидах из Ксанфа и относящихся к 425- 417 гг. статуях храма Аполлона в Делосе. Таким образом, скульптура явно обнаруживает возникновение того "общего языка" - "койнэ", который объединял постепенно и речь отдельных мест Греции и стран, охотно шедших навстречу ее· влиянию.
Сочетание аттического мастерства с дорийской простотой мы видим и на фризе храма Аполлона в Фигалии (в Аркадии), построенного по преданию создателем Парфенона-Иктином. Его многочисленные сцены мастерски передают оживление напряженных движений, обнаруживая строгое соблюдение наиболее удачных приемов живописи того времени, что является ценным подтверждением мнений тех, кто признает зависимость скульптурных композиций от современных им картин.
От картин живописцев V века ничего не уцелело, но рассказы древних писателей позволяют отчасти определить творческие приемы греческих художников и достоинства их произведений, за которые их ценили современники. Про Зевксида рассказывают, что жители Кротона, зная его мастерство в изображении женского тела, просили его написать им Елену. Он потребовал, чтобы ему показали на гимнастическом состязании красивейших девушек города. Отобрав из них пять, он перенес на картину живую правду.[11] С этим можно сравнить также известный рассказ Плиния (Ест. ист. XXXV, 65) о состязании между Зевксидом и Паррасием, из которых первый нарисовал кисть винограда, а второй - полотно так, что их нельзя было отличить от настоящих.
Эти рассказы показывают, что верная передача природы, бывшая задачей греческих мастеров, высоко ценилась знатоками.
Уроженец острова Тасоса Полигнот "умел отлично передавать в живописи характеры, тогда как Зевксид этого не умел", замечает о нем Аристотель (Поэтика, гл. 6). Он первый стал изображать женщин в просвечивающих одеждах и освободил лица от неподвижности, свойственной картинам его предшественников.[12] Подобно Зевксиду, он также исходил от непосредственного воспроизведения природы, введя в одной из своих картин на эпический сюжет портретное изображение Эльпиники, сестры Кимона.[13]
Приехавший в Афины с Самоса Агафарх расписал сцену для постановки Эсхилом одной из его трагедий и оставил сочинение о театральной живописи.[14]
Из сведений об отдельных художниках V века вытекает, что их мастерство было направлено на достижение правдивости в искусстве путем усовершенствования и развития своей техники. Многие из них соединяли творчество с научным исследованием вопросов искусства; работали они не для отдельных лиц, а для государства, и от этого зависело их положение в обществе. Влияние живописи на другие виды искусства видно хотя бы из того, что сотрудник Фидия, прославленный художник по металлу Мис, работал по рисункам живописца Паррасия.[15]
Около 440 г. афинские мастера преодолели архаизм и достигли высшего развития своего искусства; не довольствуясь формальным совершенством, они вкладывали в свои работы живое содержание. В итоге, их создания являлись живым организмом и служили как бы стройной "декоративной музыкой" (термин Э. Пфуля), создававшей у жителей города и его Многочисленных гостей определенное Настроение, достойное города-гегемона.
Изучение душевной жизни человека оказало благотворное влияние на живопись этой впохи, как доказывает целый ряд вазовых рисунков и терракот, очень глубоко передающих все разнообразие переживаний женщины. Блестящим примером может служить изящная фигура Елены, задумчиво держащей на коленях малютку Эрота.[16] Искусству V века была еще недоступна передача перспективной глубины, и художники довольствовались так называемым "нейтральным" фоном. Мастера эллинизма углубляли фон путем внесения в рельефы и картины деревьев, горных подъемов[17] и т. п. Это должно было распространяться и на декорации сцены и на расстановку актеров.
Основной закон греческого искусства - целесообразность. Лучшие мастера V века умели сочетать внешнюю красоту с тем, для чего предназначались их произведения в жизни. Здания соответствовали своему назначению и окружавшей его местности; и монументальная статуя и маленький сосудик для масла, вышедшие из их мастерских, были в одно и то же время и изящны и рассчитаны на ту точку зрения, с какой на них надо было глядеть.
Отличительной особенностью художественной жизни демократических Афин является стремление мастеров закрепить и обосновать свое творчество при помощи науки. Благотворнейшая связь искусства с наукой, сближающая афинян V века с людьми итальянского Возрождения, в то же время закрепляла в искусстве приемы здорового реализма.
Такие приемы творчества поднимали уровень реализма во всех ветвях искусства того времени[18] и вместе с тем служили отражением характерной для демократических Афин жажды к знанию.
Многие отрасли науки стали возникать под влиянием усложненных условий общественной жизни, и скоро чуть ли не господствующее место среди предметов обучения заняла наука ораторская (риторика). Попытки научного объяснения в эту пору начинают охватывать все стороны жизни: философ Демокрит пишет о тактике и сражениях, появляются книги по коневодству, поваренному искусству наряду с трудами по ритмике и музыке; об устройстве театральной сцены пишет живописец Агафарх и, под его влиянием, философы Демокрит и Анаксагор; Силен издает целый том об архитектурной симметрии; целый ряд писателей излагает устройство осадных машин.[19] Устные чтения о древних поэтах собирали множество слушателей, охотно плативших за это большие деньги.
Наряду с этим очень расширяется выгодная торговля книгами.[20] Отдельные лица собирают себе обширные библиотеки, чем особенно славился Эврипид.
Строитель Гипподам из Милета в особой книге изложил начала правильной планировки городов.[21] Это свидетельствует одновременно и о размерах любознательности людей того времени и об их стремлении связывать исследования с запросами текущей жизни, выводя из собственного опыта свои советы и указания.
Занимают Демокрита и его современников также вопросы языка: появляются попытки деления речи на отдельные ветви и т. п.[22] В итоге получается небывалое углубление мысли, неутомимая жадность к разрешению всего того, на что наталкивает вдумчивых наблюдателей как повседневная жизнь, так и явления природы. Так, Анаксагор посвящает главный свой труд, написанный безыскусственной прозой, наблюдению падения метеорита в 467 г., и, по видимому, это была первая книга, снабженная диаграммами. От нее уцелели значительные отрывки. В отличие от своих предшественников, Анаксагор вместо одного первоисточника всего сущего принимал неисчислимое множество первоначал. Громадное значение он придавал Разуму (Νοῦς), обладающему, на его взгляд, всесторонним познанием всего сущего; в этой силе он видел как бы высшее божество, чем и вызвал обвинение в безбожии.[23] По его словам: "все направляет мыслящий дух".
Астрономические взгляды Анаксагора являются предшественниками воззрений канто-лапласовской теории, а его попытка объяснить превосходство человека над остальными живыми существами близка к взглядам Б. Франклина. Философии Анаксагора отвел широкое место В. И. Ленин в своих "Философских тетрадях".[24]
Успехи положительного знания отразились благотворно на всех сторонах греческой мысли, в частности на истории. Геродот критически относится к преданиям старины, хотя и повторяет доверчиво басни о муравьях, размером меньше собаки и больше лисицы, похищающих золотой песок (III, 102), или о крылатых змеях в Аравии (III, 107). Эта непоследовательность - лучший показатель того, как трудно еще было даже наиболее трезвым умам V века, при всей их любознательности, стряхнуть с себя унаследованные от предков предрассудки.
Как быстро развивалась и крепла мысль афинян в это бурное время, лучше всего показывает сличение истории Геродота с историей Фукидида. Появление их трудов разделяется промежутком не более чем в 20 лет, и однако совсем другим духом веет от труда Фукидида, оставившего те приемы, какими Геродот поддерживал внимание своих читателей. Их сближает лишь одинаковая любовь к родине, но Фукидид ни разу не уклонился в сторону тех занимательных и нравоучительных, но очень наивных рассказов, какими Геродот оживлял свое изложение. И хотя Фукидид верит в историческую действительность не только Гомера (I, 3, 3), но и Эллина (III, 2), его "археология" представляет собой вершину того, что можно было дать при тогдашнем уровне знаний. О своей истории Фукидид был в праве сказать: "Мой труд рассчитан не столько на то, чтобы послужить предметом словесного состязания в данное время, сколько на то, чтобы быть достоянием навеки" (I, 22, 4). Речи, вложенные Фукидидом в уста участников событий, показывают не только высшее развитие техники изложения, но и манеру лучших мастеров политического красноречия (ср. речи Перикла, Никия и др.).
К V веку большие новшества выступают и во врачебном деле. Раньше врачевание было сосредоточено при храмах. Теперь, наряду с этим, стали появляться уже чисто научные приемы изучения болезней, основанные на опыте и наблюдениях, и медицина, крупнейшим представителем которой является Гиппократ нз Коса (460-377 гг.), начинает становиться настоящей наукой.
Гиппократ и его школа рассматривают человека как составную часть вселенной и потому ставят и его здоровье и его недуги в теснейшую связь с общими явлениями природы.
Отсутствие в Греции учреждений, которые выполняли бы задачи не только высшей, но и средней школы, обусловило появление так называемых "софистов", которые, начиная с V века, стали занимать в греческом обществе положение, когда-то принадлежавшее певцам-рапсодам, с той только разницей, что эти "полупрофессора, полужурналисты", как их метко назвал Т. Гомперц, выступали перед своими слушателями не с художественными песнями, а с речами по вопросам науки и политики. Общение с ними должно было не только совершенствовать молодежь в астрономии, геометрии и музыке, но и научить ее лучшему устройству и своего собственного дома и всего государства.[25]
Первоначально слово "софист" обозначало всякого, кто разумел хорошо какое-нибудь дело: "мудрец", "искусник", "изобретатель". С течением времени "софист" стало кличкой, обозначающей особый тип философа, философа-профессионала, учителя философии. Некоторым из них удалось прослыть знатоками сложнейших вопросов, которые они слишком смело разрешали; вдобавок эти учителя мудрости брали за свою работу деньги, что подчеркивает в беседе с Антифонтом противник софистов Сократ, язвительно сопоставляя их с продажными женщинами.[26]
Одним из ценнейших памятников, которые вышли из кругов софистов, является сохранившийся под именем Гиппократа трактат о врачебном искусстве. По своему построению это речь, направленная против какого-то Мелисса, очень умело построенная и очень тонко изложенная. Ее составитель, определенно подчеркивающий, что он не врач, обнаруживает редкую всесторонность своего образования, что и было свойственно большинству софистов. Эта всесторонность позволяет сравнивать софистов с людьми Возрождения типа венецианца Леона-Баттисты Альберти, который блистал и как архитектор и живописец, и как музыкант, прозаик и поэт (писал на родном и латинском языках, сочиняя статьи также и о домашнем хозяйстве). Софисты смело рвали с установленными взглядами большинства. Так, Продик учил, что богами являются полезные человеку силы природы, и тем самым, по замечанию Цицерона,[27] он ничего не оставил от религии.
Софисты очень сильно помогли росту просвещения своих слушателей, занимаясь преподаванием логики, риторики и других предметов, но больше внимания они уделяли внешнему блеску изложения, доведя формализм до крайних пределов.
Протагору приписывали изречение, что "человек есть мера всех вещей, существующих - что они существуют, не существующих - что они не существуют".[28] Стало быть, никакого другого "бытия", кроме того, какое существует в сознании отдельного человека и им воспринимается, не существует.
Протагора изгнали из Афин за безбожие: он говорил, что не знает, есть боги или нет; неясность этого вопроса и краткость человеческой жизни мешают решить спор на этот счет.[29]
В 427 г. явился в Афины Горгий из Леонтин (496-384 или 483- 375 гг.) по делу своей родины. Успех его выступлений был очень велик, и он везде привлекал своими блестящими речами множество слушателей. Основное положение его книги "О природе, или о не-сущем" гласило: "Нет ничего, а если даже что-нибудь и есть, то оно непознаваемо, а если его можно познать, то познанного сообщить другим нельзя".
У него обучение красноречию неразрывно было связано с занятием философией. И он и другие софисты достигали в сущности лишь того, что в конец подрывали веру в достоверность всего, что считалось до них общепризнанной истиной.
В. И. Ленин указывает на совпадение учения софистов с Кантом, Махом и Фейербахом.[30]
Против софистов ополчился крупнейший представитель греческой мысли того времени - Сократ (469-399 гг.). Сын ваятеля Софрониска и повивальной бабки Фенареты, он унаследовал ремесло своего отца и в молодости занимался ваянием. Занятия философией Сократ начал под руководством одного ученика Анаксагора, но потом далеко отошел от своего учителя, и его учение приняло совершенно самостоятельное направление, сосредоточившись на изучении явлений обыденной жизни.[31] Платон и Ксенофонт рисуют нам образ Сократа в беседах и спорах с самыми разнообразными представителями афинского общества на площади, на поле битвы, среди друзей на пиру, перед судом, в тюрьме, в последние минуты жизни перед казнью, избежать которой он упорно не хотел. Яркость образа, нарисованного их мастерской и любящей рукой, соединена, однако, с целым рядом противоречий; Сократ Платона резко отличается от Сократа Ксенофонта, потому что каждый из них не только рисует его таким, какой доступен был его собственному пониманию, но оба они свободно влагают ему в уста свои собственные мысли. Науке поэтому не легко выделить из этих противоречивых свидетельств то, что несомненно принадлежит самому Сократу. Ленин говорит: "Ксенофон в "Воспоминаниях" лучше, точнее и вернее изобразил Сократа, чем Платон".[32]
В отличие от ненавистных ему софистов, Сократ постоянно твердил, что ничего не знает, а только хочет от других научиться. Он побуждал своих собеседников искать мудрость внутри себя, "повивал" их умы, как бы распространяя на мысли ремесло своей матери, ее "майевтику" - повивальное искусство. Сократ искал подлинную мудрость, к которой должен стремиться всякий, и признавал безотносительную ценность правды и человеческой личности. "Я только и делаю, - говорил он, - что хожу и убеждаю каждого, молодого и старого, заботиться раньше и сильнее всего не о телах ваших и не о деньгах, а о душе, чтобы она была как можно лучше".[33]
Сократ сводит все свои наставления к поискам мудрости, как необходимой основы деятельности: надо прежде всего развивать в себе нравственные достоинства (ἀρετή).
Сократ резко выделялся из рядов остальных философов и поднял философию до высоты науки. В этом и заключалась основная причина его громадного влияния на таких мыслителей, как Платон и Аристотель. Сохранилось предание, что когда Сократа упрекали в преданности страстям, он принимал этот упрек, но заявлял, что умеет побеждать свои страсти.[34] Сократ учил, что рабом (своих пороков) является тот, кто не знает, что прекрасно и справедливо.[35]
На обвинение Сократа сильно повлияли "Облака", хотя эта комедия Аристофана и провалилась.
Для правильной оценки Сократа не нужно, однако, забывать, что его учение подрывало основы демократии. Недаром оратор Эсхин рассматривает его казнь как возмездие за то, что он воспитал Крития, одного из тридцати разрушителей демократии.
К последнему десятилетию Пелопоннесской войны внутренние осложнения Афин стали принимать угрожающий характер.
В период Пелопоннеской войны до крайности осложнились политические отношения в Афинском государстве. Высшего развития достигла демократия, но, как обратная сторона рабовладельческого строя, стали вместе с тем все более обнаруживаться признаки вырождения - рост люмпен-пролетариата и деятельность демагогов. С другой стороны, затаившиеся остатки аристократии вели подпольную агитацию в олигархических кружках - "гетериях". Все это порождало обширную политическую литературу всевозможных социальных проектов и политических памфлетов. Многие из них были написаны софистами, например Протагором, Гиппием и др. С целым проектом социального устройства выступил известный архитектор Гипподам Милетский. К сожалению эти сочинения не сохранились, кроме одного, но отклики их видны у Геродота в мнимых речах персидских вельмож перед избранием на царство Дария (III, 80-82), у Аристотеля в "Афинской политии" (гл. 29 и др.) и в некоторых трагедиях Эврипида (см. в "Просительницах" спор фиванского посла с Тезеем, ст. 399-455).
Единственный образец литературы такого рода, дошедший до нас, - небольшой трактат под названием "Государственное устройство афинян" (Афинская полития), ошибочно включенный в сборник сочинений Ксенофонта и потому обычно известный под именем Псевдо-Ксенофонта. Он написан в 425 г. до н. э., и неизвестный его автор открыто называет себя противником демократического строя, но в то же время признает его целесообразность и прочность, так как видит, что за него стоит большинство граждан, которым он обеспечивает жизненные преимущества. "Народ, - говорит автор, -желает вовсе не прекрасных законов в государстве, при которых самому придется быть в рабстве, но хочет быть свободным и управлять, а до плохих законов ему мало дела" (1, 8). Трактат дает любопытнейшую картину состояния современных ему Афин. Это - морская держава, она держит в своих руках все пути (II, 4-6) и со всех концов греческого и даже варварского мира получает все жизненно-необходимое (II, 7; 11-12). В Афинах, как в торговом государстве, денежные отношения играют руководящую роль, и само рабство уже изживает себя: "Где есть богатые рабы, - пишет автор, - там уже невыгодно, чтобы мой раб тебя боялся" (I, 11). "Очень велика, - замечает он, - распущенность рабов и метеков, и нельзя тут побить раба, и он перед тобой не посторонится" (I, 10).
В этом сочинении, несмотря на всю его предвзятость, много метких наблюдений, характеризующих жизнь в Афинах и дополняющих наше представление об афинской демократии в пору ее расцвета.
Яркую картину смуты, вызванной борьбой демократов с олигархами при конце Пелопоннесской войны, дает Аристотель в "Афинской политии" (гл. 29-37). Рядом с этой борьбой политических партий шла упорная борьба против всего нового в искусстве и науке, что ярче всего отразилось в нападках Аристофана на Эврипида, Сократа и на все попытки дать новое направление научной мысли, встречавшие с его стороны сплошное издевательство.[36]
Все вопросы и государственной и личной жизни, в решении и оценке которых расходились представители разных слоев и направлений афинского общества V века, нашли свое полное отражение в трагедиях Софокла и, особенно, Эврипида.
[1] Аристотель, Афинская полития, гл. 24, 3.
[2] Плутарх, Перикл, 12.
[3] Аристотель, Афинская полития, 26, 3; Плутарх, Перикл, 37.
[4] Платон, Законы III, 6, р. 684 d.
[5] Аристотель, Афинская полития, гл. 27,4.
[6] Платон, Горгий 515e.
[7] Плутарх, Перикл, 4—6.
[8] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. I. стр. 194.
[9] Ксенофонт, Воспоминания I, 4, 3.
[10] Плиний, Естественная история XXXIV, 56.
[11] Aur. De inventione II, 1, 1.
[12] Плиний XXXV, 58.
[13] Плутарх, Кимон 4.
[14] Витрувий VII, Предисл. 10.
[15] Павсаний I, 28, 2.
[16] Издана Г. Роденвальдом в Arch. Jahrb., т. 41, 1926, стр. 191—206, табл. 5, где дан подбор близких по настроению вазовых рисунков.
[17] См. статью Г. Крамера в Arch. Jahrb.. т. 40, (1925), стр. 183—205.
[18] Подробности художественной жизни Афин V века излагает Б. В. Фармаковский в очерке: „Художественный идеал демократических Афин“ (П., 1918).
[19] Витрувий, Предисл. к кн. VII, § 11, 12, 14.
[20] Ксенофонт, Анабасис VII, 5, 12 слл.
[21] См. Аристотель, Политика II, 5, 2—10.
[22] См. „Античные теории языка и стиля“, под ред. О, Фрейденберг. Л., 1930, стр. 32 сл.
[23] Плутарх, Перикл 32.
[24] В. И. Ленин, Философские тетради, стр. 275—277.
[25] Платон, Протагор, р. 318 cde.
[26] Ксенофонт, Воспоминания 1,6, 32.
[27] Цицерон, О природе богов I, § 118.
[28] Платон, Теэтет, гл. 8, 152a.
[29] Платон, Теэтет. 162a.
[30] В. И. Ленин, Философские тетради, стр. 278—281.
[31] Цицерон, Тускуланские беседы V, 4, 10; Academica posteriore I, 4, 15.
[32] В. И. Ленин, Философские тетради, стр. 283.
[33] Платон, Апология, гл. 17, р. 29e—30a.
[34] Схолии к Персию. Сатиры IV, ст. 24.
[35] Ксенофонт, Воспоминания IV, 2, 22.
[36] Ср. „Облака“, ст. 234, 385, 404 сл. См. С. Меликова–Толстая, К историй греческой научной мысли (Сб. памяти акад. Н. Я. Марра. Μ. Л., 1939 стр. 387—408).
Глава ΧΧIII СОФОКЛ И ЕГО ДРАМАТУРГИЯ
1. БИОГРАФИЯ СОФОКЛА
По древнему жизнеописанию, Софокл - уроженец афинского дема Колона, прославленного им в трагедия "Эдип в Колоне". Он родился, согласно "Паросской хронике", в 497/496 г. до н. э.,[1] был сыном богатого человека Софилла и, по свидетельству древних, с детства жил в достатке. Он получил хорошее музыкальное образование, благодаря которому внес много новшеств в музыкальную сторону своих пьес и первый будто бы ввел в свои песни фригийский лад, сочетав его с музыкой дифирамбов. Трагическому искусству он учился у Эсхила, с которым у него всегда были хорошие отношения. Слабость голоса заставила его воздерживаться от личного выступления на сцене, и только в трагедии "Фамирид" он играл на кифаре.
Подобно некоторым другим лучшим художникам своего времени, Софокл написал особое сочинение о хоре, известное лишь из ссылок поздних ученых. По свидетельству древнего жизнеописания, Софокл существенно изменил характер представления тем, что увеличил число участников хора с 12 до 15 и ввел третьего актера. Софоклу приписывали учреждение особого товарищества просвещенных людей в честь Муз. Приписывают ему и нововведения в одежде актеров.
Гёте, очень высоко ценивший Софокла и в своих беседах с Эккерманом часто возвращавшийся к нему, заметил, что "никто не знал так сцены и своего ремесла, как Софокл".[2]
Помимо напряженной художественной деятельности, Софокл принимал большое участие в политической жизни своей родины, которую он никогда не покидал, в отличие от Эсхила и Эврипида, несмотря на приглашения тираннов Македонии и Сицилии; вероятно, его собственный взгляд выражен в отрывке (фр. 789), где говорится, что если даже свободный поедет к тиранну, то станет его рабом. Надпись[3] свидетельствует, что в 443 442 г. он был председателем финансовой комиссии (гелленотамиев) и в этой должности ввел изменения в систему взимания податей с афинских союзников.
Сохранились известия[4] относительно общения Софокла с Периклом, вместе с которым ему пришлось участвовать в борьбе против самосских олигархов, причем он вел весьма успешные переговоры на островах Лесбосе и Хиосе. На Хиосе он встретился с молодым поэтом Ионом, описавшим впоследствии эту встречу; извлечение из его рассказа сохранил Афиней (XIII, 81, р. 603 е -604).
Этот рассказ вполне подтверждает отзыв о Софокле Аристофана в "Лягушках" (ст. 82), называющего его обходительным. И вообще Аристофан всегда отзывается· о нем с полным уважением и сочувствием ("Лягушки", 787 сл; "Мир", 531, 695). Комический поэт Фриних говорит, что Софокл прожил долгую жизнь, не перенесши ни одного несчастья. По свидетельству Ксенофонта ("Воспоминания о Сократе" I, 4, 3), Сократ ставил Софокла выше всех трагиков, равняя с ним среди эпиков Гомера, в скульптуре -· Поликлета, в живописи - Зевксида. Древняя эпиграмма (Палат, ант. VI, 145) говорит, что в области трагедии Софокл достоин наибольшей славы. Из более поздних отзывов достаточно указать на то, что Плиний (Ест. ист. VII, 29, 109) называет его первым трагиком.
Женат был Софокл сперва на афинянке Никострате, а затем на уроженке Сикиона Феориде; сохранилось не мало отзывов о его особенно нежной любви к последней, что нашло будто бы отражение и в его произведениях. Сохранились рассказы об увлечениях Софокла гетерами, в том числе Архиппой, с которой он жил уже в старости, что давало повод к остротам современников, и оставил ее наследницей своего имущества (Афиней XIII, 61, р. 592. ab). Древние называют пять его сыновей. Из них с Иофонтом, который был тоже поэтом, у него была распря; на нее намекает Аристофан (..Лягушки", 78). Цицерон (,О старости", 7, 22) рассказывает, что Софокл, до старости занимаясь сочинением трагедий, забросил свои имущественные дела. Сыновья привлекли его к суду и настаивали на том, чтобы его устранили от распоряжения имуществом как слабоумного. Тогда поэт прочел первый стасим трагедии "Эдип в Колоне" и спросил судей, считают ли они эту пьесу сочинением безумца. Судьи решили дело в пользу поэта. Некоторые вносят в этот рассказ поправку, будто дело рассматривалось на семейном совете членов фратрии и сын поэта обвинял отца в том, что он в последние годы Пелопоннесской войны, когда средства государства были очень стеснены, не считаясь с этим, требовал расходов на постановку своей трагедии.
Умер Софокл в 406 г. до н. э.
Наравне с Гомером, Архилохом и Эсхилом Софокла чтили после смерти как героя. Было даже постановлено устраивать ежегодно жертвоприношения в его память.[5] Через сорок лет после его смерти почитатель высокой поэзии - афинский оратор Ликург провел закон о сооружении бронзовой статуя Софокла (копией с нее считают дошедшую до нас мраморную статую Латеранского музея) и о хранении проверенного списка трагедий Эсхила, Софокла и Эврипида в общественном месте, с воспрещением актерам отступать от этого списка при исполнении их пьес.
Однако наряду с этими почитателями Софокла в позднейшую эпоху нашелся александриец Филострат, написавший сочинение "О воровстве Софокла". Наивно подобрав места, совпадавшие в трагедиях Софокла с другими поэтами, в частности с Эврипидом, Филострат обвинял Софокла в использовании чужого текста.
На смерть Софокла откликнулся Фриних. В своих "Музах" он подчеркнул счастливую жизнь и справедливость Софокла Уже после смерти Софокла его внук, сын Аристона, поставил в театре "Эдипа в Колоне". Как известно, поэт вложил в уста Эдипа прекрасное выражение ощущений старости (ст. 607-628).
[1] По древней биографии Софокла год его рождения — 495/494.
[2] Гёте, Разговоры с Экиерманом, перев. Д. В. Аверкиева, ч, I. СПб., стр. 291.
[3] IG, I¹, 237, p. 120 = I², 202, 36
[4] Цицерон, Об обязанностях I, 40, 144.
[5] Ср. Плиний, Естественная история VII, 29, 109.
2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОФОКЛА
Плутарх в жизнеописании Кимона (гл. 9) сообщает, что первая победа юного Софокла, одержанная им при поддержке архонта, вызвала такое недовольство Эсхила, что тот вскоре покинул Афины и удалился в Сицилию. Косвенным подтверждением этого служат указания Плутарха в "Моралиях", что Софокл осуждал чрезмерную напыщенность Эсхила. Осуждал он Эсхила и за то, что тот будто бы писал свои трагедии в состоянии опьянения (VII, р. 125). На надписи (IG II, 977), содержащей списки победителей на состязаниях на празднике Дионисий, восстанавливают имя Софокла, одержавшего 18 побед. То же самое число его побед указывает и Диодор (III, 103), тогда как лексикограф Свида приписывает ему 24 победы. Это противоречие устраняют предположением, что в источнике Свиды указывалось общее число побед трагика, тогда как надпись и Диодор отмечают его победы лишь на городских Дионисиях.[1] Древнее жизнеописание отмечает, что Софокл никогда не получал на состязаниях ниже второй награды.
Сами древние не знали точно числа пьес Софокла: одни приписывали ему 140, другие 130, третьи 133. Новейшие исследователи считают безусловно ему принадлежащими 86 трагедий и 18 драм сатиров. Из них около 40 изображали предания из круга троянских сказаний, 6 - фиванские сказания; очень усердно обрабатывал он сказания родной Аттики и близкого к ней Саламина.
Весьма сомнительно свидетельство древних, будто Софокл первый стал ставить не цельные тетралогии, а отдельные драмы. Самый прием сочетания нескольких пьес в одно целое обусловлен был трудностью уложить в рамки одной пьесы тот эпический материал, обработку которого трагики искони клали в основу своего творчества. Для них отдельная трагедия была лишь составной частью единой пьесы, как акт новой драмы.
Виламовиц-Меллендорф видит основную особенность аттической трагедии в том, что она представляет собой законченное воспроизведение героической легенды. Тем не менее известно, что три трагедии составляли так называемую трилогию, а вместе с замыкавшей их драмой сатиров образовывали тетралогию. Наши сведения насчет этих сочетаний трагедий в более сложное целое настолько неполны, что допускают сомнения: всегда ли трагедии входили в состав тетралогии, и какие именно трагедии составляли отдельные тетралогии. Есть, однако, свидетельства, что в V веке до н. э. все три великих трагика объединяли в тетралогии если не все свои трагедии, то по крайней мере некоторые.
Исследователями отмечено такое большое различие в трех дошедших до нас трагедиях Софокла об Эдипе и его детях, что едва ли они шли в один день. Этому препятствует хотя бы то, что Креонт в "Эдипе в Колоне" совсем не тот, что в "Эдипе царе", а Исмена первой трагедии совсем не похожа на Исмену "Антигоны". Поэтому многие исследователи высказали правдоподобную догадку, что "Антигона" не входила в состав тетралогии общего содержания об Эдипе; точно так же и "Трахинянки" не нуждаются в дополнительных пьесах. "Филоктету" не нужно продолжения. Наоборот, "Аякс" удобно укладывается в одну трилогию с "Тевкром" и "Эврисаком".
В историю мировой литературы Софокл вошел, главным образом, через созданный им образ Эдипа. Древнегреческое предание об Эдипе многими чертами приближается к распространенному кругу народных сказаний, часть которых живет и среди современных греков.[2]
В греческой поэзии сказания об Эдипе были обработаны в не дошедших до нас киклических поэмах - в "Эдиподии", в "Фиваиде", в "Эпигонах" и др. Древнейшее упоминание этого сюжета имеется в том месте "Одиссеи" Гомера (XI, 271-280), где в подземном царстве Одиссею
... предстала Эдипова мать Эпикаста;
Страшно-преступное дело в незнаньи она совершила,
С сыном родным, умертвившим отца, сочетавшися браком.
Скоро союз святотатный открыли бессмертные людям.
Гибельно царствовать в Кадмовом доме, в возлюбленных Фивах
Был осужден от Зевеса Эдип, безотрадный страдалец.
Но Эпикаста Аидовы двери сама отворила,
Петлю она роковую к бревну потолка прикрепивши,
Ею плачевную жизнь прервала; одинок он остался
Жертвой терзаний от скликанных матерью страшных Эриний.
Любопытно отсутствие у Гомера всякого упоминания о детях, прижитых от этого брака, роковая судьба которых так подробно изображалась трагиками. На это обратил внимание уже Павсаний (IX, 5, 5), знавший другую редакцию предания, по которому дети эти были прижиты Эдипом от Эвриганеи, дочери Гиперфанта.
Предания об Эдчпе излагал лакедемонский эпик Кинейтон, время жизни которого точно не известно. Из драматургов этот сюжет обрабатывали в трагедиях Эсхил, Эврипид, Ахей, Теодект, Ксенокл, Каркин, Диоген, Никомах, Филокл, Ликофрон и Геродот. Выступает Эдип как действующее лицо и в "Финикиянках" Эврипида. Эсхил посвятил обработке этого образа свою драму сатиров "Сфинкс", отразившуюся на многих произведениях художественного ремесла. У Эвбула была комедия "Эдип".
Время постановки "Эдипа царя" не установлено.
Содержание трагедии "Эдип царь" следующее. Согласно мифу, фиванский царь Лай похитил у Пелопа его юного сына Хрисиппа, за что его проклинает Гера; она предрекает ему смерть от собственного сына. Лаю сообщает об этом Дельфийский Аполлон. Долгое время брак Лая с Иокастой оставался бездетным. Когда же у них родился сын Эдип, Лай вспомнил об оракуле Аполлона и, проколов младенцу ножки, велел св ему рабу-пастуху забросить ребенка на гору Киферон на верную смерть. Пастух пожалел ребенка и подарил его соседнему коринфскому пастуху, который отнес Эдипа бездетному коринфскому царю Полибу. Царь Полиб усыновил мальчика. Когда Эдип вырос, его однажды назвали подкидышем. Чтобы узнать тайну своего происхождения, Эдип отправился в Дельфы к оракулу Аполлона. Здесь прямого ответа на свой вопрос он не получил, зато узнал, что ему суждено убить своего отца и жениться на своей матери. Тогда Эдип решает навсегда покинуть Коринф и отправляется в Фивы. По дороге у него произошла ссора с встречными путниками. В драке Эдип убил их всех, кроме одного, спасшегося бегством. В числе убитых был и настоящий отец Эдипа- Лай, а спасся бегством тот самый пастух, который когда-то унес младенца-Эдипа на Киферон. Фиванцы тщетно ищут исчезнувшего царя. Между тем город постигает страшное бедствие: появившееся крылатое чудовище - Сфинкс сбрасывает фиванских граждан одного за другим в пропасть. Эдип избавляет город от Сфинкса, разрешив заданные ему Сфинксом загадки, после чего Сфинкс должен был броситься со скалы: Эдип становится царем Фив и женится на своей матери Иокасте. У них рождаются дети - Этеокл, Полиник, Антигона и Исмена. Смерть Лая, между тем, остается неотмщенной, и Аполлон решает покарать убийцу: Фивы постигает чума. С этого и начинается действие трагедии Софокла.
Эдип шлет своего шурина Креонта в Дельфы вопросить Аполлона о средстве, которое избавило бы Фивы от мора. Креонт приносит ответ, что подлинный виновник бедствия находится в самом городе. Постепенно, по ходу трагедии, разъясняются все подробности неумышленной, но тяжкой вины Эдипа. Трагедия заканчивается самоослеплением Эдипа и отказом его от фиванского престола в пользу своих сыновей.
Аристотель (Поэтика, гл. II, р. 1452a) особенно хвалит построение "Эдипа царя" за то, что в нем так называемая "перипетия", т. е. перемена происходящего в противоположное, совпадает с "узнаванием" в сцене, когда вестник, пришедший для того, чтобы обрадовать Эдипа и избавить от страха перед матерью, объяснив ему, кто он на самом деле, произвел противоположное действие (ст. 924 слл.; 1123, слл.). Стройность построения "Эдипа царя" дает строго последовательное развитие всего действия трагедии и раскрывает характер самого Эдипа, который под влиянием развертывающихся событий переходит в конце трагедии к настроению и состоянию, противоположным тем, которые были в начале трагедии. В русской литературе есть много обзоров построения "Эдипа царя".[3] Критик и драматург Д. В. Аверкиев в исследовании "О драме"[4] очень обстоятельно разобрал и самую трагедию и характеры главных действующих лиц, сравнивая трагедию с "Королем Лиром" Шекспира по примеру английских критиков, начиная с Шелли.
В "Эдипе царе" есть несколько диалогов, построенных с редким мастерством: Эдипа и Креонта (ст. 94-131; 543-582, 622-630), Эдипа и Тиресия (ст. 316-379). Здесь выдержано строжайшее соответствие в объеме речей собеседников; каждое слово подобрано очень умело, нет ничего лишнего; и страсти и мысли говорящих непрерывно развиваются; каждая следующая пара реплик вызвана и подготовлена предыдущим ходом спора. Такая форма диалога могла возникнуть лишь в городе, где словесные состязания в народных собраниях и судах развили во всем совершенстве ораторское искусство и приучили слушателей ценить и понимать красоту и тонкость словопрений. Особенно удалась встреча Эдипа с вещим старцем Тиресием: пылкая несдержанность теряющего под собой почву Эдипа, едва владеющего собой в порыве раздражения, разбивается, как о скалу, о спокойную сдержанность старца, мудрая осторожность которого не доходит до затемненного гневом сознания царя. Здесь мастерство слова вполне подчинено исчерпывающей обрисовке взаимных противоположностей характера участников диалога. Так же хорошо построена и беседа Эдипа со старым слугой, каждое слово которого подрывает последние надежды царя (ст. 1141-1181).
Образцом сложнейшего приема построения диалогов - стихомитии, является беседа Эдипа с вестником из Коринфа (ст. 1007- 1046). Разное настроение у Эдипа и у его жены вызывает известие о смерти Полиба (ст. 945 слл.): Иокаста, жадно цепляющаяся за всякую возможность успокоить Эдипа, подчеркивает, что теперь их тревоги рассеяны (ст. 986); но известие только на время облегчает их взволнованные сердца (ст. 1004); это лишь передышка перед новым испытанием, которое постигнет их, когда раскроется тайна рождения Эдипа (ст. 1182-1185). Благодаря разнообразию и сменам настроений, переходам от одного чувства к другому, противоположному, роль царя Эдипа предоставляет полную возможность исполнителю показать все богатство своих художественных приемов и в них обнаружить глубину своих чувств.
Продолжением "Эдипа царя" служат трагедия "Эдип в Колоне", связанная с местом рождения Софокла и написанная им уже в преклонном возрасте.
Содержание трагедии "Эдип в Колоне" посвящено разработке мифа о кончине Эдипа, Угнанного из родного города сыновьями и находящего конец своим скитаниям в афинском предместьи Колоне. Здесь Эдип примиряется с дельфийским богом и чудесно исчезает от взоров людей в подземной пещере, чтобы навсегда остаться гением-хранителем гостеприимно приютившей его Аттики.
Еще древние грамматики отмечали "дивные" достоинства "Эдипа в Колоне", где поэт выразил свою любовь к родине, в частности к родному дему. Действительно, драма во многих местах содержит прославление Афин (ст. 108, 260 слл., 632 сл., 708 сл., 727, 1013, 1071, 1095, 1125-1127). Прекрасна песнь хора, рисующая природу Колона с его богатой растительностью (ст. 668 сл.).
Один из древних грамматиков - Салустий в предисловии к "Эдипу в Колоне" отмечает достоинства построения трагедии. И действительно, здесь престарелый драматург показал в искусно развивающемся диалоге все богатство своей техники, мастерски сплетая речи действующих лиц с выступлениями хора, чутко откликающегося на все, что происходит перед ним.
Вместе с тем эта трагедия страдает чрезмерным многословием действующих лиц, начиная с самого Эдипа, и действие развивается в ней очень медленно, в чем видят следы старческого упадка сил драматурга. Несмотря на чрезмерный объем трагедии, самую смерть Эдипа и его прощание пришлось изложить в виде рассказа вестника (ст. 1595-1666). Трагедия замыкается сильной и трогательной сценой оплакивания Эдипа дочерьми (ст. 1670-1750). Здесь еще ярче раскрывается прекрасная душа Антигоны, так глубоко переживавшей беду, постигшую ее брата (ст. 1414, 1443). Очень знаменательно место в трагедии, где Эдип настаивает на том (ст. 978), что свой грех с матерью он совершил не по своей воле. Здесь можно видеть следы новых нравственных учений, вменяющих человеку лишь деяния, совершенные им по доброй воле, и сознательно.
"Эдип в Колоне" отличается от других пьес Софокла тем, что роли его исполнителей не могут быть распределены между тремя актерами.[5]
Дальнейшая судьба детей Эдипа изображена в "Антигоне", содержание которой сводится к следующему. Креонт, к которому после смерти сыновей Эдипа - Этеокла и Полиника - переходит фиванский престол, издает приказ о лишении погребения Полиника, приведшего аргосские войска против родного города. Но сестра Полиника Антигона совершает надгробные возлияния над телом брата. За это Креонт приговаривает ее к смерти. Гемон - сын Креонта и жених Антигоны - умоляет отца помиловать его невесту. Креонт отказывает ему, и Гемон в отчаянии убегает. Появляется слепой прорицатель Тиресий и сообщает Креонту, что боги восстают против него за его бесчеловечный поступок. Креонт решает уступить и отправляется в склеп, чтобы освободить заточенную Антигону. Но она уже покончила с собой. Гемон, проклиная отца, на глазах у него закалывается мечом, а мать его Эвридика, узнав о смерти сына, тоже кончает жизнь самоубийством. Креонт остается совершенно разбитым нравственно.
"Антигона" написана до Самосской войны 440-439 гг. Софокл очень сильно отступил от того толкования сюжета, какое дал Эсхил в "Семерых против Фив". У Софокла выдвинуто на первое место отношение отдельного человека к городу-государству, с законами которого в непримиримом противоречии находится семейное чувство. Если Креонт стоит на страже "установленного" закона (νόμοι προκείμενοι, ст. 481, ср. "Эдип царь", 865), то для Антигоны выше всего неписанные незыблемые законы богов (ст. 454). Борьба, положенная в основу всего драматического действия этой трагедии, развивается потому, что женщина является героической хранительницей не изжитых еще законов крови. Я. П. Полонский сохранил в своих воспоминаниях такие замечания И. С. Тургенева об этой пьесе: "Развивая теорию трагического, Иван Сергеевич привел в пример Антигону Софокла: "Вот это трагическая героиня! Она права, потому что весь народ, точно так же как она, считает святым делом то дело, которое она совершила (погребла убитого брата). А в то же время тот же народ и Креонта, которому вручил он власть, считает правым, если тот требует точного исполнения своих законов. Значит, и Креонт прав, когда казнит Антигону, нарушившую закон. Эта коллизия двух идей, двух прав, двух равнозаконных побуждений и есть то, что мы называем трагическим".
Хотя большинство издателей и признало ст. 904-920 "Антигоны" за позднейшую вставку, резко отличающуюся и по языку от остальных частей трагедии, но Георг Кайбель как раз на этих стихах строит новое толкование завязки трагедии.[6] Здесь Антигона, подобно жене персидского царя у Геродота (III, 119), из всех родных ближе всего считает брата и ему воздает высшую почесть, несмотря на запрет Креонта. Здесь она поступает в силу законов рода, главой которого после смерти Эдипа остался ее брат. Креонт из другого рода, и потому он идет против нее. Это толкование вызвало возражение Э. Броука и других, но необходимо иметь в виду, что Аристотель ("Риторика" III, 16, р. 1417a) считал эти стихи принадлежащими "Антигоне" Софокла. В "Антигоне" сцена между Креонтом и стражем (ст. 249-331) показывает, что Софокл менее всего заботится о точном воспроизведении речей так, как они при настроении участников должны были складываться: Креонт слишком взволнован и слишком хочет узнать, в чем дело, а вместе с тем терпеливо слушает длинный рассказ стража (ст. 249-277). И сам он отвечает слишком пространно (ст. 280-314). Затем между ними развертывается стихомития (ст. 315-323), замыкаемая обменом кратких речей их обоих (ст. 324-331). Ясно, что в таком построении естественное и свободное течение речей изменено ради строго закономерной их художественной обработки.
Существует бесчисленное множество попыток определить, в чем именно состояла так называемая "трагическая вина" Антигоны. Самая распространенная - та, по которой Антигона гибнет за свою ὔβοις - самоуверенность, позволившую ей не подчиниться закону. Но уже Буркхардт решительно осуждал эти попытки: на его взгляд, ни Эсхил не считал виноватым своего Ореста, ни Софокл - свою Антигону.
Очень важно установить, насколько приказ Креонта - оставить тело Полиника без погребения соответствовал аттическим законам. Исторические примеры позволяли исследователям указывать на нарушение Креонтом закона: предателя нельзя было хоронить в родной земле, где соприкосновение с его останками осквернило бы страну, - его надлежало хоронить за ее пределами, но никоим образом не оставлять непогребенным.[7]
По мнению Гёте,[8] в "Антигоне" образ действий Креонта зависит только от его ненависти к покойнику. Он говорит (там же), что Креонт введен в пьесу "отчасти ради Антигоны, чтобы показать ее благородную натуру и правоту ее дела, а отчасти ради себя самого, дабы явить нам свое несчастное заблуждение, как нечто ненавистное".
В ход действия "Антигоны" введены хоровые песни, по глубине содержания и по совершенству отделки представляющие собой высшие образцы лирики не только древней поэзии. Такова, прежде всего, песнь (ст. 332-364), в которой после перечисления всех побед человека над природой, всех богатств дарований "многоумного человека" в заключение говорится о неотвратимости смерти.
Замечательна другая песнь, которую хор поет после объяснения Креонта с сыном. Сын Креонта, юный Гемон, смело заступается за Антигону, вопреки воле отца; ни одним словом он не выражает своей любви к Антигоне, но зритель чувствует, что, не любя ее, он не стал бы так сильно нападать на отца (ст. 726-765); отец это понял и упрекает сына за то, что он раб женщины (ст. 740, 746, 750); хор после ухода их обоих поет (ст. 781-790):
Эрос, бог всепобеждающий,
Бог любви, ты над великими
Торжествуешь, а потом,
Убаюканный, покоишься
На ланитах девы дремлющей.
Пролетаешь чрез моря,
Входишь в хижину убогую.
Ни единый в смертном племени,
Ни единый из богов,
Смерти чуждых, не спасается,
Но страдают и безумствуют,
Побежденные тобой.
(Перев. Д. Мережковского)
Этот прелестный образец любовной лирики показывает все разнообразие и богатство поэтических красок Софокла.
Глядя на Креонта, потерявшего все, что ему было дорого, и познавшего в гибели своих близких, что его постигла страшная кара богов, хор кончает трагедию так:
Стремишься ли к счастью, - ты прежде всего
Будь мудрым и воли бессмертных,
О смертный, во век не дерзай преступать
И верь, что за дерзкие речи
Постигнет безумца великая скорбь
И мудрости поздней научит.
(Перев. Д. Мережковского)
Поэтические достоинства Софокла оценил композитор Феликс Мендельсон-Бартольди (1809-1847), написавший к "Эдипу царю" и "Антигоне" музыку, причем классическая строгость его форм, в сочетании с нежностью романтического настроения, особенно счастливо раскрылась в музыке к "Антигоне".
Новейшие критики считают "Антигону" весьма близкой настроениям нового времени. Отто Людвиг находит, что Софокл по-шекспировски изобразил в трагедии силу судьбы над человеком. Подобно Шекспиру, Софокл выводит ее не из сверхъестественного предопределения, а из проступков самого человека, гибнущего под ее ударами: Креонт из упрямства обрекает на смерть возлюбленную своего сына. Не имея сил спасти ее, юноша умирает вместе с ней; его смерть вызывает смерть матери, и эти две смерти являются возмездием для Креонта, действовавшего сознательно в отличие от Эдипа, Аякса, Деяниры.[9] Признавая "Эдипа" наиболее театральной из всех древних пьес, Людвиг усматривает отличие этой трагедии от шекспировских в том, что участь Эдипа зависит не от нравственных его свойств, а от каприза богов и от рока.[10]
Гегель считал "Антигону" самым совершенным образцом трагического столкновения государства и семьи.
В "Антигоне" Креонт говорит (ст. 295-301), что нет для людей большего зла, чем деньги:
... деньги - зло
Великое для смертных: из-за денег
Обречены на гибель города,
И отчий кров изгнанник покидает;
И, разврати· невинные сердца,
Деяниям постыдным учат деньги,
И помыслам коварным, и нечестью.
(Перев. Д. Мережковского).
На это место вместе с выпиской из "Тимона Афинского" ссылается Карл Маркс в "Капитале" (т. I) в примечании к словам: "Античное общество поносит поэтому деньги как монету, на которую разменивается весь экономический и моральный уклад его жизни".[11]
В "Антигоне" особенно хорош язык, причем Софокл нашел различный стиль для Креонта и Антигоны, вполне соответствующий образу мыслей и характеру каждого из них.
Дальнейшую судьбу дочерей Эдипа иными, чем Софокл, красками обрисовал Стаций в своей "Фиваиде" (XI, 560 сл.; XII, 371-463). Он подчеркивает, что они пренебрегли законной властью (XII, 453), видит в их участи победу Креонта (XII, 443), а затем, исходя из того образа, какой создал Софокл в "Эдипе в Колоне", самыми сочувственными красками рисует великодушие царя Тезея (XII, 778-795). Возможно, что он здесь зависит от не поддающейся теперь точному установлению обработки этих лиц в какой-нибудь поздней трагедии.
"Электра" написана, вероятно, в промежуток между 419 и 415 гг.
Сюжет "Электры" совпадает с "Хоэфорами" Эсхила. Орест, спасенный своею сестрой Электрой от неминуемой смерти, через много лет, став юношей, приходит в Микены и убивает свою мать Клитеместру за то, что она некогда убила его отца - Агамемнона.
В основу сюжета о мести за убийство Агамемнона легло предание, обработанное в киклической поэме о возвращении героев из-под Трои. На это предание указывает то место "Одиссеи" (III, 304), где сказано, что на седьмом году владычества в Микенах Эгисфа туда пришел из Афин Орест и убил убийцу своего отца. В "Одиссее" неоднократно (I, 29; III, 198; IV, 546) говорится об убийстве Орестом Эгисфа и указывается, что он совершил погребение "преступницы матери вместе с Эгисфом презренным" (III, 310).
Свою "Электру" Софокл построил очень просто. Он удержал две подробности трилогии Эсхила: сон и находку локона у могилы отца. Однако эту основную пружину действия у Эсхила Софокл превратил в средство для развития только двух диалогов между сестрами.
В "Орестее" Эсхила Электра - только служебная фигура, нужная для развития действия. Эта сдержанная, униженная девушка, отдалившаяся от матери, живет любовью к своему брату, находящемуся далеко, и надеждами на божескую помощь. Советы хора заставили ее молить богов о ниспослании мстителя за убитого отца. Молитва ее была услышана. Приход брата поддержал и ободрил ее; своими заботами она помогала брату справиться с его задачей.
Софокл сумел вполне использовать обильные зачатки художественного образа, какие таятся у Эсхила в его наброске. Развивая его материал, Софокл создал свою Электру. Электра Софокла почти все время находится перед зрителем, удаляясь лишь на время исполнения короткой песни хора (ст. 1383-1397). Она служит для поэта как бы зеркалом, в котором непрерывно отражается весь ход трагедии.
Чтобы показать личные особенности характера Электры, заставившие ее переживать события совсем иначе, чем это сделала бы всякая другая дочь на ее месте, Софокл поставил рядом с ней ее родную сестру Хрисофемиду, использовав тот же прием противопоставления характеров, который он применил в "Антигоне". Сестра Электры способна понять все зло, обрушившееся на их семью, и возненавидеть его виновников, но слишком слаба для того, чтобы рисковать жизнью ради отмщения злодеям. Это-то и создает пропасть, разделяющую обеих сестер. Электра неспособна видеть в справедливости одно лишь прекрасное, но отвлеченное понятие. Она должна претворить свою мысль в определенное деяние, чего бы это ей ни стоило. Ее сестра сознает свое бессилие. Подчеркнув слабость Хрисофемиды, Софокл отнял у зрителя возможность гневаться на девушку, так искренне сознающую свой недостаток (ст. 338), и этим придал ее характеру жизненную правдивость. Так же жизнен и до мелочей, правдив образ самой Электры. В обрисовке ее характера Софокл сумел глубоко заглянуть в душу человека: актер Пол, игравший ее роль вскоре после смерти своего сына, сумел придать такую правду своему замыслу, что зрители, глядя на его игру, видели, по отзыву древних,[12] подлинное страдание.
В "Электре" Софокла и Эврипида выступают педагог и старец, представляющие собой развитие образца Талфибия древнего предания. Ни тот, ни другой не имеют личного имени, по исконному обычаю трагиков оставлять безыменными всех второстепенных участников пьесы. У Эврипида он воспитал Агамемнона и Электру, а затем спасает Ореста и помогает ему выполнить свое дело мести. Хрисофемида введена Софоклом в драму на основе "Илиады" (XI, 143), а дальше им переработан рассказ его друга Геродота (1, 108) о вещем сне Манданы. Самой Электры у Гомера еще нет.
Содержание "Трахинянок" таково: Геракл благополучно закончил свой последний подвиг, разрушив город Эхалию. Он возвращается к своей жене Деянире, живущей на чужбине у трахинского царя. Неожиданно Деянира узнает, что среди пленниц, которых прислал ей Геракл, находится эхалийская царевна Иола, возлюбленная Геракла. Желая вернуть расположение мужа, Деяниоа вспоминает о любовном средстве, завещанном ей кентавром Нессом, надеясь этим вернуть утраченную любовь мужа. Но Несс обманул Деяниру, и на самом деле она посылает в подарок Гераклу плащ, пропитанный ядовитой кровью Несса. Отрава поражает Геракла. Не будучи в состоянии вынести мучений, он решает сжечь себя на костре, а Деянира, убедившись в своей ошибке, кончает самоубийством. Умирая, Геракл велит своему сыну Гиллу взять Иолу себе в жены.
Вопрос о времени сочинения "Трахинянок" - спорный. Вебстер,[13] основываясь на особенностях композиции и стиля, относит их ко времени вскоре после "Антигоны". Но другие думают, что "Трахинянки" написаны после "Безумного Геракла" Эврипида, но вторую половину Пелопоннесской войны. В основу их содержания положено предание, которое обработал и Бакхилид. Основа содержания ,;Трахинянок" Софокла - убийство мужа женой - напоминает сюжет "Агамемнона" Эсхила Поводом к убийству в обеих трагедиях служит ревность к пленнице - Иоле у Софокла, Кассандре у Эсхила. Но характеры мужей и жен в обеих трагедиях различны. Однако Вебстер показал, что, несмотря на эти отступления, у Софокла есть примеры прямой зависимости от "Агамемнона" - не только в отдельных выражениях, но и в самом построении некоторых сцен. К сходным явлениям Софокл подошел, однако, совсем иначе, вводя в их освещение мысли ионийской философии, чуждые Эсхилу. В "Трахинянках" Софокл дал Деянире слишком много длинных речей, каких нет у участников других его трагедий, Такие же длинные речи произносит и Геракл (ст. 1046- 1111, 1156-1179); его роль должен был исполнять тот же протагонист, который сперва изображал Деяниру. Из речей зритель узнает и о событиях, направляющих ход действия (ст. 740 сл., 900 сл.), и это ослабляет впечатление от всей трагедии. Зато отдельные песни хора содержат подбор очень удачных, ярких и трогательных образов (ст. 950-970). В то же время глубокие переживания Деяниры, ее ревность (ст. 584), отчаяние при известии о страданиях мужа (ст.740 слл.) даны только в виде намеков, слабыми красками, быть может для того, чтобы сберечь все силы актера для той заключительной сцены, где Геракл узнает о гибели жены (ст. 1129 слл.). Все построение ролей Геракла и Деяниры как будто сделано поэтом с учетом особенностей дарования того актера-протагониста, который должен был исполнять обе эти роли.
"Филоктет" написан в архонтство Главка в 409 г. до н. э. "Илиада" называет (II, 720-725) Филоктета "стрельцом превосходным", который привел под Трою из своей земли на семи кораблях
...Сильных гребцов и стрелами искусных жестоко сражаться.
Но лежал предводитель на острове Лемне священном
В тяжких страданьях, где он оставлен сынами ахеян,
Мучимый язвою злой, нанесенною пагубной гидрой.
Там лежал он, страдалец. Но скоро ахейские мужи,
Скоро при черных судах о царе Филоктете воспомнят.
Содержание "Филоктета" дало Софоклу возможность проявить большое мастерство характеристики и тонкость психологического анализа. Для взятия Трои вдруг понадобилось оружие Геракла, принадлежащее Филоктету, которого некогда ахеяне коварно покинули на острове Лемносе в одиночестве, с мучительною болью от неисцелимой раны. Добыть это оружие берутся Одиссей и Ахиллесов сын Неоптолем. Первый предпочитает достигнуть своей цели путем обмана и хитрости и успевает склонить к тому же и своего младшего товарища, человека прямодушного и благородного. Против своей воли Неоптолем уступает Одиссею, но его нравственное чувство возмущается этой недостойной, насильно навязанной ему ролью, и напоследок он все-таки оказывается неспособным выдержать ее до конца. В борьбе юноши между внушениями расчета и нравственными побуждениями - главный интерес драмы. Истинным героем "Филоктета" является сын Ахиллеса - Неоптолем, юноша правдивый и благородный. После мучительной борьбы он освобождает себя от обещания, данного Одиссею, и возвращает беспомощному Филоктету его оружие, несмотря на уговоры и угрозы хитрого Одиссея. Для Неоптолема лучше честное поражение, чем победа, купленная ценой обмана. Сочувствие Софокла на стороне Неоптолема и Филоктета, а их противник Одиссей, для которого нет дурных средств, если только они ведут к цели и выгоде, обрисован самыми отрицательными красками. План Одиссея, так хитро придуманный и так тонко приводимый в исполнение, под конец рушится, и Одиссей остается посрамленным.
Гёте отзывался очень одобрительно о "Филоктете" Софокла и радовался тому, что эта трагедия сохранилась целиком.[14] На этой трагедии он именно и показывает, что никто, как Софокл, "не знал так сцены и своего ремесла".
В "Аяксе", одной из ранних драм Софокла, представлены последствия безуспешной борьбы Аякса с Одиссеем за обладание оставшимся после смерти Ахиллеса оружием, которое сделал бог Гефест. Потерпев неудачу в своих притязаниях на драгоценное наследство, Аякс теряет рассудок и в припадке исступления избивает стадо ахейских быков и овец. Когда сознание вновь возвращается к нему, он испытывает раскаяние, стыд, чувства бессильной злобы и страха, что он будет осмеян всеми. Эти чувства все больше овладевают его душой и доводят несчастного до самоубийства. Враждебные покойнику Атриды хотят лишить его тело чести погребения. Тогда Тевкр, брат Аякса, ополчается на защиту божеского закона, попираемого этим распоряжением своевольных вождей. После долгих препирательств, благодаря поддержке Одиссея, Тевкр остается победителем и с почетом предает земле дорогие останки.
У Гомера (Од. XI, 549) Аякс - герой, "и видом своим и своими делами всех аргивян превышающий после Ахиллеса".
Пролог "Аякса" открывается речью Афины, переходящей затем в пространный диалог с Одиссеем (ст. 36-133), прерывающийся в середине ее диалогом с Аяксом (ст. 97-117).
"Аякс" по настроению еще близок к трагедиям Эсхила. В основу его положены предания "Малой Илиады" и "Одиссеи" (XI, 547).
Трогательный образ несчастной подруги Аякса создал Софокл в Текмессе: Аякс разрушил ее родной город, причем погибли и отец ее и мать (ст. 513 сл.), а сама Текмесса стала его рабой (ст. 489). Его любовь заменила несчастной родину и богатство, и в нем одном все ее спасение (ст. 518-519). Его безумие, о котором Текмесса подробно рассказывает (ст. 201 слл.), глубоко ее волнует потому, что для нее "нет жизни без Аякса" (ст. 393); она предвидит, что ждет ее и их сына после смерти Аякса. Она говорит Аяксу (ст. 498 слл.):
... в тот же самый день меня
Насилием Аргивяне похитят
И сына твоего для рабской доли.
И новый господин к нам обратит
Привет обидный ...
(Перев. Д. И. Шестакова)
После смерти Аякса горе Текмессы выражается только в скорбном вопле: "Погибла я, пропала, смерть моя!" (стр. 898), но затем, овладев собой, она возмущается отношением Атридов к Аяксу (ст. 961-969):
Пускай, смеясь, злорадствуют над нашей
Бедой; пускай живого не любили.
По мертвеце поплачут в час нужды.
Дурному сердцу доброго борца
И не понять пока не потеряют.
Мне умер он на скорбь, а им на сладость,
Себе ж на радость: он чего хотел.
Достиг себе, достиг желанной смерти;
Чего ж они смеются над Аяксом?
(Перев. Д. И. Шестакова)
Все поведение Текмессы показывает, какой верной подругой была она Аяксу. Зритель еще больше начинает ценить Аякса, если он сумел внушить такую любовь рабыне.
"Любовь, - говорит Текмесса, -всегда родит одну любовь" (ст. 522).
В Риме трагедия Софокла"""Аякс" послужила материалом для переделок многих трагиков: Энния, Акция и Пакувия - во II веке до н. е. Пытался написать трагедию об Аяксе и Август, но уничтожил свой набросок.[15]
В "Аяксе" Тевкр напоминает афинским гражданам, что Менелай - царь Спарты и на афинян его власть не распространяется (ст. 1102); исследователи правильно полагают, что это презрительное отношение к Спарте должно было для афинян звучать, как сладкая музыка сирен.
Из сатировской драмы "Следопыты" долгое время были известны только три незначительных отрывка, но в XX веке среди Оксиринхских папирусов (IX, 1912, 30-86, № 1174) нашлось около 400 стихов этой драмы, относящихся к ее началу. Участвуют в ней Аполлон, произносящий пролог, Гермес, Силен, нимфа Киллена и хор сатиров. Разыгрывалась драма среди гор, перед пещерою Киллены, что типично для этого вида драмы, для которой сцена украшалась, по словам римского архитектора Витрувия (V, 6, 9), "деревьями, пещерами, горами и прочими особенностями сельского пейзажа". Начинал пьесу Аполлон жалобой на то, что у него похищены его стада, и обещанием награды тем, кто найдет и стада и вора. Силен, откликаясь на этот вызов, предлагает свои услуги, а также услуги своих детей-сатиров, в награду за что Аполлон обещает ему свободу. После песен и плясок (так называемая "сикиннида") хора сатиров выступает Киллена, упрекающая сатиров за слишком шумное и непристойное поведение. Дальше она рассказывает, как в этой пещере Зевс, тайком от Геры, вкусил любовь Майи, дочери Атланта. Майя отдала рожденного ею ребенка на воспитание Киллене. Младенец рос не по дням, а по часам и изобрел лиру. Из ее неосторожных слов догадливый сатир заключает, что этот-то божественный ребенок и похитил стада Аполлона. Киллене приходится оправдывать своего питомца. На стихомитии между сатиром и Килленой обрывается отрывок папируса; дальнейшее развитие пьесы восстанавливается по гомеровскому гимну в честь Гермеса, от которого Софокл отступил в том, что Киллене отвел в своей драме место, принадлежащее в гимне матери Гермеса - Майе. Большинство исследователей полагает, что в не дошедшей части пьесы выступали в состязании оба бога - Гермес и Аполлон. Найденные отрывки доказывают, что здесь Софоклу удалось ярко показать хитрую природу сатиров, дать простор их пляскам и песням и в итоге создать очень живую, полную одушевленных движении шутку.
"Следопыты" блестяще оправдали слова Деметрия Фалерского (De eloc. 169), очень удачно назвавшего этот вид драмы "шутливой трагедией". В ней с большой силой сказалась основная страсть греков к гармоническому сочетанию всех искусств В ней мы видим мастерское соединение красивой внешней обстановки с тончайшими словесными состязаниями, оправленными в яркую музыкальную оболочку; звуки удачно гармонируют здесь с самыми смелыми движениями необузданной пляски. "Следопыты" гораздо ближе, чем "Киклоп" Эврипида, подходят к своему эпическому источнику, каким явился гомеровский гимн.
[1] П. В. Никитин, К истории афинских драматических состязаний. СПб., 1882, стр. 55.
[2] Сюда относятся апокрифы об Иуде, известные в латинской, итальянской, английской, шведской, испанской, немецкой, французской и русской обработке (см. С. В. Соловьев, К легенде об Иуде–предателе. Харьков, 1895). С ними сплелись предания о страдальце: сохранившиеся шесть болгарских легенд о Павле из Кесарии, сербская — о найденыше Симоне, русская — о св. Андрее и т. д.
[3] См. например, издание трагедии „Эдип царь“ с примечаниями и введением О. Петрученко, М., 1886, стр. 17—31.
[4] 2–е изд. М., 1892, стр. 50-70.
[5] См. гл. XX, § 5. стр. 299.
[6] G. Kaibel, De Sophoclis Antigona. Геттинген, 1897.
[7] Ф. Мищенко, Антигона и Креонт (Филологическое обозрение, 1901, т. XX, стр. 40—62).
[8] Гёте, Разговоры с Экиерманом, ч. I, стр. 308.
[9] O. Ludwig, Shakespeare Studien, 1901, стр. 13.
[10] Там же, стр. 164.
[11] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. XVII, стр. 147-148.
[12] Авл Геллий, Аттические ночи VI, 5.
[13] T. B. L Vebster. An introduction to Sophocles, Оксфорд. 1936
[14] Гете. Разговоры с Эккерманом, ч. I. стр. 29.
[15] Светоний, Жизнь Августа, гл. 85.
3. ДРАМАТУРГИЯ СОФОКЛА
Все дошедшие до нас трагедии Софокла обнаруживают его уменье выбирать из очень сложных преданий такую простейшую часть, которая, однако, позволяет ему показать разнообразие характеров и осветить глубиной философской мысли сложнейшие стороны человеческой жизни.
Человек убил, не подозревая того, отца и женился на родной матери. Его переживания, связанные с раскрытием этих проступков, являются содержанием трагедии "Эдип царь".
Девушка ждет прихода брага с чужбины, надеясь, что он накажет их злую мать за убийство отца. Ее ужас при известии о смерти брата, радость, когда это известие оказалось ложным, ее чувства, возникшие в связи с выполнением мести, составляют содержание "Электры".
Престарелый правитель, изгнанный из родного города и призывающий благодать на граждан, давших ему убежище после долгих лет изгнания, изображен в "Эдипе в Колоне".
Девушка вопреки приказу правителя города хоронит своего брата, затеявшего междоусобную войну; за это она осуждена на смерть; ее казнь вызывает смерть ее жениха, сына правителя, и его матери, - таково содержание "Антигоны".
Непобедимый герой гибнет в муках от дара, присланного ему женой, которая хотела вернуть к себе изменившего ей мужа, а жена налагает на себя руки, - таково содержание чисто семейной драмы "Трахинянки".
Герой в припадке безумия избивает стадо, приняв его за врага; придя в себя, он от стыда кончает с собой, и его с почетом погребают товарищи. К этому сводится содержание "Аякса".
Героя, одержимого отвратительной болезнью, покидают соратники на пустынном острове, но боги требуют его возвращения к войску; его спасают те, кого он ненавидит, - таковы основные мотивы "Филоктета".
Мудро разрешать сплетение сложных и запутанных событий путем строго продуманного выделения лишь самого существенного и необходимого мог только драматург, в полной мере владевший наследием веками слагавшихся преданий. Выбрав из множества зачастую противоречивых подробностей мифа лишь то, что было ему необходимо для воплощения сложившейся в его сознании мысли, Софокл с такой же прозрачной ясностью строил каждую свою трагедию; превосходный образец ее он дал в "Эдипе царе". Уже в прологе этой трагедии выводятся сразу все три исполнителя и излагается то, из чего развиваются дальше все столкновения движущих сил драмы: бедствия от чумы, которая поразила Фивы, находящиеся под властью Эдипа; указание оракула на кару за совершенное Эдипом убийство Лая (эта кара необходима для очищения города от напасти). Действие нарастает, когда призванный Эдипом Тиресий отказывается истолковать указание оракула, чем вызывает подозрение Эдипа; разгневанный старец уходит, но своими зловещими намеками он растревожил душу Эдипа (ст. 401-428), неспособного понять ужасную правду его речи. Следующую ступень нарастания действия представляет спор Эдипа с Креонтом (ст. 512-633), конец которому кладет вмешательство Иокасты (ст. 634 слл.). Дальнейшая беседа с ней (ст. 698-832) представляет собой высшую точку драмы, когда Эдип, смутно угадывая ужасную правду, восклицает (ст. 726-728):
Постой, жена: произнесла ты слово,
Оно всю душу потрясло мою.
Здесь трагедия достигает своей вершины и переходит в перипетию.[1] Остальная ее часть представляет уже развязку, разделенную также на две части: первая - это бесплодные усилия Иокасты развязать узел бедствий (ст. 911-1072); вторая - рассказ вестника (ст. 1223 слл.), мучения ослепившего себя Эдипа (ст. 1297 слл.) и его полная примиренного настроения прощальная беседа с Креонтом (ст. 1472-1523) - замыкает трагедию тремя мощными аккордами, сливающимися в последнюю песнь хора (ст. 1524-1530).
Действие "Электры" Софокл начинает с восходом солнца; это видно из слов педагога в его разговоре с Орестом (ст. 17 слл.). Вступительная песнь хора в "Антигоне" тоже приветствует восходящее солнце. Это позволяет думать, что обе трагедии открывали собой соответствующие тетралогии, которые полностью не дошли до нас. В таком случае лишний раз проявлялось желание поэта теснее связать свою драму с тем, что давала зрителям окружавшая их обстановка, и отразить в ней их настроения.
В своих трагедиях Софокл обрабатывал по большей части предания, хорошо знакомые большинству зрителей; на это указывал еще Гёте ("Разговоры с Эккерманом"). Смотреть его трагедии греки шли не ради новизны их содержания: зрителей увлекала возможность проследить, как на сцене развивается знакомое им в общем действие и как воплощены близкие им образы.
Влияние Эсхила очень сильно чувствуется в трагедиях Софокла, но он ближе, чем его предшественник, подходит к Гомеру (что отмечено было уже древней критикой), напоминая последнего богатством и глубиной своих наблюдений. Не покушаясь понять все сущее, Софокл с годами смотрел на жизнь все мрачнее и, вероятно, свою собственную мысль он вложил в песнь хора в "Эдипе в Колоне" (ст. 1224):
Высший дар - нерожденным быть;
Если же свет ты увидел дня,
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись небытья родное
Уже древние знатоки отмечали[2] особенное увлечение Софокла эпическим киклом, его обычай придерживаться данной эпиками обработки мифов.
Изучение отношения Софокла к мифам показывает, однако, что в них его занимала не столько пестрая и причудливая связь мифических действий, сколько вытекающие из них нравственные взгляды. Если Эсхил смелым полетом своего богатого воображения старался давать много пищи глазам и ушам своих зрителей, то Софокл больше заставлял их вдумываться в душевные переживания героев трагедий, взвешивать их поступки с точки зрения передовых людей своего времени.
Некоторые толкователи нового времени видят в образах Софокла только его современников, искусственно прикрытых мифическими именами в угоду незыблемого для греческой трагедии обычая - не выходить из рамок древних преданий. Так, в Филоктете пытались признать вернувшегося на родину Алкивиада, в коварном Одиссее - Писандра, а Несторе - вождя низверженных олигархов Антифонта, в Антилохе - убитого Фриниха и т. д. Хотя возражения против такого насильственного превращения трагедий Софокла в сплошные политические памфлеты справедливы, но связь их с современной обстановкой все же. несомненна.
"Софокл говорил, что он представляет людей такими, какими они должны быть, а Эврипид - такими, каковы они в действительности". Но это свидетельство Аристотеля[3] вовсе не исключает Наличия реализма и в обрисовке людей Софоклом: его Гемон, Йемена, Текмесса наделены чертами, целиком взятыми из действительности.
Вера в неизбежную силу рока, божественного предопределения, тяготевшего над судьбой Эдипа и его семьи, была широко распространена в поэзии греков, но не в их действительной жизни; им и в голову не могло бы придти, замечает Ф. Грилльпарцер (XIV, 63), сложить в минуту опасности руки, потому что нельзя "избежать того, что предопределено; их судьи только засмеялись бы, если бы преступник вздумал сослаться в свое оправдание на рок или на приказ оракула совершить то, за что его привлекли к суду. И у Софокла и у Эврипида судьба их действующих лиц предопределена свыше, но в картинах гибели и отдельных лиц и целых родов под ударами рока драматурги сумели показать влияние личных характеров: чем злее боги, чем более шатким и непрочным является все земное, тем ярче и сильнее проявляется личность человека.
Софокл очень значительно продвинул вперед искусство трагедии, внеся неизмеримо большее разнообразие красок в изображение характеров по сравнению с Эсхилом, отмечавшим в своих Прометее, Агамемноне, Клитеместре и других лишь одну какую-нибудь черту. Софокл строит характеры при помощи контрастов. Так обрисовал он, например, Афину в "Аяксе": в ее беседе с Одиссеем (ст. 35 -87) раскрываются все побуждения ее поступков и вместе с тем разница в поведении Афины и Одиссея. Но и внутри одного и того же человека Софокл вскрывает резкую смену настроений и побуждений. Так, вначале сам Аякс еще во власти самых диких страстей (ст. 96 слл.); это составляет резкую противоположность просветленному и очищенному образу, в каком он появляется, прощаясь с своей преданной подругой Текмессой (ст. 644-692); прекрасным связующим звеном между этими крайностями служит сердечное обращение Аякса к их сыну (ст. 550-564).
Очень яркими и везде новыми красками обрисованы также и те, кто стоит на стороне Аякса: его верный брат Тевкр, совсем на него не похожий, его подруга - пленница Текмесса, простая любовь которой лучше понимала то, что было скрыто от рыцаря Аякса с его чересчур развитым чувством чести. Их дополняет мудрый Одиссей, спасенный под Троей Аяксом. Им противопоставлены также три врага Аякса: богиня Афина, Менелай, ловко прикрывающий свои некрасивые деяния (ст. 1133 слл.), и его благоразумный брат Агамемнон, сознающий всю трудность для властителя соблюдать правду (ст. 1350). Такой подбор действующих лиц своей закономерностью соответствует построению строгих фронтонных групп Олимпии и Парфенона.
Софокл не только мастерски очерчивает характеры, но и наполняет их красками живого и разнообразного содержания. Ему удается в немногих словах, даже в полустишии, определить лицо. Особенно свойственно ему уменье подбирать подходящее выражение - εὐκαιρία, как говорит древний биограф, называющий Софокла учеником Гомера, усвоившим обаяние своего учителя.
Одной удачно подобранной чертой Софокл показывает разнообразие душевных переживаний своих героев. Так, страдалец Филоктет не застыл в озлоблении: он вызывает удивление Неоптолема тем, что среди своих мук не утратил способности горевать о гибели Ахиллеса и других соратников (ст. 339). Электра, пылающая ненавистью к убийцам своего отца (ст. 201-211, 236-250), совершенно перерождается, когда находит брата (ст. 1227-1287). Эта сердечная радость еще сильнее оттеняет ее ненависть, которая показывает, что она должна пережить, чтобы заглушить в себе чувство к матери.
Прекрасно обрисован характер Филоктета: его речь, обращенная к юному Неоптолему с мольбой не покидать его одинокого на пустынном острове (ст. 468 сл.), очень ярко и сильно передает настроение страдальца. Им овладевает припадок такой нестерпимой боли (ст. 742), что он сперва кричит о своей гибели, а затем его речь превращается в один мучительный вопль (ст. 746). Помощь Неоптолема не может облегчить его страданий (ст. 760), и Филоктету остается лишь призывать смерть (ст. 797). Кончается припадок сном (ст. 821); этим пользуется Неоптолем, чтобы похитить заветный лук Филоктета (ст. 840), просившего беречь его оружие (ст. 766). Сон освежает Филоктета. Проснувшись, он от души благодарит Неоптолема (ст. 875). Но услыхав его отказ вернуть лук (ст. 927), Филоктет обрушивается на него длинной речью, полной упреков и проклятий (ст. 928-962). Это смущает Неоптолема: он начинает колебаться (ст. 974), но появление Одиссея открывает глаза Филоктету: он понял, что виновник обмана - его исконный враг Одиссей, который не в первый раз губит его своей ложью (ст. 1007-1046). Его возбужденную, полную бессильного гнева и отчаяния речь очень оттеняет спокойное выступление Одиссея (ст. 1048-1062), убежденного в своей правоте и открыто заявляющего, что от рождения его задачей было побеждать в затруднительных случаях (ст. 1052). Эта внутренняя сила Одиссея так же противоположна беспомощности Филоктета, как юный пыл Неоптолема противоположен и беспомощности Филоктета и силе характера Одиссея. Здесь Софокл так же умело воспользовался приемом противопоставления противоположностей, как и в "Аяксе", где тот же прекрасно владеющий собою Одиссей, умеющий сдерживать свою ненависть к врагам (ст. 1332-1345), противопоставлен не только неистовому Аяксу, но и Агамемнону, неспособному понять пользу мягкого обращения с врагом, который перестал быть опасным (ст. 1346 слл.).
Самое удачное применение этого приема взаимной обрисовки, характеров путем сопоставления противоположностей видно в "Антигоне", где пылкому Гемону противопоставлен более уравновешенный Креонт (ст. 635-765). Вступительная беседа сестер также прекрасно показывает все различие их характеров. Непреклонной в своем решении Антигоне непонятна и чужда Исмена, которая неспособна выйти за пределы того, на что ее обрекла ограниченная доля женщины:
Мы - женщины, не нам вести борьбу
Неравную с мужами: наша доля,
Пред сильными покорствуя, молчать.
У мертвеца я вымолю прощенье
Невольного греха и покорюсь
Велению владыки: неразумно -
Желать того, что выше сил моих.
(Ст. 61-68. Перев. Д. Мережковского)
Для основного хода действия Йемена не нужна, но полагают, что Софокл ввел ее в трагедию только для того, чтобы наглядно показать на ней, насколько Антигона поднимается над общим уровнем даже такой сердечной девушки, как ее родная сестра.
Часто герои Софокла, пережив высший подъем овладевшей ими страсти, затем вдруг, как бы приходя в себя, чувствуют всю свою слабость и беспомощность и начинают говорить просто, от души, раскрывая искренние движения измученного сердца. Эти переломы, в высшей степени выгодные для актера, получающего благодаря этому полную возможность показать все богатство и разнообразие своих творческих красок, вместе с тем тесно сближают героев с душой зрителя, вызывая в нем то "сочувствие", в котором Аристотель видит основную принадлежность трагического "очищения" - катарсиса ("Поэтика", гл. 6). Особенно удались ему такие переломы в "Аяксе" и "Филоктете".
В "Аяксе" после ухода хора (ст. 815) меняется обстановка: действие переносится из лагеря греков под Троей на пустынный берег моря, где одиноко сидит Аякс над воткнутым в землю мечом. Глядя на этот дар Гектора, своего опаснейшего врага (ст. 817), Аякс молит Зевса, Гермеса и Эриний послать ему быструю смерть и отомстить за его гибель его врагам. Последний свой привет он шлет родному Саламину (ст. §60) и славным Афинам (ст. 851), но мысль его останавливается на матери, и он замечает (ст. 850-851):
Наверно, бедная ту весть заслышав,
Возбудит плач по городу великий.
Это короткое отступление сразу приближает героя к зрителям, сердечной простотой его переживаний. Филоктета среди упорной борьбы не раз охватывает отчаяние, заставляя проклинать судьбу-мачеху, не дающую ему уйти с земли во мрак Аида (ст. 1348 слл.). Его собственное сознание слабости показывает зрителю, что перед ним человек, а не сказочный богатырь.
В "Эдипе в Колоне" воины Креонта уводят по его приказу Антигону, несмотря на ее сопротивление и крики о помощи (ст. 841 слл.). Но таких сцен, требовавших сильной и оживленной игры, у Софокла мало: большинство их проходит не на глазах у зрителей. Отчасти здесь сказывается то, что ко времени Софокла трагедия еще не вполне вышла из рамок эпоса, связь с которым заставляла и поэта и зрителей мириться с пересказом в речах вестников и других лиц того, что мастера новой драмы развили бы в напряженном действии.
В трагедиях Софокла еще нет изображения той любовной страсти, которая играет важную роль у Эврипида и становится почти необходимым элементом в драме нового времени. В связи с этим любопытно, как этот мотив осуществляется в "Антигоне". Гемон, сын Креонта, жених Антигоны, кончает жизнь самоубийством над телом невесты, но нигде в этой трагедии ни он, ни Антигона не говорят о взаимных чувствах, и только замечательная песнь хора (781-801) прославляет всемогущество бога любви - Эрота.
По замечанию Дж. Магаффи, "весьма вероятно, что для афинской публики того времени всякое ходатайство Гемона, основанное на любви, считалось бы неприличным и лишенным достоинства, пока Эврипид не научил ее, что даже на сцене искусство не должно игнорировать влечения природы. Еще страннее отсутствие всякого намека на Гемона в длинном коммосе, который поют Антигона и хор во время ее шествия навстречу смерти. Антигона горько жалуется, что не услышит свадебных песен, скорбят об утрате супружеского блаженства, как делала в Греции каждая умирающая девушка, совершенно - противно новейшим понятиям о чувстве стыдливости. Современная девушка стала бы оплакивать разлуку с своим любезным, но, конечно, не утрату радостей, приносимых браком. Коммос Антигоны подвергался осуждению и с другой точки зрения -как недостойный отважного и неустрашимого характера героини. Казалось неестественным, что она, сознательно набравшая смерть ради долга, отшатнулась от нее и разразилась жалобами при ее приближении. Но более здравые критики совершенно основательно защищали эту слабость как черту общечеловеческую и, следовательно, более интересную и трогательную, чем отсутствие или подавление ее".[4]
Зная прекрасно мастерство актера, Софокл понимал, как его развитию мешала необходимая по многим причинам маска, не позволявшая согласовать слова актера и переживания изображаемого им лица с тем, что мог видеть зритель. Для устранения этого противоречия Софокл иногда заставляет действующее лицо не показывать наружно своих чувств. Так, в "Электре" Орест нарочно просит сестру еще некоторое время изображать на лице печаль, чтобы мать по радостному ее виду не узнала о его приходе (ст. 1296 слл.). Когда к этому представляется возможность, Софокл заставляет своих действующих лиц за сценой переживать то, что меняло бы выражение их лица. Там актер легко мог переменить маску. Но, чтобы зритель и в ней узнал того, кто раньше появлялся с совсем иным лицом, хор или вестник предупреждал зрителей об этой перемене. Так, вестник в "Эдипе царе" (ст. 1295) говорит о том, каким выйдет Эдип, исполнитель роли которого теперь выступал в маске, изображавшей совершенное Эдипом за сценой ослепление.
Софокл тщательно отмечает и не такие резкие перемены. В "Трахинянках" (ст. 869-870) кормилица Деяниры выходит с известием о смерти царицы. Ясно, что у нее под влиянием этой утраты должно было быть не то лицо, с каким она в прологе слушала речи своей госпожи (ст. 50 слл.); и вот, чтобы зритель узнал ее и в новой маске, хор отмечает, как сдвинулись под влиянием горя ее брови. В "Антигоне" Исмена сперва из страха перед Креонтом отказывается от участия в замысле сестры, но потом она решает разделить участь Антигоны. Перед этим ее выходом на сцену хор (ст. 526 сл.) указывает, что облако над бровями искажает лицо Исмены, проливающей слезы. Эта подробность смущала некоторых новейших толкователей трагедии, но она была нужна Софоклу для оправдания перемены маски, иначе зрители могли бы принять исполнителя роли Исмены за другое лицо.
Очень сложную игру Софокл разработал до мелочей в "Аяксе". Здесь мы видим большое отличие от Эсхила: в "Фракиянках" Эсхила о смерти Аякса говорил вестник; у Софокла Аякс на глазах у зрителей бросается на меч, и Текмесса закрывает его плащом (ст. 915 слл.). Тевкр хочет его раскрыть (ст. 1002), но к этому времени актера, которому предстояло выступить в другой роли, успевали заменить куклой, обычно служившей на греческой сцене для изображения трупов. Чтобы эту куклу не слишком показывать зрителям, Менелай не позволяет вынести труп (ст. 1047). Так до мелочей Софокл продумывал все случаи, где могло бы пострадать сценическое правдоподобие. В этом ему следовал и Эврипид.
Жившее в крови у греков чувство симметрии, по наблюдениям Я. Буркхардта, в полной мере проявилось и на членении трагедии на отдельные сцены, что соответствовало построению античных фронтонных групп. Примером могут служить "Трахинянки" Софокла. Их начало [5] составляет 430 стихов. Развязка уложена тоже в 430 стихов, а середину составляет рассказ о даре Несса (ст. 531-632).
Аристотель ("Поэтика", гл. 18) требует, чтобы "хор занимал место одного из актеров. Он должен быть частью целого и принимать вместе с актерами участие в общем ходе драматического действия, как у Софокла, а не как у Эврипида". И действительно, хоры Софокла обрисованы вполне законченными чертами, образцом чего может служить хор старцев в "Антигоне". Изобразив Антигону, Креонта и Гемона действующими и страдающими от охвативших их страстей, Софокл поставил хор выше таких гибельных страстей и сделал его выразителем высшей мудрости. Образ действия хора на протяжении всей трагедии подготовляет вывод, вложенный в его заключительную песнь (см. выше стр. 361).
Ставя хор по житейской мудрости выше отдельных участников, трагедии, Софокл как бы подчеркивает необходимость отдельному гражданину подчинить себя воле сограждан.
Э. Бете[6] указал на существенное отличие Софокла от Эсхила, состоящее в том, что смысл трагедий Софокла ясен, если их читать пропуская слова хора, чего нельзя без ущерба делать с пьесами его предшественника.
Хоровые песни Софокл умел делать средством для передачи настроения зрителей и, вместе с тем, строго согласовать с характером тех лиц, в уста которых они вложены. Этому служат подчас и короткие замечания хора по поводу того, что он слышит от участников пьесы.[7]
Полагают, что именно хор Софокла имеет в виду Гораций, когда в своей "Поэтике" (ст. 193-197) говорит:
Хор есть замена мужского лица; ничего между действий
Петь он не должен, что к цели прямой не ведет и с предметом
Тесно не связано. Пусть ободряет он добрых, советы
Им подает, укрощает пыл гнева и гордость смиряет.
Построение речей у Софокла свободно еще от того строго закономерного членения, какое им придавал Эврипид. Зато он любит сразу подчеркнуть самое важное для передачи настроений своих действующих лиц, а подробности отложить до более уместного положения говорящего, не засоряя при этом речей ни одним лишним словом, как это видно, например, в мастерски построенной речи Электры (ст. 261 слл.). В дальнейшем ее разговоре с сестрой очень точно указано ее отличие от Хрисофемиды определенным противопоставлением условий их жизни (ст. 359, 361, 363). Речь Клитеместры (ст. 516 слл.) мастерски обрисовывает ее настроение и борьбу ее злобы со страхом. В длинной речи воспитателя в "Электре" (ст. 680-763) Софокл не раз сознательно отходит от предписанных риторикой правил для более яркой обрисовка его настроения. Тем не менее, позднейшие учителя красноречия не раз приводили речи Софокла как образцы высокого искусства (например, в "Электре", ст. 975 слл.).
В обеих трагедиях об Эдипе и в "Антигоне" сцены, предшествующие выходу хора, совершенно выполняют назначение пролога, но в "Антигоне" особенно заметно, что появление обеих сестер вызвано лишь желанием драматурга посредством их разговора ввести зрителя в ход действия. Лучше связаны с самым развитием действия прологи "Аякса", "Филоктета" и "Электры". Так, Аякс уже сам появляется в прологе пьесы, посвященной изображению его страданий. Таким образом, действие трагедии начинается непосредственно с пролога. Вполне оправдано появление Одиссея и Неоптолема на острове Лемносе в самом начале "Филоктета", Причем остающийся перед зрителем Неоптолем прекрасно связывает в одно неразрывное целое пролог с дальнейшими частями пьесы. Некоторая условность вступления в "Электре", свойственная, однако, и драматургам позднейших эпох, состоит в том, что Орест рассказывает об оракуле старому слуге, сопровождавшему его на пути из Дельф в Микены; но, вместе с тем, взаимные расспросы Ореста и слуги служат Софоклу средством для раскрытия их взаимоотношений и помогают обрисовать те черты их характера, которые объясняют их поступки. Завершением пролога является монодия самой Электры (ст. 86 слл.).
Софокл оставляет в ходе своих трагедий много подробностей без внимания; могучей силой своего дарования он заставляет и зрителя не размышлять о том, что могло бы вызвать сомнения последнего, если бы он стал думать об этом. Разве не странно, например, что Эдип, деля долгие годы трон в Фивах с Иокастой, до самого начала трагедии ни разу не постарался подробно узнать об обстоятельствах смерти ее первого мужа, своего предшественника?
Подсчитано, что исполнение трех трагедий Софокла вместе с замыкавшей их драмой сатиров должно было тянуться около десяти часов; при этом на долю первого актера приходилось в среднем около 1600 стихов, в состав которых входило шесть номеров пения. Для оценки этой задачи полезно припомнить, что одна из самых сложных и трудных ролей драмы Шекспира "Ричард III" содержит всего 1127 стихов, из которых обычно опускают около 200.
[1] Аристотель, Поэтика, гл. 11
[2] Афиней VII, p. 277d.
[3] Поэтика, гл. 25.
[4] „История классического периода греческой литературы“, т. I. M., 1882, стр. 261.
[5] Пролог, ст. 94; беседа Деяниры и вестника, ст. 140—204; беседа Деяниры и Лихаса, ст. 225—496.
[6] См. речь Griechische Tragoedie und Musik (Ilbergs Jahrb. f. d. Klass, Altertum. 1907, стр. 81—95.
[7] Ср. „Эдип в Колоне“, ст. 529—548.
4. ОЦЕНКА СОФОКЛА В ДРЕВНОСТИ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОЗДНЕЙШУЮ ЛИТЕРАТУРУ
Платоники называли Софокла Гомером трагедии, а Гомера - эпическим Софоклом. Цицерон ("Оратор" I, 4) также ставит его рядом с Гомером. Слог Софокла обнаруживает обильное использование богатств языка Гомера; может быть, за умение Софокла брать у своих предшественников все лучшее древние и называли его пчелою.
Автор трактата "О возвышенном" (гл. 33) сопоставляет Пиндара с Софоклом в том, что оба они в порыве вдохновения все воспламеняют, но затем часто без причины сами гаснут и падают самым несчастным образом. Но таких отрицательных отзывов в древних источниках сохранилось немного. Большинство утверждало вместе с Овидием (Amores I, 15, 15), что даже врзмя не принесет никакого ущерба славе Софокла.
Слог Софокла отличается большей простотой, чем слог Эсхила: Софокл проявляет меньше смелости в образных выражениях и больше умеренности в использовании архаизмов и новообразований. Плутарх (Moralia, p. 348d) считает особенностью Софокла его красноречие (λογιότης), а особенностью Эврипида, которого другие упрекали в чрезмерной болтливости, - мудрость, ставя в вину Софоклу неровность его стиля (Moralia, р. 45b).
Римские трагики мало пользовались Софоклом: его "Эдип" до Сенеки дал содержание лишь трагедии Юлия Цезаря.[1] "Филоктету", наряду с "Антигоной", Эврисаком и другими, менее известными трагедиями Софокла, подражал Акций. По отзыву Цицерона (De finibus I, 2, 5), мало известный драматург Атилий плохо перевел "Электру" Софокла. Как широко было распространено знакомство с "Аяксом" Софокла в Риме, показывает третья сатира второй книги Горация. Здесь судьба Аякса, как ее изобразил Софокл (ст. 201. 211), неоднократно служат примеров для доказательства положений стоической философии. Сенека сжал трагедию Софокла "Эдип царь" в 1061 стих. Сличение с Софоклом показывает неспособность Сенеки сохранить достоинства подлинника, что особенно видно из сравнения вступительных частей обеих пьес.
Император Нерон публично пел арию из "Эдипа" какого-то современного ему автора.[2] Овидий в послании Деяниры к Гераклу ("Героиды" 9) пользовался "Трахинянками". Влияние на знаменитую сцену гибели Лаокоона и его детей в "Энеиде" Вергилия усматривают в "Лаокооне" Софокла, где их гибель происходила за сценой и изображалась как ниспосланная Аполлоном за нечестие, совершенное с женой перед его изображением.[3]
Пролог "Электры" Софокла очень напоминает начало пьесы "Жизнь есть сон" Кальдерона, который вообще обнаруживает в своих пьесах хорошее знакомство с древними поэтами.
Усматривают влияние "Электры" на "Аталию" Расина (1691 г.). Его героиня обладает чертами, сближающими ее с Клитеместрой, с которой Орест у Софокла находится в отношениях, очень напоминающих отношения Иоаса к иудейской царице у Расина.
Значительный интерес к Софоклу проявили драматурги конца XVIII века. Вольтер в 1750 г. дает вольную переработку "Электры" в своем "Оресте"; еще раньше, в 1718 г., он написал "Эдипа", введя в пьесу Араспа - наперсника Эдипа - и особого наперсника Иокасты. Главную цель свою Вольтер видит (см. предисловие к трагедии) в желании показать гибельные последствия любви к запретному лицу. До Вольтера "Эдипа" написал во Франции Корнель (1659 г.), а в Англии-Драйден и Ли (1 У79 г.); в 1778 г. издал своего "Эдипа у Адмета" Дюма, соединив с "Эдипом в Колоне" Софокла "Алкестиду" Эврипида. "Филоктета" использовал Фенелон в своем романе "Телемак", введя в пьесу еще дочь Филоктета Софию, даже с гувернанткой, и заставив Неоптолема влюбиться в Софию. Исказил эту трагедию и Лагарп (1783 г.). Витторио Альфиерн (1749- 1803) в "Оресте" больше пользовался Вольтером и Кребильовом, чем Софоклом, содержание трагедии которого он очень упростил, сделал ее однообразной в слишком длительной напряженностью настроения ее участников. Своей ненависти к тираннам он дал простор, заставив Эгисфа постыдно плакать при известии о неизбежной для него смерти.
Ни одна из подражательных пьес, однако, не удержалась на сцене. Зато неискаженный "Эдип", как и "Антигона", нашел себе исполнителей, начиная с конца XIX века, и на Западе и в нашей стране среди крупнейших артистов. "Антигона" вошла в репертуар Московского художественного театра в первый год его деятельности.
В 1760 г. Г, Э. Лессинг издал очень обстоятельное исследование жизни и творчества Софокла, применив все приемы критики свидетельств древности, которые были доступны науке того времени. Пристальное изучение Софокла очень благотворно отравилось и на других его трудах ("Лаокооне", "Гамбургской драматургии" и т. д.).
[1] Светоний, Юлий, гл. 56.
[2] Светоний, Нерон, гл. 46.
[3] Сервий к „Энеиде“ II, 201.
Глава XXIV ЭВРИПИД
1. БИОГРАФИЯ ЭВРИПИДА
Древнее жизнеописание Эврипида называет его сыном мелкого торговца Мнесархида и торговки зеленью Клейто. Родился он, согласно этому жизнеописанию, в Афинах, в день, когда греки победили персов в морском сражении при Саламине в 480 г. до н. э., но "Паросская хроника" (Marmor Parium дает годом его рождения 485/484. В юности он одерживал победы на гимнастических состязаниях, слушал Анаксагора, Продика и Протагора и был, если верить преданию, другом Сократа, который будто бы помогал ему в сочинении драм; музыку же для них ему сочиняли Иофонт и аргосец Тимократ. Тот же источник называет Эврипида живописцем, картину которого будто бы показывали в Мегарах. Это подтверждается тем, что в пьесах Эврипида есть ряд сцен, задуманных в расчете на получение на сцене сложных живописных групп и картин, образцом которых может служить изображение на вазе сцены из не дошедшей до нас его трагедии "Андромеда" (см. ниже, стр. 403 сл.). Сохранились свидетельства о почестях, какими Эврипид пользовался в Магнесии, откуда он переехал в Македонию, к царю Архелаю. Царь сделал его своим близким советником в государственных делах, а когда Эврипид умер, похоронил его с почетом, облекшись в траур.
Древние отмечают расположение к Эврипиду и тиранна Сицилии Дионисия. Подробности о смерти Эврипида, как и некоторых других древних поэтов, являются, вероятно, вымыслами; мало достоверны также древние предания о семейной жизни Эврипида, написавшего будто бы некоторые свои трагедии, например трагедию "Ипполит", под влиянием беспутства своей жены.
Среди Оксиринхских папирусов (IX, № 1176) сохранился обширный отрывок из сочинения перипатетика Сатира Понтийского, работавшего в Александрии при Филопаторе (221-204 гг.). Здесь рассказывалось о жизни Эсхила, Софокла и Эврипида. Уцелели лишь куски, относящиеся к Эврипиду. Сочинение было построено в виде диалога и предназначалось не для ученых, а для просвещенных читателей вообще, и, по видимому, развивало ту ветвь литературы, качало которой положил Аристотель в своей книге о поэтах. По обычаю перипатетиков, Сатир вводит в жизнеописание Эврипида то, что он вычитал из его драм. Кроме обычных россказней, взятых у комических поэтов, он излагал отношения Эврипида к Анаксагору и Сократу, подчеркивал его ненависть к тираннии и объяснял, почему его так не любили в Афинах и мужчины и женщины. Этим непризнанием соотечественников Сатир объясняет уход Эврипида в Македонию к царю Архелаю, где он встретился с музыкантом Тимофеем Милетским и поддержал его, когда тот был глубоко подавлен неудачей своих новшеств в области композиции.
Круг, к которому принадлежал Эврипид, частично определяется рассказом Плутарха о том, что Эврипид сочинил песнь, прославлявшую в стиле возвышенной лирики победу Алкивиада на конском состязании в Олимпии ("Жизнь Алкивиада", гл. 11). Это позволяет предполагать наличие между ними близости, которая, однако, должна была порваться, когда Алкивиад проявил все дурные стороны своей политической деятельности.
Сохранились анекдоты об отношении Эврипида и к зрителям и к товарищам по искусству.[1] На требование зрителей - выкинуть из одной трагедии какое-то место - он, будто бы выйдя на сцену, заявил, что имеет обычай писать пьесы для того, чтобы учить народ, а не учиться у него. Незначительному трагическому поэту, хваставшему перед ним, что он в день пишет очень легко по сотне стихов, в то время как Эврипид, по его собственному признанию, может написать только три, да и те с величайшим напряжением, - Эврипид, говорят, сказал: "Разница между нами та, что твоих пьес хватит только на три дня, а мои всегда пригодятся".
Есть основание предполагать, что к числу обильных вымыслов, распространенных комическими поэтами о жизни Эврипида, относятся и сведения о незнатном происхождении его родителей; такой надежный свидетель, как Феофраст, сообщает о его участии в некоторых праздниках Афин, которые были доступны лишь детям знатнейших семейств.[2] Многие подробности о родных и о юности Эврипида приводит по греческим не дошедшим до нас источникам Авл Геллий ("Атт. ночи", XV, 20), в частности - стихи Александра Этолийского, называющего его питомцем Анаксагора, к учению которого близки многие места его трагедий, в частности слова Гекабы в "Троянках" (ст. 884 слл.).
В отличие от Софокла, Эврипид не занимал никаких должностей, Некоторые места его трагедий ("Геракл", ст. 673; "Ион", ст. 395; "Медея", ст. 294) позволяют исследователям говорить о сознательном уклонении поэта от всякого участия в бурной политической жизни того времени и о равнодушии к общественному мнению ("Орест", ст. 918; "Гекаба", ст. 254). Эврипид был, по видимому, склонен к жизни уединенного созерцателя. Он оправдывает это в трагедии "Антиопа" устами одного из сыновей Антиопы - Амфиона (ст. 193, 199). Отразилось на его творчестве его общение с философами. Ему, как известно, было дано прозвище трагика-философа.
[1] Валерий Максим III, 7, ext. 1.
[2] У Афинея X, 24, р. 424e.
2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЭВРИПИДА. ТРАГЕДИИ
Ученый римлянин М. Т. Варрон отметил, что из 75 написанных Эврипидом трагедий только пять[1] доставили ему победы, причем его счастливыми соперниками являлись часто самые ничтожные поэты.[2] По другим источникам, Эврипид написал 92 или даже 98 пьес. Из них нам известно 81 название, если не считать тех, подложность которых установлена большинством исследователей. Однако из этого числа сохранилось только 18: "Алкестида", "Андромаха", "Вакханки", "Гекаба", "Гераклиды", "Геракл", "Елена", "Ипполит", "Ифигения в Авлиде", "Ифигения в Тавриде", "Ион", "Киклоп", "Медея", "Орест", "Просительницы", "Троянки", "Финикиянки", "Электра" (трагедия "Рес" Эврипиду не принадлежит). Часть трагедий была поставлена младшим его сыном, тоже Эврипидом. Второй его сын Мнесилох был будто бы актером, но ни в надписях ни у достоверных писателей нет упоминаний актера с таким именем.
Ф. Шёлль[3] указал, что свидетельство древнего жизнеописания Эврипида о принадлежности ему 92 пьес позволяет разбить их на 23 тетралогии, но подчеркнул наличие противоречий в вопросе о том, какие именно пьесы входили в состав каждой из них.
Полное отсутствие каких-либо данных, позволяющих судить, в чем сами древние усматривали связь отдельных пьес между собой для образования из них тетралогий, обрекает новейших исследователей на неизбежность произвольного решения этого вопроса.
Творчество Эврипида охватывало все основные предания греков: к кругу сказаний о Геракле относятся "Безумный Геракл" и "Гераклиды"; фиванские сказания легли в основу "Вакханок", "Финикиянок" и "Просительниц"; с преданиями о троянской войне связаны "Ифигения в Авлиде", "Ифигения в Тавриде", "Троянки", "Гекаба", "Елена", "Андромаха"; поход Аргонавтов дал содержание "Медее"; местные аттические сказания отразились в "Ипполите" и "Ионе". Трудно установить точно время появления каждой трагедии Эврипида. Дошедшие до нас трагедии мы будем рассматривать в той последовательности, в какой они, по видимому, были поставлены в древности.
В 438 г. до н. э. в "Алкестиде" Эврипид создал чарующий образ жены-друга, жертвующей жизнью ради любимого мужа Адмета. Ее нежная, полная заботливости любовь к детям делала ее жертву особенно тяжелой. Чтобы подчеркнуть всю тяжесть этой жертвы, Эврипид заставляет отца мужа Алкестиды, старика Ферета, цепляющегося за остаток своих дней, отказаться от смерти за своего сына, в то время как молодая Алкестид готова умереть и расстаться с малыми детьми. Прощанье с ними матери принадлежит к числу самых сильных и трогательных сцен в мировой трагедии.
Лучшие чувства жены и матери Эврипид сумел показать в трогательной прощальной речи Алкестиды, обращенной к спасенному дорогой ценой мужу (ст. 280-239, 295-325). Ее слова заставляют зрителей вполне разделять мнение хора, восторженно прославляющего ее (ст. 459-463), и завидовать ее мужу, нашедшему в браке такое редкое счастье (ст. 473-475). Подвиг Алкестиды настолько тяжел, что мужу не легко примириться с ее жертвой. Вот почему все поэты нового времени, вплоть до Гердера, обрабатывавшие эту восходящую к древнейшим народным сказаниям легенду, отступали от Эврипида, заставляя Алкестиду жертвовать жизнью без ведома мужа.
Доведя до высшего напряжения скорбь мужа Алкестиды Адмета и всех близких, поэт затем разрешает это тяжелое настроение благополучной развязкой: Геракл, пришедший в дом к Адмету, глубоко опечаленному смертью жены, возвращает ему Алкестиду, поборов явившегося за ней демона смерти.
В этой самой ранней из дошедших до нас пьес Эврипид блестяще показывает свое мастерство в изображении характеров. Все три главных участника пьесы: и Алкестида, и Адмет, и Геракл - живые люди со всем разнообразием страстей и чувств. Они ни в чем не похожи друг на друга; сдержанный, надломленный ниспосланным богами испытанием Адмет и обаятельный Геракл, сразу преображающийся из веселого гуляки в верного и умело приходящего на помощь друга. Но при всем своем различии каждый из них вполне подходит к условиям, в которые их поставила жизнь.
Совсем другие люди и страсти изображены в "Медее". Вождь Аргонавтов Ясон прибывает вместе с женой, волшебницей Медеей, в Коринф. Несмотря на то, что Ясон многим обязан Медее, он решает жениться на дочери коринфского царя Креонта. Царь приказывает Медее немедленно покинуть Коринф. Медея притворяется покорной, выпрашивает отсрочку на один день и получает от Ясона разрешение послать новобрачной свадебный подарок. Вскоре вестник сообщает об ужасной гибели царевны и Креонта от смертоносного подарка Медеи. Не довольствуясь этой местью, Медея убивает и своих детей от Ясона, а сама улетает из Коринфа на волшебной колеснице.
"Медея", видимо, дошла до нас во вторичной переработке; однако в ней остался неустраненным недостаток, указанный Аристотелем в "Поэтике" (гл. 15): "Развязки фабул должны вытекать из самих фабул, а не разрешаться "машиной", как в "Медее"".
Образ Медеи восходит к древнему кругу песенных преданий о походе на корабле "Арго" греков (Аргонавтов) за золотым руном в Колхиду, - преданий, изображавших восточную царевну как волшебницу. Своими чарами она помогла грекам добыть руно и тем приобрела любовь вождя Аргонавтов Ясона. В некоторых сказаниях говорилось о присущей ей волшебной силе возвращать юность старцам. Это было представлено в драме сатиров Эсхила "Кормилицы Диониса" (фр. 50). Софокл в своей трагедии "Колхидянки", изображая встречу Медеи с Ясоном, с которым она покинула родину, ввел в обрисовку ее характера отталкивающую черту: чтобы помешать отцу преследовать ее погоней, она убила родного брата (фр. 319). Эту подробность после Аполлония Родосского развил Овидий в своих "Превращениях" (VII, ст. 1 слл.) и в "Героидах" (XII, ст. 160). В трагедии "Зельекопы" Софокл также вывел Медею, собиравшую зелья.
Эврипид показал Медею уже в самой ранней из своих трагедий - "Дочери Пелия" (фр. 601- 616). Здесь изображалось, как, бежав с родины в Фессалию, Медея склонила дочерей местного царя воспользоваться ее чарами для возвращения молодости их отцу. Чтобы убедить их в силе своих чар, она омолодила барана, разрезав его на куски и бросив в котел с кипевшей водой. Те поверили и сварили отца, но, увидев, что он погиб и что Медея их обманула, они бежали.
Другие предания изображали пребывание Медеи в Афинах, где она жила в браке с Эгеем, но бежала после того, как раскрылись ее козни против Тезея. Приписывают ей также пребывание в Коринфе (Павсаний II, 3). Предания о жизни Медеи в Коринфе обработал местный эпический поэт VIII-VII века Эвмел.
Попреки коринфян Ясону за то, что он живет с иноземкой, заставили его согласиться на брак с дочерью местного царя Креонта (Главкой, или Креусой). Обиженная неблагодарностью Ясона, Медея в порыве ревности сделала волшебный венец и велела своим сыновьям поднести его Главке в виде свадебного подарка. Новобрачная надела его и сгорела вместе с Креонтом.
В Коринфе было предание о гибели сыновей Медеи. Сохранился анекдот,[4] будто Эврипид по просьбе коринфян первый изобразил Медею убийцею своих детей. О спасении их жизни заботится у него их отец Ясон (ст. 1301, 1303), и во всей первой половине трагедии Медея думает только о мести своей сопернице; значительно позже (ст. 792) созревает у нее намерение убить детей, но кормилица, чуя беду, грозящую детям от матери, задолго перед тем удаляет детей (ст. 89), а Медея проклинает их (ст. 112).
Кроме трагедии, судьбу Медеи изображал и пантомим, содержание которого передано в стихотворении римского поэта V века н. э. - Драконтия из Карфагена: Медея четыре года счастливо живет с Ясоном у себя на родине. Приехав с ним в Грецию, она узнает, что ее возлюбленного избрала себе в супруги царевна Главка. В припадке ревности Медея губит Главку, Ясона и Креонта посредством волшебного венка; сыновей же своих она поражает мечом и, подобно неистовой Агаве, сжигает их на костре.
Образ убивающей детей Медеи перешел со сцены в живопись; особенно славилось картина Тимомаха, вызывавшая удивление, несмотря на свою незаконченность.[5] Под ее влиянием возник целый ряд древних рельефов, стенных росписей в Помпеях и других произведений художественного ремесла. Лучший обзор их дол К. Дильтей.[6] Широкое распространение именно этой формы предания делает сомнительным, чтобы оно могло быть измышлено самим Эврипидом. Скорее можно предполагать, что Эврипид так блестяще обработал один из вариантов предания о Медее, что впоследствии он получил гораздо большее распространение, чем другие версии, где Медея ограничивалась убийством своего обольстителя, его молодой жены и ее отца.
Поставленная в 428 г. трагедия "Ипполит" начинается речью богини Афродиты, разгневанной на царевича Ипполита за то, что он один из всего сущего на земле не хочет признать ее власти. Она губит Ипполита, внушив преступную страсть к нему его мачехе Федре. Отвергнутая пасынком, Федра лишает себя жизни, оставив своему мужу Тезею письмо, где обвиняет юношу в желании соблазнить ее. Тезей проклинает сына, но потом узнает правду от покровительницы девственника Ипполита, - богини Артемиды.
Трагедия, построенная на предании, связанном со свадебными обрядами трезенских девушек, представляет собой переработку более ранней драмы Эврипида, в отличие от которой новая редакция названа "Ипполит увенчанный".
Образ Ипполига нарисован чертами, сближающими его со многими современниками Эврипида, мечтателями, разочарованными в демократическом строе, при котором политическое первенство не имеет в глазах Ипполита никакой цены: с ним сопряжено слишком много опасностей и хлопот (ст. 1018-1020). В одном лишь нравственном усовершенствовании своего "я" видит он задачу жизни, вызывая этим презрение своего отца Тезея (ст. 952-954). Ипполиту не чужды уловки софистов, учивших тонкой словесной игрой оправдывать расхождение между словами и поступками. Напоминание кормилицы Федры, что он клялся хранить доверенную тайну, Ипполит пытается разбить тем, будто клялся он "словами да, но сердце не при чем" (ἡ γλῶσα᾿ ὀμώμοχ᾿, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτος, ст. 612). Этой фразе, выкованной в мастерской софистов, суждено было уже в древности получить очень широкую известность,[7] и ими как орудием против нелюбимого им Эврипида, разрушителя общественных устоев, Аристофан устами Диониса оправдывает свое предпочтение Эсхила Эврипиду.[8]
Заканчивается трагедия речью Артемиды, которая раскрывает горькую правду слишком поспешному в своих действиях отцу своего любимца Ипполита. Между выступлениями враждующих богинь - Афродиты в начале трагедии, Артемиды в конце-изображена опять подлинная жизнь людей. Ярко показав противоположность между людьми разных поколений в Ипполите и Тезее, Эврипид рядом с ними дает законченный образ молодой женщины (Федры), которая обречена на одиночество и может одной лишь кормилице раскрывать тайники своей души, что· дает возможность зрителю узнать, чем она мучилась в тесном кругу гинекея.
В "Ипполите" Тезей обрисован только как несчастный муж и отец. Семейные отношения разработаны в трагедии так сильно, что из образа Тезея выпали те черты его политической деятельности, которые подробно· изображались в других трагедиях (у Эврипида в "Просительницах", у Софокла в "Эдипе в Колоне" и т. д.).
Оба главных действующих лица трагедии "Ипполит" - и Федра и ее пасынок -- в своем поведении и в своих чувствах не свободны; они действуют и чувствуют так, как угодно враждующим между собою· богиням - Артемиде и Афродите. Этот драматургический прием близок к приемам тех трагедий, где поступки действующих лиц определялись роком, тяготевшим над всем родом их предков, например в трагедии Софокла "Эдип царь".
"Гераклиды" прославляют великодушие афинян к иноземцам - детям Геракла, преследуемым Эврисфеем. Они находят защиту в Аттике у афинского царя Демофонта; Эврисфей вторгается в Аттику с войском, но в сражении, которое описывается в речи вестника, терпит поражение, в особенности потому, что дочь Геракла Макария, согласно воле богов, приносит себя в жертву за спасение родных.
Если Эсхил в своих "Гераклидах", как полагает Виламовиц-Меллендорф, изображал сочувственно согласие афинян с спартанцами, то Эврипид всю последнюю часть своей трагедии окрасил непримиримой ненавистью Афин к Спарте. Этим Эврипид пожелал отразить в своей трагедии настроения, господствовавшие в Афинах в годы войны со Спартой.
Сказочная борьба древних Афин с Аргосом в сознании афинян являлась как бы началом их долгих войн с Пелопоннесом, и предание о ней давало Эврипиду простор для выражения горячей любви к родине и веры в ее окончательную победу. Ее предсказывает Эврисфей в концэ трагедии, заявляя, что его могила вечно будет служить для Афин оплотом против тех, кто посягнет на их землю (ст. 1032 сл.). Прославление Афин и царя Тезея содержит речь Иолая (ст. 307-327), а горячую молитву к Зевсу и божественной владычице Афин о спасении города, ведущего правую войну, - вдохновенная песнь хора (ст. 748- 780). Трагедия построена на местных преданиях, которые рассказывали о самопожертвовании Макарии. Дав в "Гераклидах" яркий образец патриотической пьесы, тесно связанной со злобою дня, Эврипид меньше внимания уделил художественной отделке ее характеров.
По объему "Гераклиды" - одна из самых коротких трагедий Эврипида. Однако она вполне закончена, и в ней нет ничего, что создавало бы неясность или недоговоренность в развитии действия, если не считать того, что остается неизвестной дальнейшая судьба обрекшей себя на жертву дочери Геракла. Одни видят после ст. 602 пропуск целого эпизодия с хоровой песнью, другие - следы позднейшей неудачной переделки. Но все это основано на чисто произвольном предположении, будто Эврипид во всех пьесах одинаково хорошо отделывал характеры своих действующих лиц. Гораздо правдоподобнее, что труднейшему делу драматурга он учился путем долгого последовательного совершенствования и углубления своих приемов.
Приемы Эврипида в развитии действия можно лучше всего наблюдать на его трагедии "Андромаха". Ее действие происходит во Фтии. Рабыня Неоптолема Андромаха родила ему сына Молосса. Опасаясь преследований жены Неоптолема Гермионы, Андромаха удалилась в храм Фетиды. В отсутствие Неоптолема ее выдали царице Гермионе. Отец царицы Менелай явился из Спарты, чтобы помочь замучить Андромаху за то, что она будто бы своими чарами сделала Гермиону бесплодной. Обещаниями оставить в живых ее сына Андромаху выманили из ее убежища; на самом же деле, как признается позже сам Менелай (ст. 517), он замыслил убить Андромаху, а его дочь - сына Андромахи: "глупо оставлять живыми врагов, когда можно их убить и тем самым освободить дом от тех, кого нужно бояться" (ст. 519-522). Со связанными руками приводят Андромаху и ее сына, и они изливают свое чувство в скорбном плаче (ст. 523 слл.). Желая вызвать ненависть к спартанцам, Эврипид постарался обрисовать их с самой отрицательной стороны, дав, например, возможность Менелаю, да еще в сопровождении слуг (ст. 426), полновластно распоряжаться во Фтии, где он живет в гостях у Пелея. Престарелый Пелей в длинной беседе с Андромахой и Менелаем грозит спартанцу размозжить ему голову скипетром (ст. 583): "Ты, худший сын худшего рода" (ст. 590). "Лучше взять сватом бедного, но хорошего человека, чем богатого негодяя" (ст. 639-641), - говорит Пелей Менелаю, подчеркивая, что часто побочные дети бывают лучше законных (ст. 638). На все упреки в злодеяниях (ст. 611 слл.) Менелай мало обращает внимания и в свою очередь бросает Пелею упрек в убийстве Фока (ст. 687). Пелей приказывает развязать руки Андромахе (ст. 715); Менелай вдруг вспоминает, что ему нужно покарать город, когда-то дружественный Спарте, а теперь восставший против нее (ст. 734); он грозят, что, покорив город, он вернется рассчитаться с Неоптолемом. Кормилица Гермионы рассказывает, будто царица, покинутая отцом, из страха перед мужем теперь замыслила убить себя (ст. 800-816); затем выходит с плачевными жалобами Гермиона (ст. 825); кормилица утешает ее тем, что муж из-за варварки не оттолкнет ее (ст. 870). Появляется Орест (ст. 881), который хочет узнать, как живет его двоюродная сестра - Гермиона. Та жалуется, что ее сгубили советы дурных женщин, внушивших ей не терпеть соперницы. Орест принимает сторону Гермионы, грозит убить ее мужа (ст. 997) и увозит ее в Спарту. Вестник обстоятельно излагает события, происходящие в Дельфах (ст. 1085 слл.). Потом приносят труп Неоптолема, убитого жителями Дельф по подстрекательству Ореста (ст. 1170). После плача Пелея (ст. 1173 слл.) появляется в облаках Фетида и объявляет, что Андромахе предстоит вступить в счастливый брак и поселиться в Молосской земле (ст. 1243-1245), а самого Пелея берет к себе. Кончается трагедия рассуждениями о браке (ст. 1279-1283), которым в ней вообще отведено слишком много места, так что некоторые ее сцены, например весь разговор Ореста с Гермионой, и по содержанию и по настроению очень далеки от обычного уровня трагедий и сбиваются на семейные дрязги, уместные лишь в бытовой комедии (ст. 897-1008).
Богиня предсказывает, что Андромаха выйдет за царя молоссов Элена и будет дружно жить с ним (ст. 1245). Здесь Эврипид учитывает помянутое уже Пиндаром происхождение молосских царей от Неоптолема.[9]
Настроенным против Спарты согражданам Эврипид доставил большое удовольствие речью Андромахи (ст. 445 сл.). "О ненавистнейшие всем людям смертные, жители Спарты, зачинщики зла, предводители лжи,, создатели дурного, не способные ни к чему хорошему". Это проклятие Андромахой спартанцев отвечало настроениям афинян во время Архидамовой войны (431-422 гг), ко времени которой относится постановка этой трагедии.
Вестник, рассказав о гибели Неоптолема в Дельфах, заключает: "Так поступил с сыном Ахиллеса бог, вещий для других, бог справедливости для всех. Как злой человек, он припомнил старые распри. Как же считать его после этого мудрым?" (ст. 1161-1165). Здесь явное осуждение поэтом поступков Аполлона, сочувственно представленных Софоклом в "Гермионе", на сюжет которой и написана эта трагедия Эврипида. У Софокла Неоптолем ехал в Дельфы требовать от Аполлона ответа за убийство отца своего Ахиллеса, (TGF, фр. 176). Эврипид желал усилить вину бога и, наоборот, смягчить вину Неоптолема, который в Дельфах винился перед Аполлоном в этой дерзости, хотел замолить свою провинность и заслужить милость бога ("Андромаха", ст. 50-55). Схолиаст к ст. 446 прямо говорит, что в уста Андромахи поэт вложил прямые нападки на спартанцев за начатую ими войну; при этом указывается, что трагедия шла не в Афинах. Но предположения новых ученых об исполнения трагедий в Аргосе неубедительны.
Трагедия "Гекаба" была поставлена ранее 423 г. Греки отнимают у Гекабы дочь ее Поликсену, чтобы эаколоть ее на могиле Ахиллеса. Гекаба узнает в это время, что погибла ее последняя надежда: служанка, ходившая за водой для омовения тела Поликсены, нашла на морском берегу выброшенное морскими волнами тело Полидора, сына Гекабы, которого Приам, предвидя нападение греков, отправил во Фракию; но фракийский царь Полиместор, узнав о взятии Трои, убил Полидора, чтобы завладеть его сокровищами. Гекаба решает отомстить предателю. Обманом она завлекает Полиместора в толпу троянок и с их помощью выкалывает ему глаза. Трагедия как бы распадается на две части: с одной стороны - убийство Поликсены, с другой- смерть Полидора и месть Гекабы. Видя, как несчастную мать постигает одно бедствие за другим, зритель понимает, что она, пораженная последним и самым тяжким горем, могла пойти на жестокую месть своему врагу.
Недостатками "Гекабы" являются более слабая разработка образов Агамемнона и Одиссея, сравнительно с другими драмами, где они выступают, и полное отсутствие развития действия, по существу не меняющегося на протяжении всей трагедии, которая представляет собой в итоге только передачу настроения Гекабы и окружающих ее лиц.
Сюжет "Просительниц" заимствован из сказаний о походе Семерых против Фив. После того как аргивское войско было разбито под Фивами, фиванцы отказались выдать аргивянам трупы убитых для погребения. Адраст и аргивские женщины - жены и матери павших героев - являются в Элевсин и умоляют афинского царя Тезея заступиться за них. Последний оказывает им помощь и силою оружия принуждает фиванцев выдать трупы. Происходит торжественное погребение сбитых. Много места занимает изображение похоронной процессии. Эвадна, жена Капанея, одного из героев, убитых под Фивами, бросается в пламя погребального костра. Сыновья убитых несут в урнах прах своих отцов.
Как в одноименной трагедии Эсхила, где центром действия служат лица, представленные хором, состоящим из двух частей - из Данаид и их служанок, так и в трагедии Эврипида хор составляют матери героев и их служанки.
А. Бек относит эту трагедию ко времени после заключения союза с Аргосом; это событие будто бы вызвало одобрение Эврипида. Другие исследователи находят больше сходства отдельных ее подробностей с обстоятельствами, последовавшими за низвержением установленной спартанцами олигархии. В словах о том, что воспитывать девушек бесполезно, если они не защищены от похоти тираннов (ст. 451-455), видят прямой намек на насилие, совершенное Бриантом над невестой, похищенной из свадебной процессии, что повлекло к свержению олигархии (Павсаний II, 20). Можно видеть в сюжете этой трагедии и отклик действительного события после сражения при Делии 424 г., когда победители афинян фиванцы, вопреки общепризнанному обычаю, отказались выдать трупы убитых для погребения. В этом случае "Просительницы" могли быть написаны в 422 или 421 году. Такие места в трагедии,[10] где говорится о том, что нельзя у народа отнимать всей власти, но нельзя и давать ее ему целиком, или что не следует выдвигать одних только богачей, - очень близки к воззрениям Солона. Желание Эврипида ввести в свои трагедии людей таких взглядов несомненно. Труднее решить, насколько он сам являлся их сторонником.
В "Просительницах" прославляется мир (ст. 488 слл., 950 слл.) и порицается юношество за чрезмерную воинственность (ст. 160 сл. 232 сл.). Есть в трагедии места, которые должны были иметь острое политическое значение для зрителей, но нам они не ясны (например, ст. 320 слл.).
Элиан, сохранивший (Пестр, ист. II, 8) выписку из официального протокола о постановке в 415 г. трагедии "Троянки", прибавил к ней замечание о глупости и невежественности судей, давших на драматическом состязании перевес Ксеноклу над Эврипидом, в тетралогию которого входила эта трагедия вместе с "Александром", "Паламедом" и драмой сатиров "Сисифом".
После обсуждения Посейдоном и Афиной участи жителей обреченной на гибель Трои (ст. 1-97), где намеренно подчеркнуто полное равнодушие богов к людям, начинается строго выдержанная картина расправы с троянками, замыкаемая городским пожаром (ст. 1279 слл.). Он должен был еще сильнее подчеркивать ужас бедствия, если только театральная техника того времени обладала уже достаточными средствами для соответственного воплощения того, о чем так выразительно говорили актеры. В целом трагедия является как бы драматическим развитием тех восходящих к народным песням воплей и заплачек, в каких изливали свое отчаяние древние женщины; им приходилось в большей или меньшей степени изведать такую же участь, какая выпала на долю знатных пленниц, которых в трагедии Эврипида распределяют между греческими вождями. Но Эврипид углубил эти сердечные излияния, вложив в уста престарелой Гекабы (ст. 510) знаменитый ответ Солона Крезу, что до смерти никого нельзя признать счастливым (Геродот I, 32), и заставив Андромаху предпочитать жизни смерть, которая прекращает все страдания, особенно тяжелые для тех, кто раньше жил счастливо (ст. 637-640). Из этой общей картины Эврипид мастерски выделил отдельные образы. Особенно тяжко для матери Кассандры и всех окружавших должна была звучать ее безумная брачная песнь (ст. 308-340). На смену ей выступает Андромаха (ст. 575 слл.); Эврипиду удалось удержать ее образ на высоте того величия и сохранить за ней всю ту чарующую сердечность, какими ее наделила "Илиада". Сперва Андромаха томится лишь от мысли, что ей предстоит сожительство с сыном Ахиллеса после такого мужа, как Гектор (ст. 641-679). Об убийстве ее сына Астианакта поэт заставляет ее узнать позже (ст. 719-720), давая этой последовательностью почву для усиления ее скорби. Ее прощанье с обреченным на смерть сыном (ст. 740-779) - одно из самых трогательных мест в древней трагедии.
Этим положительным образам Эврипид противопоставил гнусного в своей холодной деловитости исполнителя приказа вождей Талфибия. Его поступки вполне оправдывают полные презрения слова Кассандры, с которыми она обрушивается на прислужников тираннов и правителей городов (ст. 424-426). Всю силу приема сопоставления света и тени Эврипид показал, выведя под конец Елену. Ее красота и наряды не так подчеркивают ее противоположность другим женщинам, как та лживая изворотливость и холодная расчетливость, с какой она оправдывается перед своим мужем Менелаем (ст. 895 слл.), особенно когда ей приходится защищать себя от слишком хорошо знающей ее Гекабы (ст. 969-1032); в их споре Эврипид показал все свое знакомство с судебными словопрениями. И своею любовью к дочерям и невестке, и своею ненавистью к Елене объединяет всех учг. стниц трагедии престарелая Гекаба. Ее прощание С детьми, с родной землей и охваченной пламенем пожара Троей глубоко захватывающим и идущим от сердца воплем замыкает эту трагедию сплошных страданий, для изображения которых драматургу могло дать, нужные краски наблюдение над тем, что терпели его сограждане в годы войны.
В 412 г. была поставлена тетралогия, в которую входили "Андромеда" и "Елена". В трагедии "Елена" Эврипид, следуя Стесихоровой версии мифа, поставил себе трудную задачу: героиню, которую греки привыкли представлять типом жены-изменницы, изобразить идеалом супружеской верности. Действие происходит в Египте. Менелай на пути из Трои в Спарту попадает в Египет и находит там Елену. Но это не настоящая Елена, а только ее призрак; боги, решив разжечь войну греков с троянцами, создали призрак Елены; он и был привезен Парисом в Трою, а потом оказался во власти Менелая. Настоящая же Елена перенесена была в Египет, где и жила у царя Протея. Незадолго до прибытия туда из Трои Менелая с призраком Елены Протей умирает и воцаряется Феоклимен, который ищет руки Елены. Елена хочет сохранить верность Менелаю, но Феоклименовы притязания слишком настоятельны. К счастью, прибывает Менелай, узнает, в чем дело, и при помощи хитро задуманного Еленой обмана ему удается увезти свою супругу (призрак Елены между тем исчез). Характеры трагедии очень бледны; ее достоинство - разработка довольно сложной, хитросплетенной интриги. Подробный разбор предания, положенного Эврипидом в основу этой трагедии, дал Геродот (II, 112-120). В "Елене" хору отведено очень мало места, но зато восполнению музыкальных красот этой трагедии служат обширные и яркие монодии самой Елены.
Сюжет "Елены" Я. Буркхардт считает не вполне удачным. Трудно было согласовать взятое из мифа предание о том, как много лет скитался Менелай по свету с призраком своей супруги, с чисто человеческими чертами его характера: миф к этому не подходит. Затем Менелай в Египте встретил настоящую Елену, а призрак улетучился в воздух, причем это не показано на сцене, но сообщено лишь в виде рассказа; ему отведено в трагедии слишком много места, поэтому для ее участников остается очень мало возможностей для подлинных переживаний. Подчеркнув сильно чувственность истомившегося в тоске по красавице жене Менелая (ст. 555, 559), Эврипид рисует бытовыми красками встречу супругов после долгой разлуки (ст. 545-845). Затем появляется царевна Феоноя (ст. 865 сл.), характер которой поражает чрезмерным благородством. Брат Феонои Феоклимен, пытающийся взять Елену себе в жены, оказался недальновидным (ст. 1165-1300). Вся интрига разрешена Эврипидом очень неудачно: зритель узнает одно и то же и по ходу действия и из рассказа. Очень плохо вяжется с характером Менелая возвещенное Диоскурами его дальнейшее пребывание на острове блаженных (ст. 1676).
Эти противоречия пытались объяснить тем, что содержание трагедии сплетено с чертами, взятыми из древнейших народных сказаний. Но Эврипид непомерно усложнил эту задачу, введя в драму слишком много рассуждений в духе своих современников по острому для них вопросу об отношении греков к варварам.
Критика отмечает обилие чисто комических сцен и положений в этой трагедии, особенно во взаимоотношениях между Еленой и Менелаем.[11] Эту особенность трагедии "Елена" возможно объяснять ее связью с праздником Фесмофорий и царившим на нем настроением.
Через полвека после Эсхила́, поставившего в 458 г. в Афинах свою "Орестею", Эврипид в 408 г. выступил с трагедией "Орест". Сличение этих пьес показало, как сильно переменились за эти полвека Афины и как велико расстояние, отделяющее их первого трагика от Эврипида.[12] Эсхил еще весь на страже исконной веры предков. Эврипид боится опереться на нее: его Электра осуждает богов (Орест, ст. 974), жалея род людской (ст. 975, 981). Ослабив вмешательство богов, Эврипид заставил Аполлона в заключительном монологе только мимоходом коснуться гнева Эвменид и суда Ареопага над Орестом (ст. 1648 слл.). Все внимание Эврипид сосредоточил на изображении переживаний убийцы матери - Ореста: припадки безумия не заглушили в Оресте голоса совести (σύνεσις) (ст. 396).
В Электре, девушке с душой мужчины (ст. 1204), дан образ нежной сестры, для которой брат составляет все. Покинутая и вместе с ним осужденная на смерть, она пять дней и пять ночей ходит за больным братом. К ней выходит ее тетка Елена, и их беседа (ст. 71 слл.) ярко обнаруживает всю их противоположность: блеск и нега окружают Елену - Электра же в нищете и горе. У Елены есть и дочь и муж - у Электры только брат, да и тот полутруп (ст. 83, 86), и она с завистью глядит вслед Елене, видя, как несправедливо судьба наделяет счастьем лишь немногих (ст. 126 слл.). Ее брат, потеряв рассудок (ст. 216), в минуты просветления горько сетует на покинувшего его Аполлона (ст. 286 слл.). Оресту мастерски противопоставлен уравновешенный, полный любви к жизни, изнеженный (ст. 349) счастливец (ст. 449) Менелай, пускающий в ход философию Сократа и утверждающий, что для мудреца всякое принуждение - рабство (ст. 488), но судьба заставляет и мудреца быть рабом (ст. 716-717). Наделив такими чертами своих героев, в изображении которых чувствуются отклики современных философских споров, Эврипид и Ореста сделал, по замечанию Дешарма, учеником Протагора. Ему противопоставлен отец его матери - Тиндарей, трем дочерям которого была суждена столь роковая для Греции участь (ст. 750). Старец выступает на охрану закона, резко осуждает тех, кто слишком много доверяет своей мудрости и ловкости своих речей (ст. 491-495, 523, 891, 905-913). Но сила новых учений сказалась и на самом поэте, позволив ему поставить под сомнение вопрос о том, насколько славно деяние Ореста, который, мстя за отца, убил родную мать.
Смело разрывая ткань древних преданий, Эврипид преимущественное внимание уделяет чисто семейным условиям жизни своих героев, большинство которых дышит ненавистью к Елене, виновнице всех зол (ст. 248). В итоге, зритель едва ли сочувствовал тому, что Аполлон для спасения Елены от карающей руки человека (ст. 1632) обещал поместить ее в чертогах богов (ст. 1684). Путем широких обобщений поэт от Елены переводит мысль на значение брака для человека вообще, и Орест спрашивает Тиндарея (ст. 602-604):
Не только ль те, что женятся удачно,
И счастливы? А не задался брак,
И меж чужих и дома ты несчастлив.
Это выводило трагедию из далекой области мифа, приближая ее к повседневным раздорам в семьях. Вот почему Орест гордится тем, что покарал хотя бы одну из тех мужеубийц, которые прикрывали свои преступления, действуя на сыновние чувства (ст. 566-570). С ним вполне согласен старый селянин, являющийся в качестве вестника и предостерегающий мужей от грозящего им рабства под игом жен (ст. 937). Примеров мужа-раба является Менелай, над которым властвует его жена Елена и которого славят одни женщины (ст. 742, 754, 1202). Л. Радермахер указал, что исчезновение Елены и захват Гермионы Пиладом производят комическое впечатление, усиливаемое всем поведением фригийца.[13] Грамматик Аристофан уже давно отметил в "Оресте" развязку, свойственную комедии.
Эврипид показал пленительную картину стойкой дружбы: Пилад не признает жизни без Ореста (ст. 1070), который и сам знает, что ни богатство, ни царская власть, ни успех у народа не заменят истинного друга (ст. 1155-1158).
Мастерство изображения характеров видно и на второстепенном образе фригийского раба, вводящего в свой рассказ много бытовых подробностей. В описании раба упомянута даже его восточная обувь (ст. 1370). Характерен его рассказ о Елене (ст. 1426-1436).
Любитель женщин, фригиец даже в рассказе о нападении на Елену не может не отметить белизну ее груди и золотые ее туфли (ст. 1466- 1468). Самый склад его тревожной речи с постоянными повторениями, свойственными растерянному человеку, своей спутанностью хорошо подчеркивал его отчужденность от слушателей (ст. 1395, 1427, 144, 1454).
По строю мыслей и по приемам развития действия "Орест" - одна из самых удачных трагедий Эврипида: недаром в древней ὑπόθεοις указано, что она "была известна на сцене", т. е. была любимой пьесой. Эта трагедия больше других драм Эврипида показывает отличие его не только от Эсхила, но и от Софокла.
Строя своего "Ореста" на резком противопоставлении характеров, Эврипид должен был ввести больше, чем обычно, участников трагедии, но он сумел очень удачно связать их в одно драматическое целое. Примером может служить сцена (ст. 1235 слл.), где Орест, Пилад и Электра указывают, как они поделили между собой возложенное на Ореста мщение за убитого отца. Введя в трагедию два рассказа вестников, Эврипид к обычному монологу первого, старика-селянина (ст. 856-870), прибавил очень красочное выступление фригийца, а это дало ему почву для многократного выражения презрения гордого своей свободой грека к унижению варвара с его низкопоклонством (ст. 1111, 1507-1527). Орест полон достоинства, напоминая варвару, что он на греческой земле, а не в Илионе (ст. 1508). То же с еще большей силой говорит в трагедии "Ифигения в Авлиде" (ст. 1400-1401) юная дева, сознавшая свой славный долг: она жертвует жизнью, со всеми еще неизведанными ее радостями, ради родины, чтобы снять с родной страны позор унижения перед варварами:
Грек цари, а варвар гнися! Неприлично гнуться грекам
Перед варваром на троне: мы - свободны, в Трое--рабство.
Ни Софокл в "Трахинянках", ни Эврипид в "Геракле" не рискнули обработать основное содержание легенды о великом герое дорян. Эврипидов "Геракл"[14] воспроизводит содержание, обработанное Стесахором и древними эпиками. В позднее время еще показывали в Афинах гробницу детей Геракла (Павсаний IX, 11).
Фиванский тяранн Лик в отсутствие Геракла преследует его семью, однако тот является во-время, спасает семью и умерщвляет тиранна. Но богиня Гера насылает на Геракла демона безумия, Лиссу; не сознавая своих поступков, Геракл сам убивает только что спасенных им детей и жену. Это давало почву для ярких драматических сцен и трактовки глубоких вопросов нравственности. Так, в заключительной сцене Геракл борется между решением покончить опостылевшую жизнь самоубийством и желанием найти другой, высший путь к возмездию за злодеяние (ст. 1089- 1339); ему приходится выдержать спор с Тезеем, которому он доказывает, что им утрачено право на жизнь (ст. 1257); мудрый Тезей утверждает, наоборот, что нет ни человека, ни бога без греха, если только не лгут поэты (ст. 1314-1315).
В оценке трагедии "Геракл" критики нового времени сильно расходятся: Магаффи и Патен ставят ее очень высоко; другие осуждают ее за отсутствие художественного единства (она будто бы распадается на две части), чем страдают, на их взгляд, и "Гекаба", и "Андромаха", и "Троянки". Это оспаривает Ин. Анненский, доказывая наличие в трагедии глубокого психологического единства.
В "Ионе" Эврипид изображает, как бог Аполлон насильно овладел Креусой, дочерью афинского царя Эрехтея, вышедшей затем замуж за ахейца Ксуфа, помогшего афинянам в войне за Эвбею. Бездетный брак Ксуфа и Креусы заставляет супругов придти в Дельфы, где Креуса хочет узнать об участи покинутого ею младенца-сына, отцом которого был Аполлон. Оракул сказал Ксуфу, что первый, кого он встретит по выходе из храма, и будет его сын. Иона, встреченного Ксуфом и признанного им за сына, затем преследует Креуса, пока не раскрывается история его происхождения.
В эту обычную для трагедии канву поэт вложил множество чисто бытовых подробностей и настроения, свойственные любой из его современниц. Сыновья Иона чтились как учредители четырех первичных фил афинян.[15]
В Афинах указывали могилу Иона.[16] Зто доказывает теснейшую связь героя трагедии с местной историей Афин. Предание[17] делает Ксуфа первым вождем ионян: помощь царю Афин против Эвбеи доставила ему руку царской дочери Креусы, а ее сын Ион дал имя всему племени ионян.
В этой трагедии обстановка праздничного пира (ст 1222-1227), движения летящих птиц (ст. 154 сл.) и украшения дельфийского храма описаны с редкой любовью к передаче мелочей. Чувствуется, что Эврипид влагает в уста Иона передачу своих непосредственных наблюдений и впечатлений. Такой же прием реального письма применен в передаче переживаний и чувств действующих лиц, у которых, если изменить имена, не остается ничего общего с древним мифом. Любая гречанка того времени могла рассказать в минуту откровенности о своем падении совершенна так же, как это делает Креуса, рассказывая о своей вымышленной подруге и преодолевая свой стыд (ст. 337). Стремясь еще ближе связать это происшествие с тем, что часто бывало в быту, Эврипид заставляем Иона высказать подозрение: на бога зря валят то, что сделал смертный (ст, 341). Ребенок, рожденный от этой связи, был брошен (ст. 344, ср. 555), как большинство детей, участь которых в следующем веке изображала бытовая комедия Менандра. Затем и супруг Креусы тоже рассказывает о своем любовном похождении, не минуя даже подробности, свойственной комедии: он говорит, что его увлечение разгорелось под влиянием вина (ст. 553). Путь к развязке прокладывает Пифия, дав Иону корзинку, в которой он был брошен матерью (ст. 1334-1355) и по которой она узнает о его происхождении (ст. 1398), - совсем как в бытовой комедия. На этой бытовой почве великий мастер изображения душевных страданий Эврипид строит очень трогательные упреки женщины, покинутой обольстителем, услаждающим себя пением и игрой на кифаре (ст. 898-906), а юного Иона заставляет тосковать по неведомой матери (ст. 1370 слл.). Усложнив жизнь действующих лиц этой трагедии обилием разнообразных переживаний, Эврипид заставил Креусу ревновать мужа к матери найденного им сына: ведь его матерью могла оказаться и пробравшаяся в дом раба-соперница (ст. 887). Воспитатель, снова по наблюдениям над жизнью рисуя возникающие в доме при таких условиях раздоры, толкает Креусу на уничтожение ребенка мечом или ядом (ст. 844- 845), если совесть не позволяет ей убить мужа (ст. 976 слл.). Этим Эврипид опять поднимает действие пьесы до обычного для трагедии уровня.
По своему построению трагедия "Ион" очень похожа на "Елену", почему некоторые считают постановки обеих трагедий близкими по-времени.
В "Ионе" Эврипид рисует человека нового времени. Узнав о том, как безжалостно поступил Аполлон с обольщенной девой, Ион возмущается тем, что боги, создавшие законы для людей, сами попирают их; нельзя поэтому называть людей дурными, если они только подражают богам; плохи, стало быть, сами боги (ст. 440-451). Не нравятся ему и действия людей: царская власть хороша только по виду, а в доме у тиранна плохо: он подбирает себе друзей среди негодяев и ненавидит людей достойных, боясь умереть от их руки. Это не возмещается и богатством: неприятно держать в руках сокровища, слыша порицания (ст. 621-631). Хорошие и мудрые люди не принимают участия в делах, а предпочитают молчать, чтобы не вызывать ненависти людей, лишенных власти (ст. 596-599). Поэтому Иону по душе жизнь умеренная, но зато свободная от огорчений (ст. 632). Такое настроение Иона было чуждо тем, кто занимал в Афинах влиятельное место при Перикле. Оно характерно для людей следующего поколения, когда превратности политики заставляли многих подальше удаляться от треволнений общественной жизни. Быть может, не случайно, что в трагедии, где первое место занимает юный представитель именно таких мыслей, старец провозглашает мысль, очень смелую для рабовладельческого общества (ст. 854-856):
... в имени одном
Позор раба; а коль он добр и честен,
Свободным не уступит он ни в чем.
В "Электре" Эврипид представил не только мстительницу за смерть отца, но и строгую аттическую хозяйку, которая не прочь пожурить своего мужа за мотовство. Когда являются Орест с Пиладом, Электра, выданная замуж за крестьянина (см. ниже, § 5, стр. 412), не зная еще, кто они, бранит мужа за приглашение знатных гостей, которых нечем угощать. Самую месть за смерть Агамемнона Эврипид выставляет не делом долга и правосудия, а следствием бессердечной мстительности Ореста, действующего, впрочем, по повелению Аполлона. Электра обнаруживает самое бессердечное коварство при выполнении хитро задуманного плана матереубийства. Совершив его, Орест и Электра сожалеют о матери и раскаиваются в своем проступке. В конце пьесы являются боги Диоскуры и, произнося приговор по этому делу, называют неразумным поступок премудрого Аполлона.
Давний спор о том, кто раньше написал свою "Электру" - Софокл или Эврипид, Г. Кайбель и И. Фален решили в пользу первого путем пристального сличения обеих трагедий. Электра у Софокла отняла у Клитеместры всякую возможность оправдать свою измену мужу ссылкой на боль, причиненную ее материнскому сердцу принесенном в жертву Ифигении. Эврипид этого довода уже не выдвинул. В то же время Софокл не сумел так блестяще, как Эврипид, построить сцену словесного состязания. В одном месте трагедии Эврипида (ст. 1347 слл.) видят намек на политическую обстановку весны 413 г., как это установил А. Вейль, и думают, что если к этому году относится постановка "Электры" Эврипида, то от пьесы Софокла отделяло се не много времени.
Громадный шаг, по сравнению с Софоклом, для приближения содержания древней "Орестеи" к уму и сердцу зрителей сделал Эврипид тем, что действие своей "Электры" из сказочного дворца Атридов перенес в хижину современного ему селянина-бедняка.
Софокл выбрал для хора своей "Электры" замужних женщин, потому что подруг у одинокой Электры не было, а служанок, как и всю прислугу в доме Клитеместры, сменили при новом браке (ст. 1340). Замужних женщин Эврипид заменил девушками, пришедшими звать Электру на праздник Геры, и это дает ему возможность ввести чисто бытовую черту: Электра не может идти с ними на праздник, так как у нее нет праздничного наряда и ей не до плясок (ст. 176-189).
В трагедии Эврипида старец предлагает Электре сравнить оставленный незнакомцем на могиле ее отца локон с ее собственным (ст. 520) и отпечаток ноги незнакомца с ее следом (ст, 532), чтобы убедиться, брат это ее или нет; но Электра убеждает его в неосновательности таких доказательств (ст. 524-531, 534-537). Между тем, в "Хоэфорах" Эсхила Электра как раз по этим признакам узнает в пришельце родного брата. Можно поэтому думать, что эту подробность ввел в свою трагедию Эврипид из желания осудить приемы творчества своего предшественника.
В трагедии Эврипида сама Электра выступает с трогательным плачем по отце (ст. 144 сл.). Сравнивая себя с лебедем, плачущим у реки (ст. 151), она обнаруживает близость своей песни к народным обрядовым заплачкам по павшим.
В своем ожесточенном споре с матерью она не верит, что Клитеместру толкнуло на убийство мужа принесение в жертву Ифигении (ст. 1020-1029). Электра настаивает на том, что Клитеместра совершила преступление, желая продолжать веселиться с новым возлюбленным, которого она старалась прельстить своей красотой и уборами (ст. 1069- 1073). Эта часть ее упреков вносит в образ трагической героини черту, сближающую ее с бытовой обстановкой повседневной семейной перебранки.
Много спорили о взаимоотношениях между этими одноименными трагедиями Софокла и Эврипида. Безусловно, "Электра" Эврипида в драматическом отношении интереснее: у Софокла сама Электра почти не действует, а Орест без долгих речей и колебаний переходит к действию, опираясь на. помощь бога Аполлона. Обиженная и угнетенная Электра Софокла всю силу своих чувств и мыслей направляет на борьбу за попранное право, но к действию переходит лишь в случае полной необходимости, да и то грозит не матери, а лишь Эгисфу. Наоборот, Эврипид, - знаток страстей, особенно женских, - учел, что Электра, как трагическая героиня, должна прежде всего действовать: поддерживать слабого брата, заманивать к себе мать бесстыдной ложью, приветствовать и увенчивать убийцу Эгисфа, держать надгробную речь и даже принимать участие в убийстве матери, И Эврипид сумел достаточно обосновать эти черты, противоречащие на первый взгляд представлению о женственности. Его Орест говорит, что он приходит, чтобы убить Эгисфа не речами, а делами (ст. 893; ср. 887). Некоторые исследователи видят в этих словах даже прямой выпад Эврипида против Софокла, Орест которого слишком много простора дает именно речам.
В "Электре" (ст. 1643 сл.) Эврипид колеблется между аттической и пелопоннесской версией предания. В "Электре" он сжал трилогию в одну трагедию, блестяще разрешив эту сложную задачу и создав пьесу обильную действием. Развивающаяся без перебоев посредством совсем нового сочетания мотивов и драматургических приемов, пьеса постоянно повышает напряженность внимания зрителя.
Когда неблагополучный для Афин исход Пелопоннесской войны лишил их былого могущества и в палатке спартанского победителя Лисандра обсуждалась участь города, еще недавно господствовавшего в Греции (при этом один фиванец предлагал даже срыть Афины), один фокеец запел начало парода Эврипидовой "Электры": "Дочь Агамемнона, мы приходим к твоему деревенскому дому" (ст. 167). Все заплакали и признали ужасным уничтожение города, обладавшего великой славой и воспитавшей его замечательных мужей. Этот рассказ Плутарха (Лисандр, гл. 15) доказывает, что образ царевны Электры, оказавшейся после обрушившейся на ее дом беды в жалких жизненных условиях, напоминал афинянам и их друзьям участь великого города, униженного неудачной войной со Спартой.
Эврипид любил избирать для обработка предания, мимо которых равнодушно проходила его предшественники. Таково сказание об Ифигении. В основе его лежит предание, связанное с несколькими местечками Аттики, в том числе Брауроном, где был культ богини Артемиды, носивший прозвище Ифигении. В других местах Аттики ее звали Таврополис, и культ ее требовал ежегодного принесения в жертву мужчины, которого взамен убийства, как бывало в древности, теперь только слегка ранили. Дальнейшее развитие предания привело к отождествлению Ифигении с дочерью Агамемнона, но ни Гомер, ни Гесиод еще ничего не знают о принесения ее в жертву богине Артемиде, одно из прозвищ которой было развито в самостоятельное лицо. В "Илиаде" (IX, 144, 287) Агамемнон среди трех своих дочерей называет Ифианассу. Эврипидова трагедия, вытеснив это имя, дала ей близкое к нему имя Ифигении. По одному преданию, отец принес Ифигению в жертву еще на первом году ее жизни, как прекраснейшее из всего, что в том году родилось в его царстве.[18] Эту причину она сама указывает в прологе "Ифигении в Тавриде" Эврипида. (ст 20 сл.), а Лукреций в своей поэме (I, 84-101) привел такое жертвоприношение как образчик величайшего из злодеяний, порожденных религией.
"Ифигения в Тавриде" Эврипида написана, вероятно, между 420 и 412 гг. Содержание ее следующее. Орест после совершения убийства своей матери получает от Аполлона приказание - привезти идол Артемиды в Аттику, чем только он и может избавиться от преследования Эриний. Орест приезжает вместе с Пиладом в Тавриду, где оба попадают в плен к скифам, которые чествовали Артемиду человеческими жертвами. Такими жертвами должны стать Орест и Пилад. Жрицей Артемиды оказывается Ифигения, сестра Ореста, чудесно спасенная Артемидой. Услышав от пленников о печальной судьбе своих родителей и о том, что Орест жив, она предлагает одному из пленников возможность спасения: отвезти письмо в Грецию к ее родным. Но один из пленников должен остаться, чтобы стать жертвой Артемиды. Завязывается великодушный спор между Орестом и Пиладом: каждый хочет остаться, чтобы спасти другого. В этом споре побеждает Орест. Ифигения, - на тот случай, если письмо погибнет при кораблекрушении, - излагает Пиладу содержание письма: если понадобится, посланец устно сможет передать весть об Ифигении. Орест слышит содержание письма, обращенного к нему самому, и узнает в жрице свою сестру. Эта сцена "узнания" по своему правдоподобию принадлежит к самым удачным местам этого рода в греческой драме. Орест открывает причину своего прибытия в Тавриду. Затем брат и сестра разрабатывают план бегства из скифской страны и похищают идол богини. Искусно задуманный план почти выполнен; беглецы уже на корабле Ореста, но буря прибила судно опять к берегу; скифский царь готов схватить их. Тогда является Афина, приказывает царю прекратить преследование беглецов, которые так же, как и греческие пленницы, составляющие хор в этой трагедии, должны возвратиться на родину, взяв с собою идол Артемиды. Царь, покоряясь высшей воле, обещает отменить жестокий обычай принесения в жертву чужестранцев.
Геродот в описании Скифии рассказывает об обычае тавров (жителей Крыма) приносить всех греческих мореходов, которых им удавалось захватить, в жертву божеству, называвшемуся Ифигенией, дочерью Агамемнона.[19] Сюда прибавилось предание о том, что богиня для примирения с Орестом требовала, чтобы он привез из Тавриды изображение Артемиды. Художественная обработка этих преданий принадлежит, главным образом, Эврипиду: глухое упоминание об "Ифигеняи" Эсхила не позволяет определить, какую часть этих сложных преданий он в ней затрагивал.
В трагедии "Финикиянки" Эврипид совсем иначе, чем Софокл, обработал сказания об Эдипе. Древние относили "Финикиянок" к числу лучших произведений Эврипида;[20] но эта трагедия, относящаяся ко времени старости трагика, слишком перегружена содержанием, которого хватило бы на целую трилогию. Лишенная единства и последовательности развития действия, она возвращается к преданиям, уже обработанным Эсхилом в трагедии "Семеро против Фив" и Софоклом в его трех трагедиях об Эдипе и его потомстве, причем Эврипид не удержался от прямого осуждения приемов Эсхила в разработке этого предания (ст. 751). Названа трагедия по хору, состоящему из финикийских девушек, задержанных на пути в Дельфы в Фивах нашествием семи вождей под предводительством Адраста. Для того, чтобы разрушить однообразие, присущее трагедии Эсхила "Семеро против Фив", Эврипид ввел ряд ярких сцен, например сцену, в которой воспитатель со стены показывает Антигоне проходящих вождей (ст. 88-90). Здесь Эврипид переложил в драматическую форму то место "Илиады", где Елена показывает старцам со стены Трои греческих вождей (Тейхоскопия, Ил. III, ст. 146-242). О самой битве зритель узнавал у Эврипида из рассказов вестника (ст. 1090-1199; 1217-1263). У Софокла события развертываются без участия Эдипа и его жены, Эврипид же вводит эти лица в действие и этим обостряет драматизм таких сцен, как попытка Иокасты примирить враждующих братьев, где показана вся глубина материнской любви (ст. 355-637). Очень трогательна заключительная сцена, где Антигона вызывает из дома слепого отца Эдипа (ст. 1539 слл.), которого суровый Креонт обрекает на изгнание (ст. 1589). Своего сына Менекея Креонт уговаривает покинуть город, но тот, притворно соглашаясь с отцом, обрекает себя на гибель. Эта сцена (ст. 965-1018), по видимому, вполне самостоятельно введена Эврипидом в рамки предания и служила выражением его дум о поведении сограждан в ответственную полосу жизни Афин, которые прославляются з этой трагедии (ст. 852-857, 1705-1807). Древнее предисловие Аристофана-грамматика к трагедии отмечает изобилие в ней зрелищных красот.
Римский трагик Сенека оставил очень неудачную ее обработку.
"Финикиянки" содержат 1766 стихов. Это одна из самых длинных греческих трагедий.
Комедия Аристофана "Финикиянки" являлась, по видимому, переработкой трагедии Эврипида того же названия, но отрывки этой комедии (фр. 558-563) слишком незначительны, чтобы можно было даже приблизительно определить, в чем именно состояла пародия Аристофана.
Пародию на "Финикиянок" написал и Страттид, который, кроме, того, по видимому, пародировал и "Андромеду" Эврипида.[21]
В последние годы жизни Эврипид снова обратился к сюжету об Ифигении. В отличие от прежней она называется "Ифигения в Авлиде". В основу этой трагедии положен рассказ о жертвоприношении.
Готовность девушки пожертвовать собой Эврипид изображает здесь не в первый раз, Принесение в жертву девушки ради спасения города упоминалось в трагедии "Эрехтей". В "Гераклидах", постановка которых относится, во всяком случае, к первой половине Пелопоннесской войны, Макария готова "со славой покинуть жизнь" (ст. 534). Но здесь эта жертва не вызывает тех чувств, как смерть Ифигении от руки отца: Демофонт убивает не свою, а чужую дочь (ст. 409) и сурово осуждает это (ст. 411-414); тем самым отпадает глубокая драма, какую переживает Агамемнон. Дочь Агамемнона обречена на смерть в минуту, когда считала себя у вершины счастья и была вместе с любимыми родителями и желанным женихом. Макария, наоборот, сознает, что на ней, одинокой деве, никто не женится и не захочет иметь от нее детей (ст. 523-524), - сознание, очень тяжкое для гречанки. Тем легче ей умереть. Кроме того, Ифигения сознает необходимость пожертвовать жизнью после долгой борьбы. У Макарии ничего подобного нет, и она слишком скоро и легко соглашается на смерть. Хотя текст трагедии обнаруживает значительные пропуски и сокращения, но они относятся не к этой ее части. Сравнение Макарии с Ифигенией показывает, что· к концу своего творчества Эврипид нашел наиболее сильные в драматургическом отношении приемы для углубления своих образов.
По сравнению со своими предшественниками Эврипид внес много нового в обрисовку характера Ахиллеса, проявив в создании этой роли особенности своей художественной манеры, свойственной ему как поэту страсти по преимуществу.[22]
Сделав подвиг своей Ифигении, которая в начале трагедии еще ничем не поднимается над уровнем заурядной девушки, итогом вполне сознательного самопожертвования ради родины, Эврипид не только бесконечно возвысил ее образ, но и разрешил труднейшую задачу, которую не сумел оценить Аристотель ("Поэтика", гл. 15), приводивший Ифигению этой трагедии как пример непоследовательности в характере. Аристотель говорит об Ифигении, что "умоляющая, она не похожа вовсе на ту, которая выступает в той же трагедии позже". Однако Патен правильно указал, что Аристотель не понял здесь замысла Эврипида, прекрасно показавшего вполне естественное изменение настроения Ифигении под влиянием обстоятельств. Подобное развитие характера доступно, кроме Эврипида, только таким мастерам, как Шекспир и Лопе де Вега; перед глазами зрителей, в непосредственном действии, наивный подросток превращается в сознательную героиню, ведущую за собой народ на борьбу с теми, кто посягнул на честь родины. Ее первая беседа (ст. 631-676) с несчастным отцом рисует счастливую невесту, не подозревающую, что ей грозит беда. Узнав всю правду, она умоляет отца оставить ей жизнь (ст. 1211-1275); так поступила бы на ее месте любая девушка. Но, поняв свой долг перед родиной, она сразу поднимается до высоты героини, и ее полный самопожертвования заключительный монолог (ст. 1378-1401) является одним из самых сильных образов патриотической поэзии греков, создать который мог только великий художник и пламенный защитник чести своей родины.
После смерти Эврипида его сын, унаследовавший и его имя, поставил ,;Ифигению в Авлиде", "Алкмеона" и "Вакханок",[23] причем некоторые недостатки в конце последней пьесы объясняют неудачными переделками сына.
В "Вакханках" Эврипид вернулся к преданию, уже обработанному Эсхилом. Одна из песен хора "Вакханок" (ст. 565 слл.) прославляет местность Македонии, Пиерию, и это могло служить основанием для тех почестей, какие после смерти Эврипида оказывали ему в Македонии, где находилась и его гробница (Авл Геллий XV, 20, 10).
Уже в "Илиаде" (VI, 130-141) упоминается о борьбе, которою сопровождалось введение культа Вакха: Вакху пришлось скрываться на дне морском от преследований Ликурга. Эсхил изобразил это предание в трилогии о Ликурге.
Трагедия "Вакханки" была и у трагика Ксенокла. На состязании, на котором, кроме "Вакханок", Ксенокл ставил еще "Эдипа", "Ликаона" и драму сатиров "Атамант", он победил Эврипида.[24]
У Эврипида Дионис является в Фивы и ожидает, что его здесь признают богом. Дионису нужно добиться этого признания потому, что сестры его матери, могила которой находилась в Фивах (ст. 6), распускали слух, будто она, прижив его от смертного, называла его сыном Зевса (ст. 26-29); на защиту памяти матери он и пришел в этот город (ст. 41). Его признают богом старцы Тиресий и Кадм (ст. 170-186), которые одни благоразумны (ст. 195). Но возвратившийся из отлучки царь Пенфей возмущается новшествами, которые затеяли в городе женщины, своими хорами прославляющие новоявленного бога (ст. 215- 220). Для Пенфея же это просто златокудрый кудесник из Лидии, который совращает молодежь вином и чарами Афродиты, выдавая себя за сына Зевса (ст. 234-245). Пенфей, юноша с нежными кудрями (ст. 1186), скорбный мыслитель (его имя производят от πένθος-"скорбь"), представлен в трагедии как носитель высших дарований человека.[25] Он видит Тиресия и отца своей матери Кадма в пестрых одеждах нового культа. Их увещания не разрушают подозрений Пенфея, что пришелец развратил женщин и разрушает брачные союзы (ст. 353-354). Приводят Диониса под видом смертного человека. Пенфей чинит ему допрос, всячески издеваясь над ним (ст. 434 сл.), грозя срезать его священный локон (ст. 493) и отнять его тирс (ст. 495). После допроса Пенфей приказывает запереть Диониса в конюшне (ст. 509), но бог убегает (ст. 643). Под видом схваченного пророка Дионис своими советами готовит гибель Пенфею (ст. 848-955 сл.), который и не подозревает, что слушает советы ненавистного ему бога (ст. 787-846), уговаривающего его явиться среди вакханок в женском наряде (ст. 820-837). Дионис наводит на его мать Агаву и ее сестер безумие, в порыве которого они и растерзывают Пенфея, как об этом оповещает зрителей вестник (ст. 1030). Выбегает сопровождаемая вакханками Агава (ст. 1167 слл.), держа на тирсе голову убитого сына (ст. 1284); она ликует в уверенности, что убила льва (ст. 1196-1278). Эта сцена, вместе с другими сценами, где Дионис издевается над уверенным в своей силе Пенфеем (ст. 912-977), принадлежит к лучшим образцам творчества Эврипида, поставившего здесь хор опять на то господствующее место в трагедия, какое ему давал когда-то Эсхил. Песни и пляски неистовых почитательниц нового бога служили основным украшением спектакля.
В трагедии "Вакханки" Эврипид как бы предостерегает своих современников от того дешевого, поверхностного преклонения перед силой самоуверенного рассудка, которым отличается Пенфей. В трагедии (ст. 555) прямо отмечается его ὕβρις (самоуверенность). Вестник упрекает Пенфея в чрезмерном злоупотреблении царской властью. С этим надо сравнить слова Тиресия о дурных гражданах (ст. 271, 311, 332). Хор в своей песни предостерегает от гордецов (ст. 427-431) и призывает следовать тому, что признано большинством. К тому же выводу пришел и свидетель гибели Пенфея (ст. 1149-1152). Может быть, Эврипид выражает свои мысли там, где заставляет говорить мудрого Тиресия (ст. 200-209), что никакие рассуждения (λόγος) не поколеблют взглядов, полученных им в наследие от богов. Пространный ответ Тиресия Пенфею (ст. 266-327) начинается замечанием: "если какой-нибудь мудрец берет для речи хорошее основание, то не трудно говорить хорошо... в твоих же словах нет ума; а человек дерзкий, умеющий хорошо говорить, если у него нет ума, является плохим гражданином". Речь Тиресия содержит ряд мыслей, широко распространенных у риторов школы Горгия.[26] Эта речь пользовалась большим успехом у потомков, и ее началом воспользовался однажды в споре Александо Македонский.[27]
В песнях хора (ст. 877-911, 1006-1011) можно видеть также итог тех мыслей о судьбе человека, которым научила Эврипида жизнь.
"Вакханки" по своему содержанию очень близко подходили к мифу, воплощение которого легло в основу античной драмы; но характеры участников этой трагедии слишком далеки от того, на чем держался культ Диониса. Дионис трагедии Эврипида слишком далек от благостного бога и по своей мстительности и по всему образу своих действий. В споре между Пенфеем и Кадмом доводы последнего в пользу вводимого Дионисом нового культа мало убедительны. Учитывая это, некоторые исследователи трагедии приходят к выводу, что в этой трагедии Эврипид резко выступал против обычного культа Диониса.[28] По остроумному замечанию П. Жирара в рамки этой трагедии Эврипид ввел драму сатиров, только без участия самих сатиров.[29]
Г. Норвуд подчеркивает в трагедии "Вакханки" наличие трех достоинств: простоты построения, обилия красивейших лирических номеров и глубокого отношения к вопросу о богах, резко противоположного "Хоэфорам"[30] Эсхила. Здесь бог показан пришлым колдуном (ст. 233- ξένος γόης).
"Вакханки" очень сильно отразились на рассказе о смерти Пенфея, в "Превращениях" Овидия (III, 511-733), куда вошло переложение отдельных стихов трагедии Эврипида.
Надо сказать несколько слов о трагедии "Рес", которая попала в собрание сочинений Эврипида по ошибке.
Трагедия изображает убийство пришедшего на помощь троянцам фракийского царя Реса Одиссеем и Диомедом, тайно проникшими для этого в стан троянцев. Подобное содержание мало поддается драматической обработке и не содержит ничего, что могло бы привлечь к себе внимание такого поэта, как Эврипид. Безыменное древнее предисловие к "Ресу" отмечает сомнения в принадлежности этой трагедии Эврипиду - она обнаруживает больше сходства с манерой Софокла. Но схолии (к ст. 528) показывают, что глава пергамской школы грамматиков Кратет все-таки считал ее принадлежащей Эврипиду, но написанной им в юности.
Из новых ученых некоторые приписывают ее одному из последователей Эсхила, усматривая в ней много общего с его трагедией "Персы", другие - Софоклу, третьи - Эврипиду младшему, племяннику прославленного трагика, а иные-даже какому-нибудь позднему александрийскому эклектику. Особенно сильно подчеркивал ее недостатки знаменитый филолог Г. Германн, видевший в ней руку совсем неопытного мастера. Содержание ее примыкает к песни X "Илиады".[31]
[1] Разумеется не „пять трагедий“, как говорится у Авла Геллия, а пять тетралогий.
[2] Авл Геллий, Аттические ночи XVII, 4. 3.
[3] SB d. Ak. d. Wiss. in Heidelb., 1910, № 15.
[4] Элиан, Пестр, ист. V, 21.
[5] Плиний, Ест. ист., XXXV, 145.
[6] Arch. Zeitung, 1876. См. тамже Galli, Medea corinzia nella tragedia classica e nei monumenti figurati. Флоренция, 1906.
[7] Аристотель, Риторика III, 15, р. 1416a; Цицерон, Об обязанностях III, 29, 108.
[8] „Лягушки“, ст. 1471; Ср. схол. к ст. 101.
[9] Нем. VII, 56; ср. Плутарх, Пирр 1.
[10] См. ст. 235. слл. а также фр. 626.
[11] G. Steiger. Philologus, 1908, стр. 202—237.
[12] И. Анненский. Художественная обработка мифа об Оресте, убийце матери, в трагедиях Эсхила, Софокла и Эврипида (Журн. Мин. нар. просв. 1900, №№7—8, стр. 1—67).
[13] См. Rh. Mus. 1902, стр. 279—284.
[14] Прибавка „Безумный“ дана была к заглавию трагедии значительно позже, и она не была еще известна Сенеке, сделавшему очень нескладную обработку этой трагедии.
[15] „Ион“, ст. 1757 слл.; Геродот V, 66
[16] Павсаний I, 31, 3.
[17] Павсаний VII, 1, 2.
[18] См. Цицерон, Об обязанностях III, 25, 95.
[19] Геродот IV, 103. Ср. „Ифигения в Тавриде“, ст. 38
[20] См. схолии к „Лягушкам“ Аристофана, ст. 53.
[21] См. фр. 45-47 К. 22—24 К.
[22] См. С. И. Радциг, Романтические мотивы в поэзии Эврипида (Ахилл и Ифигения). Сборник Ярославского гос. ун–та, 1920
[23] Схолии к „Лягушкам“ Аристофана, ст. 67.
[24] Элиан, Пестр, ист. II, 8.
[25] Тем не менее большинство ученых представляет Пенфея жестоким, самовластным правителем, вроде Креонта в „Антигоне“ Софокла, и несчастный конец его рассматривает как заслуженную кару за попрание естественных стремлений человека.
[26] Ср. Аристотель, Риторика I, 2, р. 1355b.
[27] Плутарх, Александр, гл, 53.
[28] S. Norwood, The riddle of the Bacchae. The last stage of Euripides religious view, Лондон, 1908; ср. Журн. Мин. народн. просв., 1910, № 3, стр. 155—176.
[29] Rev. des ét. gr., т. 17, 1904, стр. 190.
[30] См. книгу Г. Норвуда „Greek Tragedy“.
[31] См. И. Анненский — Журн. Мин. нар. просв.. 1896, № 9, стр. 100—127.
3. ДРАМЫ САТИРОВ
Эврипиду принадлежат следующие драмы сатиров: "Автолик", "Бусирид", "Эврисфей", "Сисиф", "Скирон", "Силей". Целиком дошел до нас его "Киклоп", время сочинения которого неизвестно. Здесь народная сказка об одноглазом Людоеде, получившая первичную художественную обработку в "Одиссее" (IX, 192-535), мастерски использована Эврипидом для цели, которой в драме сатиров не ставили еще его предшественники: для Эсхила и Софокла эта заключительная веселая часть тетралогии служила только безобидным средством облегчить тяжелое душевное состояние зрителей, вызванное переживаниями участников трагедии. Эсхил и Софокл давали в виде развязки изображение проказ богов.
Реалист Эврипид и здесь в образах героев мифологии показывает современного ему человека. Его Полифем знает лишь одного бога - богатство; все прочее - словесные прикрасы, шумиха (ст. 316-317), как он поучает попавшего к нему в лапы "человечишку" Одиссея, который тщетно пытался доводами из прошлого Эллады убедить его в гибельности гнусной корысти (ст. 306-312). Полифем презирает тех, кто выдумал законы (ст. 338). Его Зевс - еда и пьянство (ст. 336). Его спутники недалеко ушли от него в своих вкусах, как это видно из их песенки (ст. 495-503). Сделав, в отличие от Гомера, основным лицом драмы Полифема, Эврипид не нашел для его победителя Одиссея таких же свежих и ярких красок; поэтому· Одиссей вышел условным, мало реальным. Но и в нем нетрудно подметить черты современности; И. Ф. Анненский, метко назвавший эврипидовского Одиссея "оппортунистом религиозного чувства", правильно указывает, что в нем Эврипид отразил одно из характернейших явлений своего времени: "софистика и риторство безмерно обесценили в афинском обществе религию, запросы на нее понизились".[1] Так веселая, местами непристойная шутка стала для трагика-философа средством отклика на явления окружавшей его обыденщины в наиболее грубых ее сторонах.
"Киклоп" может служить лучшим опровержением мнения некоторых критиков, в частности Т. Бергка, будто серьезному Эврипиду не была доступна область шутливой драмы, - наоборот, в мировой литературе очень мало пьес, которые могли бы сравняться с "Киклопом" по блеску веселой обработки и яркой обрисовке смешных положений.
[1] Театр Еврипида, т. III, стр. 408. М. 1921.
4. ФРАГМЕНТЫ ТРАГЕДИЙ ЭВРИПИДА
Из множества трагедий Эврипида, дошедших лишь в отрывках, частью уже давно известных по выпискам позднейших писателей, а частью вновь найденных в папирусах, некоторые заслуживают особого внимания.
Из трагедии Эврипида "Ипсипила" долгое время были известны лишь незначительные отрывки, объясненные Велькером на основании свидетельств древних мифографов.[1] В начале XX века среди Оксиринхских папирусов нашлась еще значительная ее часть. Трагедия эта вместе с "Финикиянками" и " Антиопой" принадлежала к числу прекрасных, незадолго до смерти Эврипида поставленных его трагедий.[2] Ее содержание отразилось в целом ряде памятников искусства и поэзии, в частности в послании VI "Героид" Овидия и в песнях IV, V и VI "Фиваиды" Стация. Возможно ее влияние и на "Аргонавтику" Аполлония Родосского, где не раз идет речь об Ипсипиле (I, 637, 654, 675 и т. д.). Это объясняется отчасти тем, что сама Ипсипила входила в состав наиболее широко распространенных мифических циклов Греции. Так, в предании об избиении женщинами острова Лемноса своих мужей за то, что они три года воевали вдали от родины, Ипсипила, дочь Фоанта и внучка бога Диониса, являлась единственной женщиной, рискнувшей спасти своего отца. Затем на остров Лемнос заехали по пути, направляясь за золотым руном, Ясон и Аргонавты. Ясон женился на Ипсипиле, но после трех лет счастливого супружества покинул ее; она родила уже в его отсутствие близнецов. Ясон женился в Колхиде на волшебнице Медее. Таким образом, в предании о походе Аргонавтов и о Медее Ипсипила выступила жертвой измены своего мужа. Ее связь с Лемносом была так велика, что Овидий называет этот остров "землей Ипсипилы".[3] Но она должна была, покинув детей, бежать с Лемноса, спасаясь от мести женщин, когда открылось, что она, вопреки их решению, спасла своего отца. Убегая, она была похищена разбойниками и продана в рабство царю Немеи Ликургу, взявшему ее в няньки к своему сыну, но мальчик погиб от нападения дракона, убитого затем Адрастом, который в числе семи вождей шел походом на Фивы. Семеро вождей похоронили царевича, и это послужило началом знаменитых игр в Немейской долине, устраивавшихся через каждые два года летом. Таким образом, трагедия "Ипсипила" связывалась с преданиями и о знаменитом походе Семерых против Фив и об учреждении о иного из самых значительных праздников Греции, которому Пиндар посвятил целый отдел своих од.
Несмотря на очень пестрый и сложный состав преданий, в которых выступала Ипсипила, характер ее оставался строго выдержанным. Отличительной ее чертой была кротости, подчеркнутая Овидием.[4]
Действие трагедии Эврипида происходило в Немее, жительницы которой составляли хор. Сюда пришли два юных странника, которым Ипсипила рассказывала о местной царе Ликурге и его жене Эвридике. Это - сыновья Ипсипилы, ставшие взрослыми юношами и отправившиеся на поиски матери. Среди рассказа она забавляла порученного ей царского сына песнями и погремушкой, что высмеивал Аристофан устами Эсхила в "Лягушках" (ст. 1304): очевидно, Аристофан считал недопустимым внесение такой бытовой подробности в образ трагической героини.
Хор в своей первой песни выражал сочувствие судьбе рабыни, прошлое которой знали местные жительницы. Утешая ее, хор вспоминал беды, выпавшие на долю других женщин, и указывал на Адраста, идущего войной на Фивы. Среди участников похода был исконный друг Адраста, вещий Амфиарий. Он выступал после хора и рассказывал о цели похода.
Между тем царский сын стал жертвой змея. В ужасе рассказывает об этом Ипсипила. Она хочет бежать, царица-мать обрекает ее на смерть, но вновь явившийся Амфиарай доказывает невиновность Ипсипилы; та узнает затем своих сыновей, а ее божественный дед Дионис, появляясь в облаках, посылает одного из них, Эвнея, в Афины, где ему суждено было стать основателем поколения певцов и плясунов, носящих там его имя. В своем разговоре с матерью Эвней упоминает о сказочном певце Орфее.
Трагедия эта принадлежала к числу наиболее длинных пьес Эврипида. Достоинство ее, насколько можно судить по отрывкам, состояло в очень глубоких по содержанию песнях хора и блестяще построенных сценах спора (агона), например между царицей Эвридикой и ее рабыней. Участь Ипсипилы давала простор Эврипиду развить глубокие мысли о судьбе людей, которым суждено хоронить своих детей, быть самим обреченными на смерть, и о скорбной доле беглеца на чужбине. Глубокою грустью дышит рассказ Ипсипилы о том, что она пережила, когда разбойники продали ее в рабство.
Соединив в одной трагедии нити самых сложных преданий, Эврипид не смог дать каждому из них полное и законченное развитие; многое остается у него в виде мимоходом оброненных намеков на очень отдаленные от основного содержания пьесы события. Позднейшие греческие поэты Александрийской школы и их римские подражатели таким же образом стали перегружать свои произведения, к явному ущербу для ясности изложения.[5] От "Фаэтонта" Эврипида, помимо мелких отрывков, дошли еще два обширных куска, сохраненных в одной Парижской рукописи (фр. 773, 781). Ознакомившись с ними в 1821 г., Гёте, уже давно усердно изучавший Эврипида, попытался по ним восстановить эту трагедию; свою работу он напечатал в 1823 г., затем в 1827 г. дополнил ее заметкой, в которой, исходя из свидетельств древних о том, что Эврипид был учеником философа Анаксагора, особенно подробно остановился на описаниях явлений природы, сделанных Эврипидом; Гёте указал, что в этом Эврипид отличается от Овидия и Нонна, обработавших то же самое сказание.
Сохранилось несколько отрывков из трагедии "Антиопа". В ее основу Эврипид положил очень сложное содержание, совпадающее частично со многими другими его трагедиями. Антиопа, обольщенная Зевсом, спасается от гнева своего отца, бежит в Сикион и выходит замуж за Эпопея. По желанию ее отца Лик идет походом на Сикион и убивает Эпопея, а Антиопу обращает в рабство; над ней издеваются и он сам и его жена Дирка. У Антиопы было два сына: пастух Зет и кифаред Амфион, играющий на лире, подаренной ему Гермесом. Антиопа освобождается от оков, бежит к детям, признающим в ней свою мать и мстящим за ее унижение: Лика они убивают, а его злую жену привязывают живой к быку.
В одном из сохранившихся отрывков из трагедии говорится, что плох тот гражданин, который, наслаждаясь музыкой, ведет бездеятельную жизнь и не приносит пользы ни своему дому, ни городу. В другом речь идет о злой участи рабов. Видное место в трагедии занимал спор между братьями, из которых один защищал созерцательный образ жизни, другой - практический.
Дополнение к известным до сих пор отрывкам доставили папирусы.[6] Новые отрывки, в которых есть пропуск около 30 строк, относятся, по видимому, к самому концу трагедии,· после того как за сценой происходила казнь Дирки; эта казнь изображена на многих памятниках искусства, в том числе на известной группе "Фарнезского быка".
Вообще "Антиопа" дала почву для создания целого ряда памятников искусства,[7] благодаря тому что сам Эврипид поставил своих героев в блестящую декорационную рамку. Кроме знаменитой Фарнезской группы сюда относится ряд картин, в том числе картина в Кизикском храме.[8]
Много откликов этой трагедии находят у позднейших поэтов, например у Проперция (III, 15, 19), исходившего или от какой-нибудь картины, или от той латинской обработки трагедии, которую дал Пакувий и которую Цицерон (De finibus I, 2, 4), по видимому, считал наряду с "Медеей" Энния наиболее удачным приближением к греческому подлиннику.
Схолиаст к "Лягушкам" Аристофана (ст. 53) к числу прекрасных драм Эврипида отнес его "Андромеду". Этому легко поверить: в комедию "Женщины на празднике Фесмофорий" (ст. 1012-1135) введена большая сцена этой трагедии, и даже кривое зеркало злой пародии Аристофана не смогло скрыть всей прелести отдельных частей трагедии Эврипида.
В основу ее было положено распространенное в сказках многих народов предание о красавице, плененной чудовищем, и о ее спасении витязем, получающим в награду за это любовь и руку красавицы.
Наблюдается некоторое сходство между "Андромедой" и "Еленой": в обеих трагедиях действие происходят в отдаленных странах, носивших для зрителей полусказочный характер: действие "Андромеды" происходит на берегу Ливии, "Елены"-в Египте. Первая изображала спасение греческим героем ливийской царевны, вторая - возвращение на родину из Египта после долгого изгнания красивейшей из женщин - Елены и ее встречу с любимым мужем. В обеих пьесах древняя легенда подверглась очень смелой переработке и свободно окрашивалась настроениями и чувствами, которые доступны были лишь современникам Эврипида, если только они могли принять за правду чисто сказочный сюжет. Не случайно Аристофан в комедии "Женщины на празднике Фесмофорий", поставленной в следующем году после "Елены", берет больше всего материала для своих насмешек из "Андромеды" (ст. 850 сл., 1010 слл.).
Самые разнообразные памятники искусства: вазы, помпейские стенные росписи, этрусские урны -доказывают, какой пышной и сложной сценической обстановки требовала эта пьеса.
В трагедии "Беллерофонт" Эврипид обработал предание, сложившееся в глубочайшей древности в Малой Азии, причем в него вошли наряду с греческими сказаниями и чисто восточные образы, например вавилонские. В Греции мифу о Беллерофонте широкое распространение дал Пиндар (Олимп. XIII, Истм. VII), после которого к нему обратился Эврипид, придавший мифу завершающую обработку.[9] Постановку этой трагедии гадательно относят к промежутку между 431 и 432 гг.
В XX веке в одной рукописи нашли новые данные о трагедии Эврипида "Сфенебея", содержание которой было известно и раньше.[10] Так звали жену тиринфского царя, которая увлеклась гостем своего мужа, беглецом из Коринфа - Беллерофонтом. Сохранившаяся часть монолога Беллерофонта содержит длинное рассуждение о браке, с указанием на то, как плохо приходится незнатному человеку, если он женится на богатой, и с прославлением чистой любви. Трагедия эта представляла собою обработку того же мифа, какой положен в основу содержания трагедии "Беллерофонт". Обе трагедии должны были открывать простор для волшебного зрелища: полет на крылатом коне через море и т. п.
[1] TGF², NN 752—770; Велькер; D. gr. Trag.. т. II, стр. 554—560.
[2] Схолии к „Лягушкам“ Аристофана, ст. 53.
[3] Фасты III, 82.
[4] Героиды VI, 148 —mitis.
[5] Новонайденные отрывки из „Ипсипилы“ переведены Ф. Зелинским в его статье Царица–прислужница“ (Из жизни идей, т. 1. П, 1916 стр. 127 сл).
[6] Flinders Petri papyri, 1 Arnim, Sappl. Euripid., стр. 18 сл.
[7] Их исследовал К. Дильтей (Arch. Zeit., 1876, стр. 43—52).
[8] Она описана в эпиграмме „Палатинской антологии“ III, 7.
[9] L. Malten, Arch. Jahrb., т. 40, 1925, стр. 121—160.
[10] T. Pale, Rh. Mus. т. 63, стр. 143.
5. МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЭВРИПИДА И ОЦЕНКА ЭВРИПИДА В ДРЕВНОСТИ И В НОВОЕ ВРЕМЯ
Аристотель неоднократно восхищается отдельными подробностями у Эврипида, например, его "Кресфонтом" ("Поэтика", гл. 14), где изображалось, как царь Мессены Полифонт убил Кресфонта, захватил его власть, женился на Меропе и стал разыскивать ее сына, которого та успела скрыть. Выросши, юноша сам явился к нему, выдав себя за убийцу сына Кресфонта и потребовав за это награду. Не только Царь, но и Меропа поверила этой лжи и ночью хотела убить спящего юношу, но во-время узнала, что это ее сын. Это "узнание" особенно нравилось Аристотелю.
Дионисий Галикарнасский[1] указывает следы влияния на Эврипида Анаксагора, а затем Сократа особенно в его "Мудрой Меланиппе". В своих трагедиях Эврипид затрагивал основные вопросы внешней и внутренней политики, религии, семейной жизни. Его пьесы полны выражения горячей любви к родине и ненависти к ее врагам.
Эврдпид заставляет героев сказочной древности считать его родные Афины городом подлинной свободы и справедливости ("Гераклиды", 198-199; "Просительницы", 520). Лучше этого города нет, говорит царица Праксифея трагедии "Эрехтей", жалуясь на то, что не все так любят Афины, как она, и видя в этом причину бедствий родины; "дороже родной земли нет ничего", - говорят одни, как бы возражая тем, кто считает, что родина везде.
"Просительниц" Эврипида уже древнее предисловие называет "прославлением Афин". Тезей с гордостью говорит в этой трагедии фиванскому послу, что власть в Афинах принадлежит не одному человеку, а народу, что это город свободный и что здесь нет преимущества для богатых: бедные пользуются равными правами (ст. 403-408). Вся эта трагедия, по верному замечанию Д. Ф. Беляева, является более политической, чем поэтической. Если в конце ее Афина предсказывает (ст. 1191 слл.), что никогда аргосцы не смогут вторгнуться в их пределы, то зрители могли легко обобщить эти слова, перенося их и на другие города Греции; царь Тезей видит в благосклонности Афины залог безопасности города. Но фиванский посол выступает смело в защиту порядков своего родного города, "где не властвует толпа" с ее корыстными побуждениями, вызывающими противоречия среди граждан. Он не верит в способность народа к управлению и думает, что бедный земледелец, даже если он и получит образование, не может отвлекаться от своих занятий и заниматься общественными делами (ст. 409-424). Его опровергает Тезей, видя опору государства в законах (ст. 431), предоставляющих каждому возможность выступать с предложением полезных мер (ст. 439). Там, где правит тиранн, дети не защищены от насилий (ст. 455). Этот спор, не нужный по существу для хода действия трагедии, служил откликом тех споров, какие тогда велись в Афинах о разных способах государственного устройства. Очень удачно такое прославление афинской демократии Эврипид вложил в уста того самого Тезея, который, по свидетельству предания,[2] "собрал "граждан на равных условиях (общежития)".
Хор "Медеи" (ст. 824-841) тоже горячо прославляет Афлны, подчеркивая свойственный им нежный воздух, прелесть реки Кефиса и обилие цветов. Эта песнь отмечает неприступность города, где пищей для жителей служит их мудрость (ст. 829, 844) и где девять муз порождены златокудрой Гармонией (ст. 834).
В "Андромахе" Менелай (ст. 733) говорит о городе, когда-то ему любезном, а теперь ставшем ненавистным. Он хочет пойти на него походом. Надо разуметь в этом случае поход против Аргоса. Он сам вместе с Гермионой олицетворяет вероломство спартанцев, почему трагедию относят к началу Пелопоннесской войны и считают ее политической исповедью поэта перед народом, в которой он поведал о том, что пережил при начале войны.
Уже древний толкователь "Андромахи" (к ст. 150) указал, что в кичливых речах Менелая и Гермионы поэт высмеивал ненавистное ему поведение современных спартанцев (ср. схолии к ст. 445). Эта трагедия содержит не только осуждение воспитания спартанских девушек (ст. 596-600), но и самое резкое осуждение этого народа вообще ст. 445- 452); изображая, как выманили Андромаху из ее убежища, чтобы ее убить, Эврипид обставляет это коварство теми самыми приемами, какие Спарта применила для уничтожения илотов, совершив пресловутое "Тенарское нечестие" (Фукидид I, 128, ср. IV, 80). В "Гераклидах "Алкмена не понимает, почему нельзя убить взятого в плен Эврисфея (ст. 961 - 966); здесь мы видим намек на жестокое избиение пленных спартанцами, что отмечает Фукидид (II, 67).
В мифическую обстановку "Ореста" введена яркая картина современных поэту народных собраний с выступлениями представителей враждующих партий и решающим большинством (рассказ вестника, ст. 887-948), причем сюда введен прямой намек на демагога Клеофонта (к ст. 772).
В трагедии "Эол" кто-то говорил: "вы считаете возможным жить и управлять государством без богатых, при участии одних бедняков, но отделение одних от других невозможно; для успеха нужно смешение их вместе: чего нет у бедняка-дает ему богатый, а чего мы, богачи, не имеем, то получаем, пользуясь бедными". Это-отклик на те попытки общественного переустройства, которое впоследствии изобразил Аристофан.[3]
Эврипид ставит мир бесконечно выше войны: "Мир любит Муз, ненавидит мщения, радуется росту потомства и богатства, от чего отказываются только злые люди, под влиянием которых один человек порабощает другого, и города - целые города" ("Просительницы", ст. 488).
В уста хора в "Кресфонте" Эврипид вложил следующий гимн миру:
"О богатый и прекраснейший из богов мир! Я давно тоскую по тебе: так долго ты не появляешься к нам. Боюсь, что меня сломит страданиями старость, прежде нежели я увижу опять благодатное время твоего возвращения с чудными хоровыми песнями и веселыми пирушками. Приди же, приди, владыка мой, в мое отечество и прогони раздор и бешеную смуту, услаждающуюся острым убийственным оружием".
В. Нестле видит в речах Кадма и Тиоесия в "Вакханках" изложение взглядов самого Эврипида, который, ненавидя политику, выразил это в выступлении хора трагедии (ст. 385-399), где прославляется спокойная жизнь, сохраняющая семью. При краткости жизни мудрым будет тот, кто думает о делах людей, а не богов ("Антиопа").
Пользуясь образами древних преданий для отклика на вопросы современной политики, Эвэипид кое-где ради этого выходит из рамок драматического действия. Так, в "Просительницах" появление фиванского посла, презирающего народ, дает повод афинскому царю Тезею в длинном споре восхвалять достоинства демократии (ст. 399-597). Для развития действия этот спор вовсе не нужен. Тезей заявляет, что "из трех частей граждан богатые стремятся только к умножению своего богатства и потому бесполезны; бедные завидуют богатым и, обманутые речами своих злых руководителей, направляют свои жала против имущих; только средняя часть граждан спасает город и сохраняет порядок, установленный городом" (ст. 238-245). Эта точка зрения впоследствии была развита в трудах Аристотеля по политике.
Тираннию, желать которой может лишь безумец ("Гераклиды", ст. 423), Эврипид считает признаком варварского строя. Особенно красноречиво ополчается против тираннии Тезей в "Промительницах" (ст. 429 слл.). Юный Ион понимает уже, как тяжко быть тиранном, которому приятно иметь друзьями дурных людей и который ненавидит людей добродетельных, боясь быть убитым ("Ион", ст. 623-628).
В одном отрывке из трагедии "Плисфен" заключается совет - не давать всей власти народу, но в то же время не выгонять из города человека, преданного народу, однако не возвеличивать его слишком, потому что это небезопасно: как бы из гражданина не вышел жестокий тиранн; дурные люди, благоденствующие в городе, составляют его недуг. Эврипид осуждает и тот порядок, при котором краснобаи могут всем вертеть, обращая своими речами все в свою пользу (Просительницы, ст. 412 сл.). Образ вождя народа, так ярко воплощенный в лице Тезея в "Просительницах", во всем существенном, в частности в отношении к другим государствам, больше всего напоминает Перикла, задачей которого являлось сохранение и укрепление положения, занятого Афинами. Это, вместе с тем, не позволяет принять точку зрения тех толкователей, которые видели в Тезее Эврипида сходство с Алкивиадом. А. Бек, наоборот, считал, что введенное в эту трагедию порицание демагогов и болтунов (ст. 908) направлено как раз против Алкивиада. Речь Тезея к Адрасту несколько напоминает ту часть речи Никия (см. Фукидид VI, 12), где он порицает воинственное честолюбие Алкивиада, так что у Фукидида можно видеть как бы переложение в прозе стихов Эврипида. Не давая достаточных оснований для выводов о времени постановки "Просительниц", это сходство, однако, лишний раз подчеркивает связь творчества Эврипида с современной ему политикой.
Трагик Франц Грилльпарцер (1797-1872) основную черту творчества Эврипида видит в его откликах на современные ему политические события. Так указание на связь Афин с Фивами в "Безумном Геракле" (ст. 1921) должно было иметь особенное значение во время Пелопоннесской войны.
В "Оресте" называется безумием то, что творит разгневанный народ (ст. 695-703).
В драме сатиров "Автолик" кто-то говорит, что величайшее зло причинили Греции атлеты, и настаивает на том, чтобы победными венками награждали мудрых и добродетельных мужей, приносящих пользу государству.
Эврипид видит величайшее зло в рабстве. Рабы часто бывают лучше своих господ, и это имя не должно порочить хорошего раба; постыдно только их название, а душа у многих из них более свободна, чем у нерабов. Рабу приятно служить хороним господам, а господам - иметь благорасположенного раба.
Богатство творит много несправедливостей, потому что человек, часто самого низкого происхождения, благодаря богатству, попадает я число первых людей.
Постоянно касался Эврипид вопроса о положения жены в семье, о желательных ее свойствах. От трагедии "Критянки" дошло двустишие: "Женитесь, женитесь, а затем умирайте или от зелий жены, или от ее. коварства". Только дети - надежная опора.
Однако в трагедии "Эномай" кто-то высказывает сомнение: что лучше -иметь детей или жать бездетным? Есть несчастные и среди тех, у кого нет детей, но не счастливее их и те, у кого есть дети; дурные дети - злейший недуг; но если они родятся добронравными, то это великое несчастье: они доставляют родителю огорчение тем, что с ними может случиться [4] что-нибудь дурное. Но Андромаха говорит, что "дети - душа для каждого". [5] В "Алкестиде" ярко подчеркиваются заботы матери о детях.
Создав в Гермионе ("Андромаха", ст. 147 слл.) образ жены, гордящейся принесенным из дому богатством (прообраз жены с богатым приданым в комедии - dotata uxor), Эврипид и в других местах не раз отмечает вредные стороны такого неравного брака. Он хвалит брак между "средними людьми", основанный на взаимном сочувствии. Пелей в "Андромахе" подчеркивает преимущество хорошего, хотя и бедного, зятя перед богатым негодяем (ст. 639-640). В одном обширном отрывке из какой-то трагедии женщина упорно борется с отцом, заставляющим ее променять хорошего и любимого ею, но бедного мужа на богача. Образ действий Алкестиды, а в то же время и Медеи, отчасти объясняет слова Электры (Электра, ст. 265), что мужей женщины любят больше, чем детей.
Очень сильное новшество ввел Эврипид в трагедию "Электра": мужем дочери великого царя он сделал микенского крестьянина; вследствие нравственного благородства тот не позволяет себе воспользоваться супружескими правами (ст. 51, 255-259); это нужно было драматургу для того, чтобы Электра, под конец пьесы просватанная другу Ореста Пиладу, осталась до второго брака девой (ст. 1340, 1342); но бедность ее временного мужа дает повод ко многим замечаниям о бедности и богатстве (ср. слова Ореста, ст. 369-376, 394, и мужа Электры, ст. 43G-431). Эта тема часто затрагивалась политической литературой того времени.
Осуждалось в трагедиях Эврипида суровое отношение отцов к детям; отцы должны помнить, что и сами были молоды (мотив, часто встречающийся в "новой" комедии). Раздается у Эврипида голос и в защиту внебрачных детей; они только несправедливостью закона поставлены ниже "законных"; они терпят много зла от мачехи. Их горячо защищает в "Андромахе" старый Пелей (ст. 633-638), настаивая на том, что часто такие дети бывают лучше "законных". Осуждение этого вопроса в трагедии являлось, вероятно, отголоском того, что особенно занимало современников драматурга в пору, когда Перикл проводил свой закон о снятии ограничения с незаконных детей.[6] Эврипид подчеркивает, как много мучений доставляет людям любовь, являясь в то же время наставницей для поэта, даже если он раньше и был далек от Муз.
Заходила часто у Эврипида речь о богах. Несомненно, свои мысли вложил Эврипид в уста хора в "Геракле", где поется, что если бы у богов было понимание и мудрость, подобная человеческой, то добродетельным людям следовало бы жить два века, возвращаясь после смерти опять к жизни, а порочным жить один век. Это служило бы признаком для отличия хороших от дурных (ст. 655-672).
Резко выступал против богов кто-то в трагедии "Беллерофонт", отрицая самое их существование и указывая, что малые города, отличающиеся благочестием, попадают под власть нечестивых больших городов. Вероятно, сама Меланиппа в посвященной ей трагедии говорила, что только из слов других знает о Зевсе. В другой трагедии Зевс являлся лишь названием эфира. Богом является присущий каждому разум. Есть стихи, где указывалось на необходимость чтить богов и на спасительность даже малой жертвы (ср. Гораций, Оды, III, 23).
Таким образом, и по этому вопросу, наряду с исконными взглядами, участники трагедий Эврипида высказывали воззрения передовой философии. На чьей стороне стоял сам поэт - решить можно не всегда.
Ифигения идет на смерть, гордясь своей принадлежностью к свободному народу, призванному властвовать над пресмыкающимися в рабстве троянцами (Ифигения в Авлиде, ст. 1400-1401), и в трагедии "Телеф", кто-то возмущался тем, что эллины будут жить в рабстве у варваров. Глубоким разочарованием дышит речь престарелой Гекабы (Гекаба, ст. 864-868). Никто из смертных, говорит она, не свободен: одни - рабы денег, живут под игом нужды, другими властвует судьба, или они должны подчиняться воле большинства сограждан и предписаниям законов.
Трагедии Софокла отражают устойчивое миросозерцание людей, унаследовавших от предков взгляды на основы частной и общественной жизни. Наоборот, у Эврипида наблюдается в этом отношении резкое шатание, вызванное тем, что взгляды предков перестали удовлетворять их потомков, мучительно искавших новых ответов на вопросы, которые для их отцов казались решенными. Драматическая форма не позволяет точно установить в каждом отдельном случае, чему сочувствует сам поэт; уже древние были введены в заблуждение, ославив Эврипида женоненавистником, несмотря на то, что он вывел на сцену таких женщин, как Алкестида, Ифигения и Андромаха.
Мировоззрение Эврипида составило содержание очень обстоятельных исследований ряда ученых, В русской литературе его обзору посвящены работы Д. Ф. Беляева.[7] Они основаны на почти исчерпывающем подборе всех мест из сохранившихся целиком трагедий Эврипида и отдельных отрывков с очень удачными сопоставлениями из политической литературы того времени.
При всех трудностях выделить из драмы то, что составляет отражение мыслей самого писателя, а не вложено им в уста действующих лиц для характеристики их взглядов и настроений, основные воззрения Эврипида Д. Ф. Беляев сводит к следующему.
1. Самое лучшее и естественное государственное устройство есть такая демократия, которая, уравнивая всех граждан перед законом, предоставляет всем им право участия в государственных делах, причем ни богачи, ни бедняки, как представители двух крайностей, не должны иметь преобладающего влияния; перевес и преобладание с пользою для государства может иметь только средний класс, состоящий преимущественно из мелких землевладельцев.
2. Во вторую половину жизни поэта, когда в государственных и общественных делах первое место принадлежало демосу, была введена плата за исполнение общественных обязанностей; старая демократия, не привлекавшая искусственно бедняков, но в то же время и не лишавшая их участия в общественных делах, по видимому, казалась Эврипиду наиболее справедливою и наиболее гарантирующею интересы как всего государства, так и отдельных сословий и граждан.
3. Во главе государства должны стоять не красноречивые ораторы, а истинно государственные люди, которые после теоретической и практической подготовки доказали на деле свою честность, мудрость и способность руководить государством в войне и мире с пользою и славою для всего государства, подобно Солону, Аристиду, Периклу. Таким образом, Эврипид соединил свои демократические взгляды с требованиями Сократа проповедывавшего, что государством править должен истинно государственный человек, а не всякий встречный. Образец такого государственного человека и его внутренней и внешней политики поэт вывел в образе Тезея, который по своему политическому характеру напоминает Перикла.
Подкупающая стройность нарисованной Д. Ф. Беляевым картины, которая потребовала от него много усилий и остроумия, приведена только как одна из многочисленных попыток объединить самые противоречивые мнения и взгляды, разбросанные в трагедиях Эврипида и их отрывках. Другие исследователи совсем иначе определяют миросозерцание Эврипида. Среди противоречий этих суждений почти по всем вопросам государственной и личной жизни, какие мучили и волновали современников Эврипида, разделяя их на резко враждовавшие друг с другом лагери, - почти бесследно теряется личность самого поэта, которого слишком рискованно отождествлять с кем-нибудь из участников его трагедий.
[1] Ars rhetorica, Reiske, т. V, стр. 300, гл. 10; стр. 355, гл. 11.
[2] См. Плутарх, Тезей, гл. 25.
[3] „Женщины в народном собрании“, ст. 592 слл. См. также Исократ, Ареопагитик, § 31.
[4] Ср. „Медея“, ст. 1090 сл.; „Алкестида“, ст. 882—383.
[5] См. ст. 418; ср. „Просительницы“, ст. 1089 сл.
[6] Плутарх, Перикл, гл. 37.
[7] См. Д. Ф. Беляев, К вопросу о миросозерцании Эврипида, Казань. 1878 и Журн. Мин. нар. просв. 1877, № 4, а также „Воззрения Эврипида на сословия и состояния, внутреннюю и внгшнюю политику Афин“ (там же, 1882, № 9, 10; 1885, № 9, 10).
6. ДРАМАТУРГИЯ ЭВРИПИДА
Приемы драматургии Эврипида лучше всего определять путем сравнения с техникой Софокла. Так поступали уже древние толкователи.[1]
Кроме дошедшей до нас целиком "Электры" обоих трагиков, Эврипид не раз обрабатывал сюжеты, использованные и Софоклом, что дает почву для сравнения их творчества; среди отрывков его пьес есть остатки "Эдипа", "Антигоны" и "Филоктета", подобно тому как у Софокла были трагедии "Андромаха" и "Ион". Но и помимо тех случаев, когда оба поэта одинаково называли свои трагедии, творчество их соприкасалось не раз и там, где по-разному названные пьесы обрабатывали одно и то же содержание; так, "Федра" Софокла совпадала во многом с "Ипполитом" Эврипида; с "Медеей" Эврипида должно было во многом совпадать содержание "Зельекопов" и "Скифов" Софокла.[2] При недостаточной осведомленности, а зачастую и небрежности поздних грамматиков, делающих ссылки на эти пьесы, весьма воз ложны путаница и неточность их указаний и свидетельств. Поэтому очень трудно с несомненностью установить точно, что в каждом отдельном случае принадлежит Софоклу, что Эврипиду, Если у Эврипида очень много сюжетов совпадает с сюжетами Софокла, то это менее всего зависит от скудости его вымысла. Содержание картин средневековья и Возрождения, итальянских опер XVIII и XIX веков также неизменно вращается в одном и том же круге сказаний и образов, что свидетельствует лишь о любви к ним зрителей. Частое возвращение Эврипида в разных трагедиях, если не к одним и тем же, то во всяком случае почти к тождественным положениям и характерам показывает, что и его мастерство. шло по тем же путям, какие усвоило себе все греческое искусство, никогда и ни в чем не довольствовавшееся уже достигнутым, а неизменно стремившееся путем непрерывного углубления и путем охвата предмета все с новых и. новых сторон достигать предельного совершенства.
Построение трагедий Софокла и Эврипида по сравнению с трагедиями Эсхила обнаруживает ясное нарастание диалогических частей за счет все более уменьшавшихся лирических частей. Особенно ярко это видно на постепенном видоизменении характера эксода, т. е. "той части трагедии, за которой уже не бывает песен хора".[3] Уже у Софокла я значительном большинстве дошедших до нас пьес эксод носит по преимуществу диалогический характер. Его перевес над лирическими частями, написанными в анапестических системах, наблюдается в "Трахинянках". В "Антигоне" и в "Электре" лирической части в эксоде отводится сравнительно много места, зато в "Аяксе" и "Филоктете" весь эксод состоит сплошь из диалога. У Эврипида это идет еще дальше, и очень мало места в нем отведено лирической части. Таким образом, последовательно в отдельных составных частях греческой трагедии шел переход пения в разговорную речь.
Аристотель ("Поэтика", гл. 18) осуждает Эврипида за то, что он в отношении к хорам своих трагедий отступил от Софокла. Наиболее сильные и глубокие лирические излияния выражает он не в песнях хора, а в сильных номерах отдельных участников трагедии, как это видно, например, в "Елене", где многие песни Елены (ст. 164 сл., 191-239, 239-251, 330-385, 632-690) гораздо сильнее песен хора, перегруженных подробностями древних преданий (ст. 1103-1161, 1301-1368, 1491-1511), имеющих только косвенное отношение к самому действию трагедии. Он сделал в "Медее" хор выразителем тех чувств, которые в зрителе должно было вызывать последовательно развертывавшееся перед ним драматическое действие. Хор просит Медею пощадить ее малых детей (ст. 854-865, 1251-1270), скорбит об их гибели и жалеет ее соперницу (ст. 976-1001); но основное содержание его песен - это рассуждения о свирепости Эрота, о супружеских раздорах (ст. 627-662), о том, что не всем женщинам доступна мудрость, о том, как много забот связано с рождением детей (ст. 1080-1115), и о коварстве мужчин (ст. 410-445); как бы в оправдание и в защиту такого содержания песен введена оговорка, что если бы Музы были благосклонней к женщинам, то они могли бы и о мужчинах сказать больше правды (ст. 420-430). Такая чисто литературная полемика резко разрушает рамки обычного для трагедии содержания и снижает ее до чисто злободневной борьбы.
В "Ифигении в Авлиде" песни хора живо передают настроение женщин, которые видят, что в лагере идет снаряжение в поход (ст. 166-302); хор жалеет восточных женщин: те будут взяты в плен, а их мужья будут убиты; женщины не желают себе такой же участи. Хор рассуждает о счастье законной любви: Эрот пускает две стрелы: одну - для счастливой жизни (законная любовь), другую - "для приведения жизни в беспорядок". Хор (ст. 569 слл.) говорит: "Великое дело стремиться к добродетели - для женщин по отношению к тайной любви (т. е. избегать ее)", намекая этим на Елену. Мифические образы у Эврипида сплошь и рядом переплетаются с тем, над чем не раз думала любая из его зрительниц.
Очень тесно связан хор с остальными участниками трагедии в "Троянках": совместная песнь пленниц с их престарелой царицей связана единством настроения (ст. 153-234). Полна подлинной скорби песнь хора о гибели родного города (ст. 511-567); но там, где троянки мечтают, как о высшем счастье для себя, увидеть счастливый город Тезея (ст. 207--209), Эврипид заставил хор выразить чувства своих сограждан, а не троянок, для которых едва ли Афины были менее ненавистны, чем всякий другой город Греции.
Эврипид в состав хора часто вводит лиц, близких главному действующему лицу пьесы. Таковы подруги Федры в "Ипполите", хор охотников, товарищей Ипполита, в той же пьесе или местные женщины в "Андромахе", на превратностях ее судьбы чувствующие весь ужас женской доли. Так же поступал Софокл, составив из воинов хор "Аякса" и "Филоктета". В "Антигоне" хор состоит из старцев, быть может, для того, чтобы еще сильнее подчеркнуть одиночество героини.
Среди папирусов из Венского собрания эрцгерцога Райнера в конце XIX века нашелся текст, принадлежащий, судя по письму, к I веку н. э. и содержащий партитуру ст. 338-344 хора из "Ореста".[4] При крайней скудости сведений о греческой музыке очень рискованно на основании отрывка единичной находки делать какие-либо общие выводы о хоровой музыке вообще и о музыке Эврипида в частности, тем более, что эта запись представляет собою, по видимому, ноты не всего хора, а лишь одного его голоса, как это утверждал при толковании Этого текста П. В. Никитин. Но сильное увлечение Эврипида красотами звуков несомненно. Так, очень длинную арию (монодию), требовавшую, несомненно, большого напряжения голоса, исполняет Ион (ст. 82-183), и совсем как в позднейшей опере такую арию должен перед смертью исполнять разбитый конями Ипполит (ст. 1348-1388).
Эврипид особое внимание уделял выработке прочно установленных приемов построения своих пьес, стремясь, подобно большинству художников V века до н. э., подчинить свою технику определенным "законам". Он любит, например, влагать в уста каждого входящего на сцену рассказ о себе самом с пояснением причин своего появления. Так поступает Менелай в "Андромахе" (ст. 309 сл.), Ферет в "Алкестиде" (ст. 614 сл.), Ипполит (ст. 902 слл.), Ясон в "Медее" (ст. 867 слл.) и т. д. Особенно глубоко этот прием разработан в "Финикиянках", где Полиник проникает в родной город, как враг, с мечом в руках, один, опасаясь малейшего шороха (ст. 261-279), и все-таки подробно говорит о себе.
Ф. Лео,[5] подробно исследовавший эту сторону трагедий Эврипида, установил, что поэт, введя в драму свойственный героям Гомера обычай разговаривать с самим собой, очень широко развил эту форму выражения своих чувств и настроений, тогда как у Софокла известны только два монолога (Электры - ст. 86-120 и Аякса - ст. 815-865) в том значении этого слова, какое установилось в позднейшей драме.
По сравнению с Софоклом, Эврипид дает больше однообразия и закономерности в построении своих прологов: у Софокла они представляют собой то диалог ("Аякс", "Электра", "Эдип царь", "Эдип в Колоне", "Антигона") то монолог ("Филоктет", "Трахинянки"); Эврипид пользуется преимущественно монологом, причем, кроме "Вакханок" и "Просительниц", в следующем за ним диалоге он уже вполне развивает все, что предшествует началу действия самой драмы.
Прологи Эврипида по большей части вложены в уста лиц, зачастую богов, не принимающих затем участия в ходе пьесы. Благодаря этому самое содержание трагедии резко отделяется от вступительной части, в отличие от манеры Софокла, у которого пролог состоит из беседы одного из основных участников пьесы с каким-нибудь спутником, и их речи раскрывают зрителю все, что нужно для понимания действия. Прологи "Иона", "Ореста", "Андромахи" и "Ипполита" также обнаруживают обычную для Эврипида манеру уже во вступительных частях своих трагедий подчеркивать ту подробность, которая затем будет им положена в основу развязки. Таково упоминание Ипполита о конях (ст. 110; ср. 1173). Точно так же и птицы, которых в прологе видит Ион (ст. 154), приготовляют внимание зрителей к гибели птицы, выпившей отраву, предназначенную для Иона (ст. 1196 слл.).[6]
Аристофан и риторы упрекали Эврипида за то, что он в своих прологах иногда начинал рассказ слишком издалека.[7]
В "Вакханках" вступительная речь приходящего в Фивы Диониса (ст. 1-63) воспроизводит первичную форму обращения актера к хору, как это показывает "Тезей" Бакхилида; к ней близки вступительные речи Иолая в "Гераклидах" (ст. 1 -54) и Эфры в "Просительницах" (ст. 1-41). При позднейших постановках трагедий Эврипида такое начало могло подвергаться искажениям. Так, полагают (Ф. Лео), что "Ифигения в Авлиде" открывалась рассказом Агамемнона (ст. 49), к которому кто-то прибавил необычное для Эврипида вступление. Целый ряд его пьес, написанных в промежутке между 430 и 420 гг., начинается монологом "просящего о защите", сидящего одиноко ("Андромаха", "Елена"), или с товарищами ("Геракл", "Гераклиды"), или вместе с хором ("Просительницы"). Поставив себе за правило начинать пьесу монологом, Эврипид очень часто влагает в такие же монологи излияние жалоб на постигшее говорящего горе (Адмет в "Алкестиде", ст. 661; Гекаба и Полиместор в "Гекабе", ст. 681 и 1056; Эвадна в "Просительницах", ст. 990; Креуса в "Ионе", ст. 859; Ифигения в "Ифигении в Авлиде", ст. 1279; Антигона в "Финикиянках", ст. 1485; фригиец в "Оресте", ст. 1381, 1452 и т. д.).
Существенное различие между Софоклом и Эврипидом обнаруживается в развитии драматической интриги; Эврипид часто заставляет действующих лиц достигать своей цели не путем открытой борьбы, как поступает, например, Антигона Софокла, а обманом и хитростью. Так действуют его женщины в "Гекабе", "Ипполите", "Медее", причем в своих поступках они имеют в виду только личное благополучие, не обращая никакого внимания на требования нравственного долга и справедливости. Такое явное преобладание личного начала особенно резко чувствуется в трагедиях, написанных около 410 г. ("Электра", "Ифигения в Тавриде", "Елена", "Ион", "Орест"). Подобных уловок Софокл избегает. Единственное исключение представляет Неоптолем в "Филоктете", но и он обманывает беспомощного страдальца по наущению Одиссея не ради своей выгоды, а ради общего блага (ст. 93 слл., 925 слл). Таким образом, Софокл подчиняет поступки своих героев требованиям нравственности и, в отличие от Эврипида, заставляет их действовать не ради одного только собственного благополучия.
Квинтилиан в своем сочинении "Об образовании оратора" (X, 1, 67-69) оставляет нерешенным спор о том, кто выше - Софокл или Эврипид, но указывает, что оратору больше дает Эврипид, так как некоторые находят поэзию Софокла слишком возвышенной: у Эврипида изобилие сентенций, в· мыслях он не уступает философам, а в построении речей и диалогов может быть сравниваем с любым из мастеров красноречия. Заслуживает удивления его изображение чувств, особенно вызывающих сожаление. Приводит Квинтилиан и признание Менандра о преимущественном влиянии на него Эврипида.
В своей оценке Эврипида римский ритор, по видимому, придерживается "Поэтики" Аристотеля (ср., например, требование от трагедии,, чтобы она вызывала жалость; признание Эврипида самым трагическим из поэтов). Сатирик Ювенал (VI, 636) как будто тоже подчеркивает чрезмерную возвышенность Софокла: "Гласом Софокла поем вдохновенно высокую песню".
Греческая трагедия была в гораздо большей степени рассчитана на слух, чем на глаз зрителя, способного ценить и музыкальное мастерство исполнителей и блеск их речей, все богатство оттенков в произнесении которых достаточно могли знать посетители народного собрания или суда. В расчете на оценку таких знатоков строит Эврипид рассказ вестника в "Вакханках" (ст. 677 слл.) о поведении вакханок на Кифероне или второго вестника - о гибели Пенфея (ст. 1043 слл.).
В одной комедии Аристофана (фр. 581 К) указывалось, что уста Софокла намазаны медом. Почти то же говорили и про Эврипида.[8] Эти подробные рассуждения в длинных тирадах с нагромождением блестяще подобранных сентенций подчас совсем нарушают правдивость характера и ослабляют драматический подъем; как бы они ни были хороши сами по себе, у Эврипида они часто введены не ко времени. Гекаба ("Гекаба", ст. 814) жалуется на то, что люди мало заботятся о красноречии и его изучении. Очень характерны для Эврипида те словопрения, с какими выступают у него братья Полиник и Этеокл перед Иокастой, опровергающей их ("Финикиянки", ст. 469-585). Как велика была склонность Эврипида к общим рассуждениям, видно из того, что злодей Полиместор ("Гекаба", ст. 1178) после жуткого описания его ослепления и убийства его сыновей троянками не может отказать себе в удовольствии затем высказаться о женщинах вообще (Агамемнон потом вразумляет его). Но древние об этом судили иначе. Грамматик Аристофан Византийский в своем предисловии к "Финикиянкам" указывает на изобилие в этой трагедии прекрасных изречений.
Необычайно длинная стихоматия "Иона" (ст. 264-368) между Креусой и ее сыном охватывает собой всю экспозицию трагедии. В построении диалогов Эврипид не вводит в разговор одновременно больше двух участников, даже при наличии на сцене всех трех актеров. Так, в "Оресте", в сцене при участии Ореста, Пилада и Электры, сперва обмениваются речами лишь Орест и Электра (ст. 1018-1064), затем говорят Орест с Пиладом (ст. 1065-1152), а потом Орест с Электрой (ст. 1154- 1232), и лишь в самом конце сцены все три ее участника выступают с краткими замечаниями (ст. 1233-1245).
При построении своих трагедий Эврипид учитывал необходимость довольствоваться тремя актерами, как это заметили уже древние его толкователи. Схолиаст к ст. 93 "Финикиянок" объясняет позднее по-явление на сцене Антигоны желанием дать возможность выступить в этой роли первому актеру, который вначале исполнял длинный монолог Иокасты (ст. 1-87). Очевидно, только ему Эврипид доверял сложные арии Иокасты (ст. 302 слл.) и Антигоны (ст. 103-149, 1485-1538, 1710-1757).
Эврипид умело пользуется для обрисовки положения своих действующих лиц каждой мелочью. Так, униженное положение попавшей в рабство Андромахи подчеркивается хвастовством ее хозяйки Гермионы теми золотыми украшениями и пестрыми нарядами, какие ей дали родители ("Андромаха", ст. 147-153); скудно одетая Электра (ст. 304), жена бедняка, с горечью подчеркивает блеск, каким окружена ее нарядная мать (ст. 966), сопровождаемая толпой слуг (ст. 1135).
В "Ифигении в Авлиде" резкое столкновение Агамемнона с Менелаем (ст. 303-542) показывает последнего совсем не таким, каким он выведен в "Оресте". Эта способность находить для отчеканенных многовековым литературным наследством образов совершенно новые для каждой драмы краски характерна для Эврипида. Его жизнерадостный, веселый Геракл в "Алкестиде" очень далек от того, чья гибель изображена в "Безумном Геракле".
В 415 г. в "Троянках" Эврипид, следуя кикликам, заставляет Менелая приказать рабам тащить Елену за волосы из шатра Агамемнона, а через три года, в 412 г., он ставит "Елену", где, согласно Стесихору, она является уже образчиком добродетельной жены. И несмотря на эти колебания, образы, созданные Эврипидом, прочно входили в круг поэтических представлений его современников. Говоря о Меланиппе, Андромеде или Медее, современники Эврипида представляли их себе наделенными теми чертами, какие им придал поэт.
Нуждается в очень сильных ограничениях необоснованное утверждение Зелинского, будто "путь античной трагедии - путь религиозный".[9] Оно еще приложимо к Эсхилу, но уже у Софокла связь с религией значительно слабее и ее место начинают заступать положения философского и общественного характера, которыми почти сплошь проникнуто творчество Эврипида.
По замечанию Я. Буркхардта, миф становился для поэта только основой для того, чтобы дать возможность своим современникам высказаться. Его пьесы являются как бы школой, из которой мы слышим общие для афинян того времени рассуждения о богах и людях. Обсуждением политических, вопросов своего времени Эврипид вознаграждает себя за то, что отказался от обработки современных сюжетов. Особенно охотно рассуждает он в духе софистики, что не мешает ему, однако, делать выпады против софистов (ср. "Гекаба", ст. 1187 слл.). У "философа на сцене"[10] есть пьеса, названная по имени философствующей героини ("Мудрая Меланиппа"). Истинным образцом софистики является в "Троянках" речь Елены (ст. 914 слл.), оправдывающейся перед Менелаем. Иногда ради изложения современных ему взглядов и настроений Эврипид совсем разрывает связь с ходом пьесы, например, в "Геракле" (ст. 188 слл.), прославляя стрелка в укор гоплиту, которого до того (ст. 159 слл.) превозносил Лик.
Допуская наличие у Эврипида недостатков в распределении материала, Аристотель признает его, по умению строить трагическую развязку, "наиболее трагичным поэтом" и защищает его от упреков в том, что многие его трагедии оканчиваются несчастием ("Поэтика", гл. 13).
Эврипид умел захватывать зрителей судьбой своих героев, как это видно из рассказа Сенеки в одном из его писем о том, что зрители потребовали удаления со сцены актера, исполнявшего ненавистную личность хищника в трагедии "Даная" (фр. 324), и успокоились лишь после просьб Эврипида, чтобы они подождали до тех пор, пока не узнают, какова будет его конечная судьба ("Письма", 115, 14).[11]
Как свободно обращался Эврипид с течением действия пьесы, видно из "Алкестиды": ради непрерывности хода действия трагедии героиню хоронят в самый день ее смерти, чего никак не допускали обычаи того времени.
Сравнение Эврипида с Софоклом дает Дионисий Галикарнасский в трактате "О подражании":[12]
"Софокл при изображении страстей отличался соблюдением достоинства лиц. Эврипиду же доставляло удовольствие только правдивое и соответствующее современной жизни, почему он часто обходил пристойное и изящное и не исправлял, как то делал Софокл, характеры и чувства своих действующих лиц в сторону благородства и возвышенности. Находятся у него следы очень точного изображения непристойного, вялого, трусливого. У Софокла нет излишества в словах, он, наоборот, ограничивается необходимым, Эврипид же обнаруживает изобилие риторически вступлений. Один из них [Эврипид] любит образовывать [новые] слова и часто из большого величия впадает в пустую напыщенность, переходя в ничтожность, пристойную лишь для обыденного. Другой же [Софокл] не чересчур высок, но и не низок, а пользуется смешанной, средней речью".
Здесь достаточно подчеркнут переход трагедии к бытовому содержанию и новому способу изложения фабулы, Так, действующие лица Эврипида, несмотря на свои мифические имена, часто по своему образу мыслей и действий мало отличаются от заурядных его современников: в "Просительницах" Царь Тезей рассуждает не как царь, а как типичный представитель афинской демократии V века (ст. 195-249), а Федра запросто держит себя с своей кормилицей. Это указывает на то, что Эврипид в целом ряде подробностей обрисовки характеров своих действующих лиц черпал свои краски из непосредственного наблюдения над окружавшей его жизнью. Но он обобщал своя наблюдения тем, что давала передовая философия его времени, а этот прием и лежит в основе реализма· "От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике. - таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности".[13]
Сближая везде, где только представлялась возможность, трагедию с современной ему жизнью, Эврипид дал такое широкое применение в драме приемов художественного реализма, какое после него проявил в ней лишь Шекспир, давший этому стилю еще больше простора в своем творчестве.
Реализм Эврипида сближал его трагедии с комедией, в особенности с "новой", как это отмечали уже древние. Сатир в своей биографии Эврипида (39,7) устанавливает его влияние на так называемую новую комедию: "В комедиях мы видим борьбу мужа с женой, отца с сыном, раба с хозяином, насилия девушек, связанные с ходом пьесы, подбрасывания детей, узнания через кольца и ожерелья". Начало этому положил Гомер,[14] но до совершенства довел Эврипид. И Квинтилиан (De inst, or., XI, 69) указывает, что "Эврипидом особенно восхищался и, по собственному многократному признанию, неоднократно ему следовал, хотя и в йругой области творчества, Менандр". Это подтвердилось находками отрывков его произведений на папирусах, в частности "Третейского суда" (см. т. II, разд. VII). Содержание этой комедии близко к сюжету трагедии Эврипида "Авга", известному по пересказу Моисея Хоренского (TGF, р. 436): на празднике в честь Паллады в одном из городов Аркадии Геракл вступил в связь с плясавшей на празднестве жрицей Авгой и оставил ей на память перстень. Вернувшись позже в Аркадию, он по перстню признал ребенка, родившегося от этой связи, и спас его мать Авгу от грозившей ей смерти.[15]
Менандр для своей комедия взял еще подробности аз трагедии "Алопа": красавица царевна Алопа родила ребенка от Посейдона и поручила своей кормилице выбросать его тайком от ее отца. Ребенка нашла и стала кормить кобылица, но его заметил пастух и принес к себе в хижину: он был одет в царскую одежду. Товарищ пастуха попросил уступить ему ребенка; тот отдал ему, но без одежды. Из-за этого началась между ним а ссора. Для разбора они пошли к царю, отцу Алопы; царь узнал по лоскуту, что спор идет об одежде его дочери. Кормилица призналась и раскрыла царю всю правду.[16] Связь этих пьес с комедией Менандра независимо друг от друга установили Л. Бодэн и Г. Фашль.[17]
В папирусах нашлись новые отрывки из "Мудрой Меланиппы". Благодаря им содержание трагедии восстанавливается так. Меланиппа родила от Посейдона близнецов. В наказание за это отец велел ослепить ее; брошенных детей принимают пастухи и передают их жене царя Икарии Теано, которая выдает их за своих. Родив сама детей, Теано гонит детей Меланиппы. Те освобождают мать, томящуюся в темнице. Посейдон объявляет себя их отцом, возвращает Меланиппе зрение, и она выходит замуж за мужа Теано, наложившей на себя руки. Такое содержание обнаруживает значительную близость "Меланилпы" с "Антиопой" и другими трагедиями, что позволило Виламовацу-Меллендорфу[18] развить свои давние наблюдения над творческой манерой Эврипида; в "Гераклидах", при разработке образа дочери Геракла, Эврипид как бы дал дальнейшую углубленную характеристику Поликсены Софокла, характер же Алкмены содержит черты, из которых впоследствии сам Эврипид развил образ своей Гекабы. Из "Меланиппы" путем вплетения подробностей из сказаний фиванцев о походе Семерых вырастает у него "Ипсипила", а затем высшую обработку тех же положений дает Эврипид в "Антиопе". Тот же исследователь полагает, что отправной точкой для всех этих трех пьес Эврипида послужила "Тиро" Софокла, где судьба дочери Салмонея походит на судьбу матери основателей Рима - Ромула и Рема. Но для принятия этой догадки нужно точнее знать отношение по времени этих драм Эврипида к пьесе Софокла. Во всяком случае целый ряд подробностей этих драм: внебрачная связь девушки с богом, рождение близнецов, нахождение пастухами брошенных детей, встреча детей с матерью, ее спасение детьми, "узнание" по вещам, счастье в браке обольщенной раньше девушки, - Эврипид целиком переносит из одной трагедии в другою, у него же их перенимают Менандр, Дифил и другие мастера "новой" комедии.[19]
Безыменный автор трактата "О возвышенном" (гл. 15,3) отмечает,, что Эврипид с особенной силой выводил в трагедиях любовь и припадки безумия, причем в таких сценах он имел успех, может быть, больший, чем в каких-либо других. Но ведь и у Софокла припадки безумия представлены в "Аяксе", а любовь изображена в самых скромных проявлениях не только в "Антигоне", но и в том же "Аяксе", где все поведение Текмессы объяснимо лишь тем, что эта пленница сумела по-любить, и притом глубоко, своего повелителя. Стало быть, приведенное замечание трактата "О возвышенном" основано на том, что Эврипид охотнее пользовался такими сценами, чем Софокл, и лучше с ними справлялся. Обработка любовных приключений также прокладывала путь к сближению поздней трагедии с "новой" комедией, которая в свою очередь, соприкасаясь с любовной элегией, развилась в совершенно своеобразный жанр в эпоху эллинизма.
Черты обыденной жизни, проникшие в трагедии Эврипида, отразились и на его речи. В трактате "О возвышенном" (гл. 40,2) отмечено, что Эврипид любит производить впечатление возвышенности посредством искусного сочетания слов общеупотребительных и народных.
Новшества Эврипида, разрыв его с приемами предшественников, вызвали острую вражду любителей старины.
Аристофан задевает Эврипида за его пристрастие к "словечкам" ("Ахарняне", ст. 398; "Мир", ст. 532), за выбор хромых и нищих в герои пьесы ("Ахарняне", ст. 411 ; "Лягушки", ст. 846), подхватывает толки насчет торговли зеленью его матери ("Ахарняне", ст. 478; "Женщины на празднике Фесмофорий", ст. 387, 456). В "Лягушках" Аристофан высмеивает склонность Эврипида усложнять речи своих персонажей вычурными оборотами и словами (ст. 774, 814, 876, 901 слл.).
Видное место отвел Эврипиду Аристофан в 411 г. в комедии· "Женщины на празднике Фесмофорий".[20] Здесь задета и мать Эврипида (ст. 387), но наибольшее внимание уделено его пьесам, в которых он отзывался о женщинах дурно (ст. 85, 182), выводил на сцену порочных Федр и Меланипп (ст. 498, 547) и не изобразил добродетельной Пенелопы (ст. 597). Родственник Эврипида пытается защитить его, говоря, что он изображал женщин такими, каковы они в действительности (ст. 519). В указанную комедию Аристофана введены очень остроумные пародии отдельных сцен из трагедии "Елена" (ст. 865 слл.) и "Андромеда" (ст. 1057 слл.), где сам Эврипид выступает в ролях Менелая и Персея. Добившись перемирия с женщинами обещанием впредь ничего не говорить о них дурного (ст. 1161-1163), Эврипид в заключение появляется в образе старой сводни, соблазняющей стражника прелестями плясуньи (ст. 1172). В этом можно видеть новый выпад Аристофана против Эврипида, снизившего, на его взгляд, высокую трагедию до уровня бытовой комедии, выводившей женщин самого низкого нравственного уровня.
В "Лягушках", где состязание Эврипида с Эсхилом кончается признанием победы за последним (ст. 830-1473), Эврипиду предъявляется обвинение в том, что своими трагедиями он способствовал порче нравов граждан (ст. 1012), особенно тем, что показывал таких развратных жен, как Федра и Сфенебея (ст. 1043-1054). Кроме того, Эврипиду самому приходится признать в этой комедии близость его героев к таким сомнительным гражданам, как участник правления четырехсот Ферамен - "мастер на все руки", в чем сказывается неустойчивость его политических взглядов (ст. 967 слл.).
Наряду с таким вредным в общественном смысле направлением творчества Эврипида ему ставили в вину и формальные недостатки; например, что все участники его трагедии - женщины, рабы, хозяева, девы, старухи - говорят одинаково (ст. 949-950, ср. схолии). Сам Эврипид будто бы очень высоко ценил свои прологи (ст. 1198), но они вызывали сильные нарекания (ст. 946). Аристофан очень ловко обнаружил однообразие их построения, заставляя Эсхила подбирать одно и то же окончание к каждому куску пролога, который читает в доказательство своего мастерства Эврипид (ст. 1200-1249).
У Эврипида было, однако, так много поклонников, что появилась комедия Аксионика "Эврипидолюб" (Φιλευριπίδης), где выведены были люди, впавшие в болезнь от его песен и ничего не желавшие знать, кроме этих песен (ср. фр. 3К).
Очень высоко ценил мудрость Эврипида Платон (О государстве VIII, 18 р. 568a).
Какой успех имели трагедии Эврипида у греков и много лет спустя после его смерти, видно из рассказа Лукиана; он говорит, что в Абдерах при царе Лисимахе весь город распевал арии из "Андромеды", особенно речь Персея, которую прекрасно исполнял гастролировавший там трагик Архелай.[21] Плутарх ("Никяй") рассказывает, что после поражения афинян в Сицилии местные жители давали свободу пленным, певшим или декламировавшим стихи Эврипида.
Творчество Эврипида оказало громадное влияние и за пределами театра и драмы. Так, Э. Роде в своем исследовании о греческом романе усматривает в его трагедиях могучий толчок к развитию любовных мотивов в новелле и других видах повествований. Из эпиков особенно сильно зависят от Эврипида Нонн и Ликофрон. Сильное влияние Эврипида сказалось и на многих мастерах эпиграммы. Оно наблюдается и в Византии, где в XI-XII веках безыменный поэт составил целую трагедию "Страждущий Христос" из стихов древних трагиков, отведя первое место богородице; плач ее по сыне составлен из речей Гекабы и Агавы Эврипида.
Трагедии Эврипида исполнялись очень долго после его смерти даже в странах Востока, куда проникло греческое влияние. Так, у Плутарха (Красс, гл. 33) сохранилось известие, что когда армянскому царю Артавазду принесли голову Красса, были унесены столы (дело было во время обеда) и актер Ясон из Тралл продекламировал из Эврипидовых "Вакханок" место об Агаве. В это время Силлак бросил голову Красса. Ясон схватил ее и в вакхическом восторге пропел: "Мы несем с горы... счастливую добычу" (ст. 1170 сл.).
"Эврипид в значительной степени повлиял на то движение греческой мысли, которым наполнено было не одно последующее столетие. Это делало его наиболее жизнеспособным из всех аттических поэтов. В его трагедиях, сближавших мир мифических героев с людьми, в его презрении к установленным взглядам, свободном отношении к богам, государству и обществу грек эпохи эллинизма находил многое из того, что было близко к его взглядам и настроениям; поэтому Эврипид и после смерти еще около полутысячи лет оставался для греков вполне современным поэтом" (Ф. Лео). Подчеркивая в трагедиях по преимуществу чисто личные переживания своих героев, особенно любовные, Эврипид, по замечанию Лафая,[22] явился отцом всей александрийской поэзии. Это определение можно принять, однако, лишь с той оговоркой, что у Эврипида нет и намека на придворно-льстивый тон, так сильно звучащий у александрийцев. Глубина обрисовки характеров, уменье создавать яркие, выразительные художественные образы и ставить их в наиболее выигрышные положения -обеспечила Эврипиду виднейшее место среда тех писателей V века, которые оказывали влияние не только на последующую античную, но и на новейшую европейскую литературу. Он принадлежит безусловно к числу тех древних поэтов, которых не только изучали, но которыми восхищались и наслаждались представители самых разнообразных литературных направлений и вкусов. Это особенно сказалось на судьбе двух его трагедий: "Медея" и "Ипполит". Предание о Медее в обработке Эврипида отразилось на позднейшем эпосе Аполлония Родосского (см. ниже, том II, а затем перешло в Рим, где Энний (239-159 гг. до н. э.) нашел в нем наиболее близкий по содержанию и совершенный по форме образец для своих трагедяий: из 20 известных нам заглавий 12 безусловно восходят к Эврипиду.[23]
Трагедии Сенеки "Медея", являющаяся самостоятельной переработкой эврипидовского сюжета, послужила источником для обработки предания о Медее большому числу драматургов новой Европы. Ср. "Медею" Корнеля и др. Медею гонят Фурии выступавшие в одной из пантоним кровавой трагедии Нортона и Сэквиля "Горбодук", поставленной в Лондоне в 1560 г. написанной по образцу Сенеки.
Гораздо больший интерес представляет "Золотое руно" Ф. Грилльпарцера (1821), которого увлек и характер самой Мелен и сближения предания о роковом влиянии золотого руна с тем знчением, какое немецкая мифология уделяет кладу Нибелунгов. Отсюда трагедия Эврипида разрослась у Грилльпарцера в целую трилогию: 1419 стих в Эврипиде разбухли до 4675; притом только третья часть ее совпадает по содержанию с трагедией Эврипида, а действие двух первых происходит на родине Медеи и рисует противоположность нравов диких жителей Колхиды и грехов; отсюда выводится и причина рокового разрыва Медеи с Ясоном. Красками современной романтики обрисован чарующий образ невесты Ясона царевны Креусы, ласково и сердечно относящейся к Медее, которую она учит музыке надеясь этим перевоспитать ее дикую природу. Почувствовав себя среди греков совсем одинокой, Медея с ужасом видит, как и ее родные дети отдаляется от нее и начинают горячо любить ее соперницу. Тогда ненависть к Ясону она переносит и на детей и убивает их за сценой. Это отступление ее немецкого поэта удачно объясняет преступление Медеи, с которым в противном случае трудно было бы примириться нравственному чувству нового зрителя. Сделав из Ясона типичного носителя "мировой скорби", Грилльпарцер в конце трилогии оставляет его наедине с Медеей. Ясон жаждет смерти, но Медея напомниает ему, что есть бедствия тяжелее смерти, это - "жизнь среди страдания", и покидает его навсегда со словами "Перенося, терпи и искупай".
Выбросив из состава древнего предания все волшебные принадлежности вроде колесницы с драконами, Грилльпарцер приблизил эту драму к современным настроениям и вместо сказочных образов показал страждущих людей. Вся его переработка, полная блестящих поэтических красот предоставляет собой ценную попытку переложения Эврипида в стиле господствовавшей тогда романтики. В то время как две первые части трилогии живут лишь в виде книги для чтения, последняя - "Медея" заслуженно пользовалась прочным, успехом на сцене.
Из более поздних обработок этого предания можно указать на трагедию Катюлла Мендеса; у него взятые у Эврипида и Сенеки подробности окрашены насмешливой вольтеровской иронией к искажены эротическими настроениями писателей школы Бодлэра; укажем еще на попытку Станислава Выспянского в трагедии "Проклятие" (1901 г.) перенести содержание "Медеи" в среду карпатских крестьян, где гибнут на костре дети, прижитые ненавистным для крестьян ксендзом от гордой девушки.
Трагедия Сенеки "Федра", восходящая к "Ипполиту" Эврипида, переполненная всеми тонкостями риторики, оказалась более близкой ко вкусам новой Европы, отчасти потому, что в ней гораздо больше простора для игры актрисы. Через трагедию Сенеки нянька Федры проникла в литературу Возрождения, например в первый психологичеческий роман новой литературы, как назвал А. Веселовский "Фиаметту" Боккаччо, где и целые сцены и отдельные речи няньки, верной пособницы в любви Фиаметты, взяты из античной трагедии, только без ее смертельного конца.[24]
Особенная слава выпала на долю трагедии Жана Расина, написавшего в 1667 г. "Андромаху"; во втором предисловии к ней автор указывает на зависимость его трагедии от второй песни "Энеиды" Вергилия и оправдывает свою свободу в обработки предания ссылкой на те вольности, какие, на его взгляд, позволил себе сам Эврипид в трагедии "Елена". Расин выкинул из трагедии Эврипида Менелая, введя Пирра, царя Эпирского, и друга Ореста, Пилада, а также снбдив наперсницей не только Гермиону но и Андромаху, что уж совсем не подходит к ее положению.
Очень удачна поправка Расина, заставившего Андромаху скорбеть о гибели своего сына от Гектора. а не от Пирра. Расин хочет представить Андромаху только как жену Гектора, так трогательна обрисованную Гомером. "Я сомневаюсь, чтобы слезы Андромахи тронули так моих зрителей, если бы она проливала их за другого сына, а не за того, которого она имела от Гектора. Она не должна любить ни другого мужа, ни другого сына".
В 1671 г. Рясин пишет "Ифигению" (в Авлиде); в предисловии он снова оправдывает свои отступления от Эврипида, находя у нею много слишком нелепого и невероятного для своего времени.
В 1677 г. появилась "Федра" Расина. Признавая в предисловии, что он пошел по пути, нескольку отличному от Эврипида, он, однако, подчеркнул, что не преминул обогатить свою пьесу всем тем, что ему "показалось наиболее блестящим у Эврпида". Изменив характеры и Федры и Тезея, он, ссылаясь на "Энеиду" Вергилия (VII, 762), ввел Ариктию. Не осмеливаясь решить сам, насколько удалась ему эта пьеса, Рясин просит судить об этом читателей; откликась на его вызов, они признали "Федру" наиболее интересной из всех его обработок Эврипида. Ее критике и изучению посвящена обширная литература, наиболее существенные образцы которой привел А. И. Поливанов в обстоятельном предисловии к своему русскому переводу.
Гёте утверждал: "Если пьесы Эврипида, по сравнению с Софокловыми, и обладали большими недостатками, то это не может еще быть причиной того, чтобы последующие поэты подражали именно этим недостаткам и тем губили себя. Если же они обладали большими достоинствами, так что некоторые могли даже предпочитать их пьесая Софокла, то почему же последующие поэты не развивали этих достоинств или почему же они не стали не метшей мере тек же велики, как сам Эврипид?" [25] В другом месте Гёте указывает на крупное достоинство Эврипида: "Он настолько знал своих афинян, чтобы чувствовать, что взятый ими тон вполне подходит для их современников". Содержание "Ифигении в Тавриде" Эврипида послужило канвой для трагедии Гёте, но он внес существенное отличие в свою пьесу: у Эврипида Ифигения одерживает победу над простоватым царем Тавриды благодаря хитрости, а у Гёте она сама отдает себя в руки царя; добившись нравственней победы над ним, она свободно уходит от него, напутствуемая его благословением. У Эврипида в "Ифигении в Тавриде" местный царь Фоант обрисован чертами, резко подчеркивающими его варварский облик; Гёте первый захотел показать и в нем общечеловеческие настроения и побуждения.
Из множества ваз, изображающих сцены трагедии Эврипида, можно указав на кратер из Апулии, являющийся образцом работы южноиталийских фабрик и поступивший а кабинет древностей Московского университета. Лицевая его сторона изображает сцену вручения письма Пиладу из "Ифигении в Тавриде" (ст. 725 слл.), оборотная - паломничество Ореста в Дельфы.[26]
Трагедии Эврипида обильно доставляли содержание и для мастеров римских саркофагов. Как образец, можно указать на принадлежащий нашему Эрмитажу саркофаг работы начала II века н. э., найденный в Италии в 1856 г. На передней стороне изображена кормилица, вручающая Ипполиту письмо Федры; на правой узкой стороне - скорбящая Федра, окруженная эротами, беседующая с кормилицей; на левой - гибель Ипполита, а на задней - его охота с товарищами. В целом воспроизведены основные сцены "Ипполита".
Но этот археологический материал, если им пользуются для восстановления не дошедших до нас трагедий, скорее путает, чем помогает, как это видно хотя бы из разбора "Скиросцев" Р. Энгельмана.[27] Нельзя установить с несомненностью, что мастер клал в основу своей работы именно пьесу Эврипида, а не какой-нибудь другой источник; нельзя также ручаться, что мастер строго держался этого источника, который он мог и видоизменять.
Ион Хиосский, занимавшийся разносторонней литературной деятельностью (он написал, между прочим, трагедия "Агамемнон" и "Алкмена" и драму Сатиров "Омфала"), отмечал, что Софокл в общественных делах походил на любого из добрых афянян своего времени.[28] Эврипида, наоборот, так захватили софистика и философия, что во взглядах его современников не было ничего, чего бы он не считал нужным пересмотреть; но при страстном желании подвергнуть все критическому пересмотру он не мог остановиться на каком-нибудь определенном решения, а ставил только вопросы, давая на них лишь предварительные попытки ответа.[29]
Гуго Штейгер подчеркивает, что Эврипид всю свою долгую жизнь учился, изменяя под влиянием расширенного знания свой взгляд на все, что его занимало.[30] Встречая в мифах непонятное и неприемлемое в поведении бога, он смело подвергал его критике, становясь против судьбы и бога всегда на сторону человека. Не находя опоры для положительного учения, он, подводя итог размышлениям и исканиям всей своей жизни в "Вакханках", говорит: бог, если он плох, не бог. Но свое начало эти воззрения ведут уже от песни хора в "Алкестиде" (ст. 438- 475), неспособного ни понять смерть "лучшей из жен", ни примириться с допустившими такую несправедливость богами.
[1] Например, схолиаст „Эдипа в Колоне“ в примечании к ст, 220 сличает отношение героев к своим предкам у обоих трагиков.
[2] См. M. Waitz. Wien. St., т. 5, 1904.
[3] Аристотель, Поэтика, гл. 12, p. 1452b.
[4] Издан В. И. Петром (Журн. Мин. нар. просв., 1893, № 10, стр. 24 слл.), с переложением на современные ноты. Ср. заметку С. К. Булича, там же, 1894, № 5, стр. 73—80.
[5] F. Leo, Der Monolog in Drama, 1906. Ср. Журн. Мин. нар. просв., 1909, 6, стр. 433—440.
[6] См. И. И. Толстой, Rev. des ét. gr., 1930. № 2C0— 202, стр. 137—146; Mélanges offerts à Octave Navarre, Тулон, 1935, стр. 405—411.
[7] Rh. Gr. Spengel Hammer I, p. 365.
[8] См. у Авла Геллия XV, 20,8.
[9] Софокл I, стр. 326.
[10] Так зовет его Афиней (XIII, 11, р. 561a).
[11] Сенека ошибочно отнес этот случай к исполнению трагедии „Беллерофонт“
[12] См. гл. VI, р. 423 Reiske.
[13] В. И. Ленин, Философские тетради, стр. 166.
[14] Ср. Аристотель, Поэтика, гл. 16.
[15] Ср. Фр. Маркс — Athen Mitt., т. Χ, 1885, стр. 21—25.
[16] Там же, стр. 389.
[17] Л. Бодэн — Rev. de philolog., 1908, 73—76; Г. Фишль — Hermes, 1908, стр. 311-318.
[18] „Kleine Schriften“, т. I, стр. 445—460 (SB d. Preust. Ak. d. Wits., 1921, стр. 63—80).
[19] Ф. Лео находил особенную близость к новой комедии в „Елене“, сравнивая ее (ст. 1390—1450) с „Хвастливым воином“ Плавта (IV, 8) и усматривая сходство даже в отдельных частностях („Елена“, ст. 1420 — „Хвастливый вони“, ст. 1365; „Елена“, ст. 1512 — „Хвастливый воин“, ст. 1428 слл.); в „Ифигении в Тавриде“ мотив обычно сближает эту трагедию с комедией, от которой она, однако, далеко отходят по обрисовке действующих лиц.
[20] Посмертный ее перевод и толкование, П. В. Никитина напечатаны в Журн Мин. нар. просв. 1917, № 1.
[21] „Как надо писать историю“, гл. I.
[22] G. Lafaye, Les métamorphoses d’Ovide et leurs modelés grecs. Парик, 1904, стр. 143.
[23] Подробнее о влиянии Эврипида на Энния и других римских поэтов, главным образом на Овидия и Сенеку, будет указано в „Истории латинской литературы“.
[24] А. Веселовский, Боккаччо, т. I, стр. 402.
[25] Гёте, Разговоры с Эккерманом, т. I, стр. 203.
[26] Ныне в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве. Эта ваза издана и обьявлена А. А. Шварцем (Древности Моск. археол. общ., т. XIV, 1890, стр. 29 слл.); ср. В. К. Мальмберг, Памятники Музея изящных искусств, вып. IV, стр. 131—148, 1913. Изучению связи греческой трагедии с вазовой живописью посвящена очень обстоятельная работа H. Huddilston, Greek tragedy in the light of vase painting, Лондон, 1898, где указана и вся предыдущая литература по этому вопросу.
[27] Archäol. Studien, Берлин, 1900, стр. 29 —40.
[28] Подтверждение этого Э. Роде видит и в его пьесах.
[29] Большие выдержки из этих высказываний Иона Киосского сохранились у Афинея (ХШ, 81—82, р. 603-504 a f).
[30] Η. Steiger, Euripides, seine Dichting und seine Persöalichket, Лпд., 1912.
7. ДРУГИЕ ТРАГИЧЕСКИЕ ПОЭТЫ
По пути, пролженному Эврипидом, шло все дальнейшее развитие трагедии, явно обреченной, однако, на переход в другой вид литературы: по мере того как Эврипид все больше ослаблял связь своих драм с мифом, последний начинал все сильнее стеснять драматургов, и это толкало поэзию на поиски новых, более гибких форм. От преемников Эврипида не дошло ни одной драмы целиком кроме "Реса".
В "Лягушках" Аристофана Геракл спрашивает: жив ли Иофонт? (ст. 73-78). Так звали одного из сыновей Софокла, который еще при жизни отца одерживал победы на состязаниях,[1] причем он пользовался помощью своего отца. Из его пьес древние называют: "Ахиллеса", "Взятие Илиона", ,,Телефа", "Вакханок" и "Пенфея". В 428 г. он выступал в состязании с Эврипидом и Ионом, получив вторую награду; первую получил Эврипид за своего "Ипполита" (древнее предисловие к этой трагедии). Приписывали ему древние и "Антигону", оспаривая ее принадлежность его великому отцу.
Афиней (XI, р. 496b) указывает, что относительно трагедии "Пирифой" были сомнения, принадлежит она Эврипиду или Критию, главарю правления тридцати тираннов в Афинах. Этот ярый сторонник Спарты, о государственном строе которой он написал особое сочинение, среди бурной политической деятельности писал и трагедии; наиболее обширный отрывок сохранился из его трагедии "Сисиф".
Есть свидетельство,[2] будто сын Эврипида, носивший то же имя, после смерти отца поставил в Афинах "Ифигению в Авлиде", "Алкмеона" и "Вакханок". Племянник Эврипида, которому древние приписывали сочинение "Ореста", "Медеи" и "Поликсены", также носил имя своего дяди. Все это показывает, что в семьях и Эврипида и Софокла наблюдалась та же самая преемственность занятий, какая была вообще широко распространена у греков.
Ряд ценных свидетельств древних сохранился о трагическом поэте Агафоне. В "Лягушках" Аристофана на вопрос Геракла, где Агафон, Дионис отвечает, что этот хороший и желанный для друзей поэт, покинув его, удалился на "пир счастливых" (ст. 83-85). Схолии к этому месту указывают имя его отца Тисамена и объясняют ответ Диониса двояко: или Агафон к этому времени умер, или вместе с другими поэтами удалился в Македонию к Царю Архелаю. Дом Агафона избрал Платон местом действия своего диалога "Пир", куда по случаю одержанной Агафоном на состязании победы собрались его друзья с Аристофаном и Сократом во главе. Хотя Платон дал здесь полный простор своему художественному творчеству, все же несомненно, что обрисовке Агафона и его круга приданы исторические черты.
По свидетельству Аристотеля (Поэтика, гл. 18), Агафон первый стал отрывать содержание песен хора от связи с общим ходом пьесы и вводить "вставочные песни" в те места трагедии, где этого требовало ее исконное построение. У позднейших трагиков это чисто внешнее применение хора стало обычным и в итоге привело к полному его исчезновению из драмы, как это наблюдается в "новой" комедии.
Аристофан в комедии "Женщины на празднике Фесмофорий" (ст. 29-65) развертывает действие перед домом Агафона, откуда выходит сперва его слуга а затем и он сам. Отмечается здесь его стремление к красивым, утонченным словам и напевам (ст. 49, 60, 67); затем сам Агафон в сопровождении хора исполняет песенку, в которой Аристофан блестяще показывает свое мастерство литературной пародии (ст. 101 слл.). Ήο помимо этих художественных вкусов и приемов Агафона, Аристофан высмеивает его изнеженность, которая делает его как раз подходящим участником собрания женщин (ст. 90); при этом Аристофан откровенно подчеркивает противоестественность его привычек (ст. 35, 142, 205), чему соответствует и его женский убор (ст. 258). Подобные же сведения сохранил и Элиан (Пестр, ист. II, 21; XIII, 4). Задевал его Аристофан и в комедии "Геритад" (фр. 169 К), причем намеки его одинаково могут касаться как изнеженности его наружности, так и утонченности его стиля (фр. 326), отмечаемой и другими свидетелями.[3] Аристотель, отмечающий в своей "Поэтике" неудачу Агафона на состязании вследствие технической неловкости (гл. 18), в общем отзывается о нем вполне благожелательно (гл.9). Очень хвалит он (гл. 15) и изображение Агафоном жестокосердого Ахиллеса. Из пьес Агафона особенно известна была "Цветок", где и имена и события целиком принадлежали к области вымысла.[4]
Аристотель в "Поэтике" (гл. 16,17) дважды упоминает трагика Каркина, в частности его трагедию "Фиест". Одна надпись (IG, II, 971) отмечает победу Каркина под 447/446 г. От него надо отличать младшего носителя того же имени, победы которого указаны в надписи IG II 977, но кроме Заглавий его трагедий "Аякс", "Алопа", "Эдип", "Медея", "Семела", "Тиро" от них почти ничего не сохранилось. Время его жизни относится к 100-й олимпиаде, и он не раз бывал в Сиракузах (Диодор V, 5).
В трагедии Каркина "Медея" ее дети сами не выступали: в оправдательной речи Медея говорила, что хотела убить не детей, а Ясона.[5]
Древнее предисловие к "Медее" Эврипида приводит свидетельство Дикеарха о переработке для этой трагедии Эврипидом трагедии Неофрона, с которой сравнивает отдельные места трагедии и ее схолиаст (к ст. 666, 1387). Свида приписывает сикионцу Неофрону сочинение 120 трагедий, но, кроме все той же "Медеи", ни одна его пьеса точно не указана, а сохранившиеся от нее отрывки обнаруживают технику более позднюю, чем подлинные пьесы Эврипида, близкую к приемам трагиков IV века. Очень знаменательно, что Аристотель, в своей "Поэтике" не раз ссылающийся на "Медею" Эврипида, не только не отмечает ее зависимости от Неофрона, но и вообще не упоминает об этом трагике, что заставляет признать в свидетельствах о нем других древних наличие ошибки либо путаницы.
Среди папирусов Британского музея один, относящийся к II-III веку н. э., содержит отрывок пролога трагедии "Медея", сильно отступающий от Эврипида, но видеть в нем непременно остаток трагедии Неофрона нет оснований: может быть этот отрывок принадлежит трагедии Каркина или Дикеогена.[6]
[1] Схолии к ст. 73 „Лягушек“.
[2] Anecdote Oxoniensia IV, p. 315.
[3] Платон, Пир 198c; Афиней V, 187c.
[4] Аристотель, Поэтика, гл. 9.
[5] Аристотель, Риторика II, 23,1400b
[6] См. К. Фрис — Ilbergs Jahrb., № 2, 1904, стр. 171—172.
Глава XXV НАЧАЛО КОМЕДИИ И ДРЕВНЯЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
1. ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА О КОМЕДИИ
Литературное явление, обозначаемое словом "комедия", характеризуется в Греции большим разнообразием жанров, каждый из которых имеет свою особую, в древнейших своих истоках скрытую от нас, долитературную историю. Частично они один на другой влияют, взаимно скрещиваются, причем иные из них входят в большею художественную литературу, а иные так навсегда и остаются жанрами лишь фольклорными.
К началу V века в Афинах один из таких деревенских народных жанров дает рождение древнеаттической литературной комедии, блестящий, но кратковременный период художественного развития которой занимает промежуток времени менее чем в сто лет для нас эта комедия более или менее полно представлена только политической комедией Аристофана, несомненно, величайшего ее творца, жившего в последней трети V и в начале IV века. От комедий современников и предшественников Аристофана сохранились только фрагменты.
О долитературном периоде древней аттической комедии судить приходится лишь предположительно, исходя из особенностей самого жанра и из скудных показаний нашего исторического предания, кое в чем дополняемого памятниками изобразительного искусства.
В античное время по вопросу о древней комедии существовала обширная научная литература, начало которой положено было, по видимому, Аристотелем, а именно его двумя утраченными для нас работами по истории античной драмы - "Дидаскалии" и "Городские и ленейские дионисийские победы", - и не полностью до нас дошедшим философским трактатом "Поэтика", в котором утеряна именно та часть, где Аристотель специально говорил о комедии. И все-таки даже и то немногое, что Аристотель сообщает в сохранившейся части "Поэтики" о комедии, и посейчас остается самым ценным для нас историческим источником. Все написанное о комедии античными учеными после Аристотеля целиком погибло. Но нам известно, что комедией вслед за Аристотелем занимались преимущественно перипатетики и что писал о ней сам Фефраст.
С конца IV века, вместе с усилением интереса к вопросам истории литературы, активизированного созданием Александрийской библиотеки, комедия Аристофана и ее прошлое становятся предметом новых научных исследований: Ликофрон, Аристофан Византийский, Аристарх и множество других, менее знаменитых александрийцев, изучают историю комедии и занимаются научным комментированием текста комедий Аристофана. Все эти многочисленные труды по история древней комедии были использованы (примерно, к концу I века до н. э.), а в отдельных пунктах до некоторой степени и уточнены прославленным своей громадной начитанностью грамматиком Дидимом. Ни одна из этих античных работ до нас не дошла, но гигантский труд александрийских филологов лег в основу византийских схолиев к Аристофану, которыми мы располагаем и сейчас. К античной же научной литературе восходят и византийские историко-литературного содержания статьи или, как их принято называть, "трактаты" о комедии, предпосылаемые тексту комедий Аристофана в наших средневековых рукописях. В большинстве случаев они анонимны. Некоторые из них, впрочем, принадлежат известным византийским грамматикам VII века - братьям Цецам, а один "трактат" является извлечением из сочинения ранневизантийского грамматика Платония.
И в новое время древняя комедия составляет предмет живого научного интереса. Из старых работ по ее история заслуживает внимания отчасти не утративший значения я сейчас капитальный, двухтомный труд французского ученого Деня, вышедший в Париже в 1836 г. Очень полную и притом весьма живо и на редкость талантливо сделанную характеристику специально древнеаттической комедия дает небольшая, но чрезвычайно богатая содержанием книга другого француза - Куа. А из новейших историко-литературных обзоров древнегреческой комедия в целом безусловно лучшим является тот, который представлен книгой знатока комедия Альфреда Кёрте, использовавшего и важнейшее папирусные находки последнего времени. Ясное и исчерпывающее сопоставление разноречивых свидетельств о началах трагедия, драмы сатиров, дифирамба и комедия, сохраненных нам античными источниками, дает Пиккард-Кембридж.[1]
В 80-х годах XIX века впервые были вскрыты основные принципы аттической литературной комедии. До этого структуру комедия пытались объяснить исходя из трагедия, а не как не зависимый от нее жанр. В конце XIX века в научном обиходе прочно утвердился в филологической литературе термин "агон" ("борьба", "состязание") применительно к сцене центрального спора в комедиях Аристофана.
Рядом с исследованием композиция древнеаттической комедия идет с начала XX века изучение литературных образов Аристофана. Во многих фигурах, даже тех, какие выхватываются Аристофаном прямо из жизни, удалось подметить ряд постоянных типов, которые, восходя несомненно к очень глубокой древности, конечно, жили уже и в долитературной комедии. За последнюю четверть века наиболее яркой работой по вопросу о древней комедия, без сомнения, является книга Корнфорда, первое издание которой вышло в 1914 г. Продолжая в анализе композиции комедий Аристофана идти дальше по пути, намеченному наукой в конце XIX века, Корнфорд в сюжетном состава финала комедии или ее "эксода", нашел некоторую постоянную схему, внутренне отвечающую основному драматическому заданию сцены "агона". Менее удачной оказалась вызвавшая со стороны многих справедливые возражения попытка Корнфорда выводить начала комедии из предполагаемой им обстановки древнейшего, им постулируемого, обряда борьбы божества лета с божеством зимы.
[1] Ρickard Cambridge, Dithyrambe, tragedy and comedy, Оксфорд, 1927.
2. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДРЕВНЕАТТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ
Обращаясь к сложной проблеме происхождения древнеаттической комедии, необходимо иметь прежде всего в виду, что нашим основным свидетельством служит текст четвертой главы "Поэтики" Аристотеля. В этой главе говорится, что, подобно тому как аттическая трагедия произошла от "эксархонтов" дифирамба, точно так же произошла и комедия - опять-таки от эксархонтов (поэтов), но только эксархонтов не дифирамба, а "фаллических" песен, которые, добавляет Аристотель, "в обычае еще и теперь во многих греческих государствах". Аристотель, значит, мог еще сам наблюдать старинный обычай подобного рода песен. Обряд этот заключался в праздничной деревенской процессии, которая несла изображение фалла. Отсюда и самый обряд назывался "фаллефориями", "несением фалла", а к песням этой процессии прилагался термин "фаллические". В миниатюре такая фаллическая процессия изображена в комедии Аристофана "Ахарняне" (ст. 241 сл.). В этой комедия Дикеополь, аттический сельский хозяин, празднует "сельские Дионисии": впереди идет его дочь, молодая девушка, с корзиной на голове, за ней выступает раб Дикеополя Ксанфий, несущий изображение фалла, а замыкает шествие сам Дикеополь, затягивающей "фаллическую песнь" (φαλλικόν). В этой песне он сперва славословит бога фалла - Фалета, а потом радуется заключению перемирия и возможности предаваться любовным забавам. Другая фаллическая песня, относящаяся к сценическим выступлениям позднейших "фаллофоров", - профессионалов, искусство свое показывавших за деньги в театре, -сохранилась у Афинея (XIV, 622) в описании греческого писателя II века до н, э. Сема Делосского. Без масок, но густо увенчанные фиалками, плюсом и другой зеленью, свешивавшейся им на лицо, вступали эти фаллофоры в орхестру, шагая в ногу и славословя Вакха; затем они подбегали к зрителям и кого-нибудь из них высмеивали. Внимания заслуживает и смысл самого слова "комедия", κωμῳδία, вторая часть которого значит "песня", а первая образована от греческого термина "ко́мос", обозначавшего в Аттике процессию навеселе. Аттический сельский комос - это процессия подвыпившей толпы, расхаживающей по селам в праздник деревенского бога Диониса. Песни такой процессии не только вбирали в себя мотивы пьяного веселья и чувственные, отвечавшие сакральному смыслу праздника образы сексуальной жизни, но давали также простор для выражения всякого рода насмешек.
Останавливаясь на вопросе о происхождении слова "комедия", Аристотель (Поэтика, гл. 3) приводит мнение дорийцев, утверждавших, что "комические актеры (κωμῳδοί) получили свое название не от κωμάζειν ("кутить"), а от блуждания по деревням (κῶμαι), потому что их с позором выгоняли из города". К сожалению, Аристотель не говорит, от какого слова, по его мнению, произошло слово "комедия", несомненно происходящее от "комос"; таково было и обычное производство его в древности. Наряду с этим не лишен интереса и наивный, увязываемый грамматиками с историей возникновения афинской комедии рассказ византийских схолий к Дионисию Фракийскому о том,, что, по старинному обычаю, обиженные в деревнях ходили ночью по улицам и рассказывали, что здесь живет некто, который делает то-то и то-то крестьянам. На этом основании соседи днем повторяли слышанное ночью, и это для виновного было позорно. Рассказ описывает явления, представленные однородными обычаями, засвидетельствованными литературными памятниками, как для древнего Рима, так и для средневековой Европы, а кое-где дожившими даже и до настоящего времени.
С. И. Соболевский предлагает свою гипотезу об истории аттической комедии, не претендуя, однако, на ее полное соответствие действительности. Эта гипотеза имеет то достоинство, что она скомбинирована из сведений, сообщаемых Аристотелем. Аристотель в "Поэтике" говорит: комедия получила свое начало от сочинителей фаллических песен и состояла из импровизаций (гл. 4, 1449a, 9-11); архонт дал хор комической труппе поздно, а [раньше] участники ее были волонтерами (гл.5, 1449b 1-5); комические труппы не допускались в города, а бродили по деревням (гл. 3, 1448a, 37-38); комедия имела уже некоторые определенные формы, когда начинается упоминание так называемых поэтов ее (гл. 5, 1449, 3-4); а кто дал комедии маски, прологи (в том смысле, что комедия могла начинаться не с песни хора), число актеров и т. п" - неизвестно (гл. 5, 1449b 4-5).
Комбинируя эти сведения, С. И. Соболевский представляет себе историю аттической комедии в таком виде. Какой-нибудь сочинитель фаллической песни (он же и регент хора), - значит, человек, способный к творчеству, - между частями фаллической песни произносил комические речи (импровизировал). Так как фаллические песни исполнялись лишь несколько раз в год, он набирал себе труппу, состоявшую, может быть, из тех же исполнителей фаллической песни, и с нею ходил по деревням, сочиняя, импровизируя и разыгрывая смешные сцены. Сочинитель был и актером, а труппа - хором, певшим и плясавшим: может быть из хора кто-нибудь был тоже действующим лицом. Это и была народная аттическая комедия, которая так нужна для объяснения литературной аттической комедии. Эта народная комедия постепенно совершенствовалась, благодаря ли собственному таланту сочинителей, или заимствованиям. Так дело продолжалось приблизительно до 487 г., когда, по словам Свиды, явился Хионид, первый известный Аристотелю по имени сочинитель комедий. Но комедия в это время все еще не получила формального признания от государства. Наконец, около 464 г. она была допущена для государственных представлений. С этого времени ее история уже вам известна. Таким образом, литературная аттическая комедия есть не что иное, как прямое продолжение народной комедии и представляет с нею одно целое.
Что касается названия "комедия", то оно происходит от κῶμος: комические труппы, ходившее по деревням, являлись с шумом, гамом, может быть, иногда и подвыпивши, как что представляли собою вполне κῶμος, "гулящую компанию". Они пели, и по·· тому название κωμῳδοί для них вполне естественно.
3. СТРУКТУРА КОМЕДИИ
Самой существенной честью древней комедии является так называемый агон, словесный бой главных действующих лиц пьесы, Врашается спор неизменно вокруг какой-нибудь злободневной политической или иной общественной темы, которая обычно ставится остро, с бьющей по фактам текущего политического дня конкретностью. Комедия высмеивает явления, выхваченные из жизни, иногда с такими деталями, что нередко ее каламбуры и политические намеки оказываются для нас загадочными. Возможно, неясными они были уже и для ближайшего поколения.
Хор комедии решительно консолидируется с одним из противников, но никогда ни корифей хора, ни остальные члены его, хоревты, не ведут самой дискуссии. Корифей обычно вставляет в спор свои замечания, хор же одобрительно отзывается об одном и осуждает другого противника. Конструктивно, однако, сцена агона тесно связана с моментом первого появления хора, и следует она почти всегда непосредственно после "парода", или выхода хора в орхестру. С агоном же внутренне связаны начальная и заключительная части комедии, ее "пролог" и "эксод". Пролог, т. е. предшествующая пароду часть, намечает тему, развиваемую затем в агоне, причем почти всегда в форме диалога. Игра актеров в прологе имеет характер фарса и, в противоположность прологу трагическому, подводящему зрителей к началу фабулы, здесь, в комедии, где фабулы, в сущности, нет, пролог имеет в виду заинтриговать зрителей. Но тема агона звучит в нем всегда очень четко. Равным образом и эксод, или заключительный уход и хора и актеров за сцену, органически примыкает к агону: в эксоде одолевший празднует свою победу над побежденными им противниками. В веселой и яркой картине комического финала победителя обычно ожидают за сценой радости любви и пиршества. Там, за сценой, справляет он свою счастливую свадьбу или наслаждается ласками молодой куртизанки.
Пролог, парод, агон и эксод образуют, таким образом, в структуре комедии ее основной драматический план, который в середине пьесы вдруг разрывается так называемой "парабазой", когда актеры по ходу пьесы удалялись за сцену и в орхестре оставался лишь хор. Хоревты выстраивались лицом к публике и снимали маски, а корифей, тоже без маски, обращался от лица поэта к зрителям с большой стихотворной речью. Содержание этой речи совершенно не связано с сюжетом пьесы и развивает независимо от последней самостоятельную тему. Парабаза имелась не во всех комедиях, но компоновалась она по определенной схеме, согласно которой в состав полной парабазы входили следующие шесть частей: 1) открывалась парабаза небольшим вступительным комплексом коротких, чаще всего анапестических стихов, обозначавшихся термином "комматий" (κομμάτιον), т. е. "отрубочек", "отрезочек"; 2) парабаза в собственном смысле, иначе называемая "анапестами", т. е. речь корифея к зрителям, заканчивающаяся "длинным периодом" (μακρόν), состоящим из комплекса эффектно в звуковом отношении подобранных коротких анапестических стихов, которые актеру надлежало быстро произнести одним духом; к этой бравурной концовке применялся характерный для способа ее произношения термин "удушье" (πνῖγος); 3) песнь хора, "ода", самого разнообразного содержания; 4) "эпиррема", обращенная к зрителям речь предводителя одного из полухорий, аналогичная речи корифея, писавшаяся всегда трохаическими тетраметрами; 5) вторая песнь хора, "ангода", симметричная первой; 6)"антэпиррема", или речь предводителя второго полухория, симметричная "эпирреме". Надо, однако, сказать, что рядом с основной темой спора в. комедии есть вставные эпизодические сценки бытового характера, не столько содействующие движению пьесы вперед, сколько фиксирующие внимание театра на выступающих в них боковых фигурах. А если в основном структурном массиве комедии игра актеров плотно спаяна с игрой хора, то в этих сценках хор вовсе не принимает участия, а драматическими их агентами оказываются исключительно актеры. Очень часто сценки эти бывают вкраплены в основное содержание, но излюбленное их место - это вторая часть пьесы, между парабазой и эксодом.
4. АКТЕРЫ И ХОР
Фигурантами служат в комедии, так же как и в трагедии, две категории исполнителей: актеры и состоящий из двадцати четырех певцов хор. Комический хор несравненно активнее трагического: он не только поет и пляшет, но и играет, действенно участвуя в движении пьесы и поддерживая игру актеров. Одни песни комический хор исполняет стоя на месте, другие - двигаясь, а в некоторых случаях он и пляшет. Наиболее распространенным в комедия танцем был так называемый "кордакс", сопровождающийся вольными, очень живыми телодвижениями с высоким выбросом ног.
Унитарный, как и в трагедии, комический хор носит часто очень фантастичные маски и рядится в самые разнообразные костюмы - то животных, то людей. Хору противостоят актеры отличающиеся от него и однообразным в общем костюмом. Знакомят нас с костюмом комических актеров аттические терракотовые статуэтки конца V и начала IV века и вазовые рисунки.
Прикрепленные спереди и сзади подушки, скрытые под коротким хитоном, деформируют торс актера, а обутые в низкую обувь ноги кажутся под грузным торсом несоразмерно тонкими. Уродство фигуры усиливается широкой комической маской, делающей актера большеголовым. Все это нередко дополняется громадным, свешивающимся из-под хитона фаллом. Этот условный традиционно уродливый костюм ведет, по всей видимости, свое происхождение от одежды древнейшего, сейчас ближе неопределимого, сакрального маскарада; он является, может быть, подражанием обличию богов; его сопоставляют с изображениями тех фаллических демонов, окружающих бога Диониса, которые задолго до V века очень часто фигурируют на коринфских вазах, несомненно символизуя зиждительные силы природы. Подчиняясь старой традиции, актеры древней комедии, одетые в такой странный костюм, делавший их похожими скорее на примитивные божества, чем на греческих граждан, представляли нередко живых своих современников, известных политических деятелей, философов, драматургов.
Основная игра главных персонажей комедии развертывалась в агоне и в связанных с агоном сценах. Костюмы и маски, надевавшиеся актерами в эпизодических бытовых сценках, отличались большей реалистичностью, о чем свидетельствуют опять-таки афинские терракоты.
5. СИЦИЛИЙСКАЯ КОМЕДИЯ И МИМ. ЭПИХАРМ И СОФРОН. ФЛИАКИ
Чрезвычайно важным литературным фактом конца VI и первой половины V веков до н. э. было появление в Сицилии комедии Эпихарма, совсем не похожей по своему характеру на аттическую комедию инвективы. Сицилийская комедия родилась не из комоса, а из широко бытовавшей в Италии и в Греции, преимущественно у дорян, народной бытовой сценки простейшего типа, описанной Сосибием (начало III века до н. э.), выдержки из сочинения которого сохранились у. Афинея (XIV, р. 621). Актеры этого народного театра, в разных странах обозначавшиеся по-разному, разыгрывали в Лаконике, где они, по словам Сосибия, назывались "дикелистами", шуточные сценки. Так, например, представляли они кравших плоды осеннего урожая деревенских воров или приезжего врача-иностранца. Сценические представления подобного рода были распространены не только в Лаконике, но и в других местах, - в Сикионе, в Беотии, в Южной Италии и т. д. Из этого же народного театрального жанра выросла и сицилийская художественная комедия Эпихарма. Аристотель в "Поэтике" (гл. 5) делает интересное сообщение: он говорит что Эпихарм и другой поэт сицилийской комедии, Формий, первые начали создавать вымышленные сюжеты. Разыгрывавшиеся до них народные сценки, вероятно, не имели настоящей фабулы и были эпизодичны. От Эпихарма до нас не сохранялось ни одной из его многочисленных пьес; дошли только фрагменты, показывающие, что Эпихарм писал на сицилийском дорийском диалекте ямбами, т. е. тем же размером, каким писали и аттические поэты комедий, и что сюжеты его комедий были двоякого рода - бытовые и мифологические. Он занимался изображением бытовых типов, а кроме того давал, принципиально опять-таки восходящую к традициям греческого народного жанра, травестию мифа. Многие театрально-бытовые типы позднейшей новоаттической комедии оказываются уже подготовленными комедией Эпихарма. Большую историко-литературную ценность поэтому представляет, например, отрывок речи сицилийского прихлебателя - "парасита" из комедии Эпихарма "Надежда, или Богатство" (CGF № 35 Кайбель). С тонким юмором, подчеркивая реалистические подробности, парасит кому-то рассказывает, как охотно принимает он любое приглашение на обед и как часто является он и без приглашения. За столом он старается быть приятным хозяину, смешит его и гостей и незамедлительно завязывает спор с тем, кто хозяину противоречит. Он много ест и много пьет, а к ночи возвращается к себе домой, в свой убогий угол, по дороге подвергаясь впотьмах побоям со стороны ночного дозора. Добравшись, наконец, до своей жалкой комнаты, он растягивается там прямо на полу, без постели, говоря: "пока несмешанное вино объемлет мой ум, я побоев не "чувствую".
Наряду с чисто бытовыми темами разрабатывал Эпихарм и темы мифологические. Небольшой папирусный текст (CGF № 99 Кайбель), комически изображающий Одиссея, - плута, трусливо уклоняющегося от возложенного на него Агамемноном опасного поручения и придумывающего обман, - является, вероятно, отрывком из его комедии "Одиссей-лазутчик". Хорошим образчиком многочисленных у Эпихарма подобного рода комических трактовок мифа может служить фрагмент его "Бусирида" (CGF № 21 Кайбель), где описывается картина обеда Геракла, "одного взгляда на которого достаточно, чтобы умереть от ужаса": во время еды "шумит" у Геракла "глотка, чавкает челюсть, скрипят коренные зубы, лязгают клыки, и носом сопит он и ушами двигает".
Если бытовые образы Эпихарма часто оказываются близкими складывающейся много позже эллинистической бытовой комедии, то его травестии мифа тематически родственны и аттической "драме сатиров", и многим из мифологических сюжетов позднейшей "среднеаттической" комедии.
Сицилийская комедия родственна была сицилийскому миму, который, подобно ей, вышел также из народной сценки, стремившейся к передаче повседневной живой реальности. Слово "мим" значит по-гречески "подражание". И действительно, сицилийский мим был близок сценическому жанру, хотя вполне театральным представлением он никогда, в сущности, не являлся: это была "сценка с натуры", которую иногда просто читали, а иногда и играли, но без помощи сценических средств и театральных аксессуаров. Форма мима - диалог, но диалог такой, в котором почти все время говорит лишь один из диалогистов, а другой молчит или подает только самые краткие реплики. Основной персонаж мимирует, обращаясь то к своему партнеру, то к другим, воображаемым лицам, будто бы тут же присутствующим, и, очевидно, меняя интонацию голоса в зависимости от воображаемой смены ситуации. Тема берется мимом из будничной обстановки и развивается им в жизненно правдивых тонах.
Большого художественного совершенства достиг сицилийский мим в творчестве Софрона, сицилийского поэта первой половины V века до н. э. Смотря по тому, к какому полу принадлежали главные действующие лица в его мимах, эта мимы делились на "мимы мужские" и "мимы женские". Софрон был, несомненно, очень крупным художником, произведениями которого многие в древности увлекались, в том числе и Платон, высоко ценивший его искусство. Технические литературные приемы мима оказали большое влияние не только на форму Платоновского диалога, но и на целый ряд александрийских поэтов, главным образом того направления, к которому принадлежали поклонники малых форм. Поэтому городские идиллии Феокрита и мимиямбы Геронда сюжетно, а в известной мере и стилистически, во многом зависели от мимов Софрона.
Писал Софрон прозой на местном дорийском диалекте Сицилии, но проза его, как сообщают нам наши источники, была у него ритмизована. От Софрона до нас не дошло ничего, кроме незначительных фрагментов. Лишь совсем недавно (в 1933 г.) в Египте был найден обрывок папируса с сохранившемся на нем небольшим текстом одного из "женских мимов" Софрона, по видимому того самого, который носил известное нам по цитатам заглавие "Женщины, утверждающие, что они изгоняют богиню". Местом действия в этом отрывке служит комната в доме женщины занимающейся волшебством. Основным лицом мима и является здесь сама волшебница, совершающая в присутствии своих клиентов ряд магических действий, чтобы снять с пострадавших злую силу грозной богиня, как можно догадываться, - Гекаты. Исполнительница главной роли обращается к воображаемым людям с приказом "взять и поставить стол", на котором лежат предметы, необходимые при жертвоприношении: "А теперь, -продолжает она, -садитесь у очага и не шумите. Растворите все двери настежь!... А ты, - обращается она вдруг к своей помощнице, - держи и факел, и ладан!... А где же смола?" - спрашивает она ее и получает короткий ответ: "Вот она". Язык отрывка простой, близкий к разговорному, и состоят из коротких фраз, почти без придаточных предложений. Вместе с тем, этот необычайно живой монолог волшебницы таков, что он воспроизводит перед нами все движения присутствующих и все их переживания. Последние обрисовываются исключительно благодаря восклицаниям, приказам а обращениям, - то к тем, то к другим, - самой говорящей.
Писал мимы и сын Софрона Ксенарх.
Среди греческого населения Южной Италии издавна были в ходу и те, безусловно близко напоминающие комедию, народные театральные представления, с которыми нас знакомят изображения так называемых "флиаков" на некоторых южноиталийских вазах, принадлежащих, правда, значительно более позднему времени. Замаскированные приземистыми, похожими на лесных гномов уродцами, выступают флиаки на этих рисунках в качестве актеров, разыгрывающих сюжеты пьес, дающих явную травестию мифа. Костюм флиаков напоминает до некоторой степени подробностями своего театрального убора, в частности, например, характерной маской, а также и фаллом, актеров аттической комедии. Вазы флиаков подводят нас, таким образом, еще к одной разновидности античной комедии.
Народный лаконский театр и театр италийских флиаков, сицилийский мим и аттический комос, бытовая сценка и травестия мифа, балагурный мегарский фарс и драматический показ типа в пьесах Эпихарма, - таковы разнообразнейшие, родственные друг другу, но в то же время и непохожие один на другой древнегреческие комедийные жанры; в дальнейшем их затмевает мощная литературная комедия, которая к середине V века образует в Афинах уже вполне окрепшую художественно и очень важную политически, совершенно новую театральную форму. От всего этого, некогда богатого, древнейшего комедийного творчества греков до нас дошли только обломки, сохранившиеся в большинстве случаев в виде литературных цитат в сочинениях грамматиков и других древних писателей позднейшей античности.
6. НАЧАЛО РЕГУЛЯРНЫХ ПОСТАНОВОК КОМЕДИЙ В АФИНАХ И ПЕРВЫЕ КОМИЧЕСКИЕ ПОЭТЫ. КРАТИН
В 487/6 г. до н. э. народная аттическая комедия получает в Афинах официальное признание. С этого года начинают регулярно ставить комедии наряду с трагедиями в городском театре Диониса в очередные праздники бога. Первой комедией, поставленной в городские Дионисии этого года, была пьеса, принадлежавшая Хиониду, о характере творчества которого мы ничего не знаем. Кое-что узнаем мы о другом поэте этой старой литературной комедия первой половины V века - Магнете, главным образом благодаря Аристофану. Последний в парабазе своей комедии "Всадники" (ст 520 сл.), вспоминая былых поэтов, первым по времени называет Магнета, имевшего в молодых годах, как он говорит, громадный успех у публики, а под старость безжалостно ею отвергнутого, так как у старика нехватало сил "для насмешек". Сохранились имена и других поэтов этого начального периода истории афинской комедии: по надписям и литературным источникам известны нам Экфантид, Алкамен, Эвфроний, Эвксенид, Милл, Диопиф. Но для нас это лишь голые имена: об их произведениях мы почти ничего не знаем.
Наиболее крупным из ранних комических поэтов был старший современник Аристофана - Кратин, первое выступление которого в театре относится, примерно, к 455 г.; в том жанре, какой затем был так блестяще разработан Аристофаном, многое, по видимому, подготовлено было именно им. Когда в 424 г. Аристофан ставил "Всадников", Кратин был уже стариком. Говоря о нем, Аристофан подчеркивает сокрушительную силу и злобность его прежних политических насмешек, с которыми он обрушивался на врагов. Он сравнивает Кратина со стремительно несущимся весенним потоком, вырывающим на бурном своем пути деревья вместе с корнями. А спустя много лет после смерти Кратина Аристофан в другой комедии, "Лягушки", ст. 357 восторженно отозвался о его "неистовом" языке. Иные из его комедий, говорит Аристофан, имели такой успех, что одно время в Афинах за столом на пирушках ничего другого не пели кроме его красивых арий, получивших широкую популярность. В 424 г. Кратин, хотя и старик, все еще оставался опасным соперником Аристофана, и последний поэтому в своей пьесе жестоко высмеял своего противника за приверженность к пьянству. Кратин на на смешки Аристофана ответил в следующем же 423 году веселой и остроумной комедией, озаглавленной им "Бутылка" (Πυτίνη), в которой он одновременно и защищался и сам же шутил над самим собой: он представил себя в пьесе женатым на Комедии, но изменяющим ей с другой женщиной по имени Μέθη ("Пьянство"). Законная жена Кратина, Комедия, собиралась с ним развестись. Друзья поэта уговаривали ее повременить и не затевать процесса, а Комедия горько им жаловалась на поведение мужа, совсем переставшего ею интересоваться и проводящего время не с ней, а с Пьянством (Метой). "Бутылка" была последней пьесой Кратина: вскоре, между 423 и 421 гг., он умер.
От комедий Кратина сохранились только фрагменты. Особенно знамениты были его "Архилохи", т. е. "насмешники, злые, как Архилохи", а также "Фракиянки" и "Хироны", прямо направленные против Перикла, которого Кратин в своих пьесах, по видимому, изображал сумасбродным тиранном. В "Хиронах" он называл его "сыном Зевса и Смуты", а во "Фракиянках" Перикл, любивший в жизни прикрывать шлемом уродство своего остроконечного черепа, портившего благообразие его красивого лица, - показан был зрителям, но только не в шлеме, а в огромном головном уборе, представлявшем собою макет незадолго до того (в 446 г.) построенного Периклом здания Одеона; "Вот приближается к нам Перикл, луковидноголовый Зевс, с Одеоном на голове, так как его остракизм сорвался", - говорил кто-то из персонажей комедии, указывая рукой на актера, исполнявшего роль Перикла (фр. 71 Кок.). Ничем не прикрытая насмешка Кратина, без стеснения называющая высмеиваемое лицо по имени, выражена в этом отрывке особенно ясно. На период творчества Кратина приходится, между прочим, и трехлетие (с 439 по 437 г.) строгой театральной цензуры, установленной для комедии при архонте Морихиде в 440/439 г. декретом афинского народного собрания. Этот декрет запрещал высмеивать граждан под их собственными именами; однако через три года, при архонте Эвфимене, закон этот был отменен. "Фракиянки" предшествуют, конечно, декрету Морихида.
На две из комедий Кратина - "Богатства" (Πλοῦτοι) и "Дионисоалександр" (Διονυσαλέξανόρος), т. е. "Дионис, он же и Александр") - проливают теперь некоторый свет папирусные фрагменты, из которых мы узнаем, что обе комедии направлены были опять-таки против Перикла и его партии. Комедия "Богатства" получила свое название, по видимому, от хора, изображавшего в ней гениев богатства, особых "титанов", зорко следивших за тем, честно ли наживает человек богатство. Пьеса эта, точную дату которой установить трудно, ставила своей ближайшей задачей протест против быстрого накопления богатств в руках недобросовестных агентов афинской государственной власти, которые нередко "на должности своей" беззастенчиво наживались. В частности, пьесой Кратина ставился под удар известный богач, владелец обширных земель, как наследственных, так и приобретенных на условиях, надо думать, чрезвычайно выгодных, в обильной драгоценными рудами Фракии. Одновременно с этим богачом высмеивался и крупный государственный деятель Агнон, основатель (437 г.) города Амфиполя в наиболее богатей фракийской местности, которая издавна славилась добычей серебра и золота.
От комедии "Дионисоалександр" дошел до нас текст не самой комедии, а краткого изложения ее сюжета (ὑπόθεσις). Хор комедии, по видимому, состоял из сатиров, наподобие хора драмы сатиров, а выступавший в комедии бог Дионис принимал на себя почему-то роль Париса. Под Троей, в долинах Иды, он решал спор трех богинь, - Геры, Афины и Афродиты, каждая из которых старалась судью подкупить: Гера дарила ему незыблемость власти ("непоколебимую тираннию"), Афина - удачу в войнах, Афродита-красивую внешность. Дионис отправлялся тогда в Лакедемон, откуда и возвращался обратно на гору Иду уже вместе с похищенной им Еленой. Когда же получалось известие о прибытии ахейского войска в Троаду, Диониса охватывал ужас: ища спасения, он прятал Елену в большую корзину, а сам наряжался бараном, "выжидая дальнейших событий". После этого появлялся Александр-Парис и легко обнаруживал наивный обман Диониса. Сжалившись над несчастной Еленой, в страхе молившей его о пощаде, он оставлял ее у себя, решая взять ее себе в жены, а Диониса приказывал выдать ахейцам. Диониса уводили, а сатиры, сопровождали его, подбадривая и обещая ему хранить нерушимую верность; на этом пьеса кончалась. Папирус, передав ее содержание, дополнительно сообщает и о политической ее направленности: "эта драма, - читаем мы в заключительной фразе текста, - убедительно высмеивает Перикла, намекая на то, что это он навлек на афинян войну". Разуметь, понятно, надо войну Пелопоннесскую, а следовательно, вероятная дата комедии - один из ближайших к началу этой войны годов, 430 или 429. В фигуре Диониса правильно, вероятно, усматривают карикатурное изображение самого Перикла, который своим якобы безрассудным поведением вызвал нашествие армии Архидама в Аттику, а затем трусливо и глупо спрятался за прочными городскими стенами, подобно Дионису, скрывавшемуся под бараньей шкурой при известии о приближении неприятеля. Многие допускают даже, что мотив похищения Елены Дионисом здесь перекликается с ходившим в Афинах в начале Пелопоннесской войны политическим анекдотом, согласно которому знаменитая, положившая начало войне "мегарская псефизма" (постановление афинян, запрещавшее мегарцам доступ на афинские рынки и в гавани) была следствием гнева Перикла. Последний якобы рассердился на похищение из дома Аспасии какими-то молодыми мегарцами двух куртизанок, одна из которых, уверяли, была любима Периклом. Как бы то ни было, "Дионисоалександр" дает нам, безусловно, довольно ясное представление о древнеаттической мифологической комедии, напоминающей, с одной стороны, в особенности своим хором сатиров, аттическую драму сатиров, а с другой, обнаруживающей черты столь же несомненного сходства с травестией мифа, часто встречающейся в сицилийских комедиях Эпихарма. Вместе с тем, "Дионисоалександр", примыкая к серии мифологических комедий Кратина, бесспорно свидетельствует и о том, что комедии подобного типа могли заключать в себе иногда и острополитическую тематику. Другая, тоже мифологическая, комедия Кратина "Одиссеи" (т. е. Одиссей с товарищами), была, по словам Платония, совершенно лишена политической тенденциозности. Соответственно этому, в ней не было парабазы и отсутствовали по той же причине и сатирические инвективного характера песенки хора, хотя последний сам, несомненно, принимал какое-то участие в пьесе.
Отсутствие личной инвективы в комедии "Одиссеи" составляло, однако же, в пьесах Кратина, по видимому, исключение: основным жанром его комедии был политический, даже и в мифологической комедии, как и у Аристофана, Эвполида и других комиков второй половины V века.
7. КРАТЕТ. ФЕРЕКРАТ. ЭВПОЛИД. ПЛАТОН
Другой современный Кратину поэт - Кратет отступил, должно быть, сознательно, от этого жанра аттической комедии. Сперва он был актером комедий знаменитого Кратина и практически изучил условия афинской сцены, а затем и сам стал поэтом и получил известность к концу 50-х годов V века. Кратет одержал первую победу на драматических состязаниях в 449 г. У Аристотеля ("Поэтика", гл. 5) имеется следующее важное сообщение: "сочинение сюжетов, - говорит Аристотель, - вышло из Сицилии, а среди афинских поэтов первый начал, отступив от жанра нападок, сочинять истории вообще и вымышленные сюжеты Кратет". Этот текст истолковывается по-разному. Одни думают, что Кратет просто пересадил в Афины сицилийскую бытовую комедию Эпихарма, другие считают, что Кратет первый начал строить комедию на основе связного, последовательно развиваемого сюжета. По мнению последних, аттическая комедия, предшествующая Кратету, совсем не имела фабулы и композиционно представляла собой как бы цепь следовавших одна за другой эпизодических сценок, вроде тех, какие, например, характеризуют примитивную композицию представлений народного театра типа "Петрушки". Оба предположения допустимы, но первое, пожалуй, менее убедительно, так как ему противоречит легко констатируемое по фрагментам иных из комедий Кратета (например, фр. 16, 23 и 33) присутствие у него хора, а комедия с хором никак не могла быть тождественна комедии Эпихарма, Но, что последняя оказала значительное влияние на творчество Кратета, не только возможно, но и весьма вероятно.
Для характеристики творчества Кратета слова Аристотеля о том, что Кратет "отошел" от жанра "нападок", т. е. что в его комедиях отсутствовала инвектива, имеют большое значение. Такая комедия должна была действительно приближаться к бытовой комедии дорян с ее жизненными типами. Сохранялось предание, согласно которому именно Кратет первый показал зрителям в одной из своих комедий ("Соседи") пьяного человека. Встречаемся мы у него и с трафаретными образами дорийской фольклорной сценки, например с типичной фигурой "врача-обманщика". В какой-то из его пьес, заглавие которой неизвестно, такой "врач", указывая на медицинский инструмент для кровопускания ("сикию"), говорит кому-то (фр. 41): "но я возьму, если хочешь, сикию и пущу тебе кровь". Язык этой фразы особенный: врач произносит ее на дорийском диалекте, изображая, быть может, странствующего врача-иностранца, в данном случае дорийца.
Было бы, впрочем, неосторожно считать комедии Кратета исключительно бытовыми: в них затрагивались и социальные темы. Так, в комедии "Звери" Кратет развивал фантастическую утопию по вопросу о господах и слугах. Последние Кратетом отменялись (фр. 14). В рабах не оказывалось нужды, так как вещи двигались сами собой и сами же выполняли требовавшуюся от них работу, стоило только данную вещь окликнуть: "Стань-ка сюда и накройся, стол "; "Где же килик? Иди и выполощи себя!"; "Поднимайся, тесто!" Сами собой варились и жарились кушанья и сами подавали себя к столу. "Поди сюда, рыба", - обращался человек к жарившейся на сковородке рыбе. "Да ведь я поджарилась пока только с одного бока", - возражала рыба. "Тогда не повернешься ли ты на другой бок и не насыплешь ли на себя соли?" говорил, в свою очередь, человек. Затрагивала эта комедия, по видимому, я вопросы вегетарианства. Аристофан во "Всадниках" (ст. 537 сл.), хотя и говорит в шутку, что капризные афинские зрители недовольны бывали подчас и Кратетом, но тут же спешит добавить, что переменчивым вкусам требовательной афинской публики Кратет умел все же отвечать.
Подражатель Кратета, а отчасти и его соперник, поэт Ферекрат, бывший сперва, как и он, актером, писал комедии, главным образом тоже на общие темы. Сравнительно большой отрывок, в 33 стиха, сохраненный нам Афинеем, дошел от его комедии "Рудокопы" (фр. 108). Сюжет этой комедии построен был, по видимому, на мотиве фантастического путешествия живого человека в царство мертвых и благополучного возвращения оттуда. К покойникам спускалась афинянка, спуск которой в преисподнюю, очевидно, происходил через шахты серебряных рудников Лавриона, откуда и название пьесы "Рудокопы", или "Шахтеры" (Μεταλλεῖς). Вернувшаяся рассказывает подругам о счастливой жизни людей за гробом; их благополучие, несомненно, противопоставлялось комедией бедственному существованию живых афинян. Изображаемая Ферекратом картина блаженства сытого потустороннего мира окрашивается им в сказочные тона социальной утопии, в которой ясно проступает старый народный мотив несбыточного "золотого века", вкусная рыба, жареные дрозды, сочные яблоки и другие заманчивые яства в изобилии свешиваются с деревьев. Сами они просятся в рот человека и никогда, сколько бы их ни ели, не иссякают. Необходимо, однако, заметить, что в комедиях Ферекрата очень отчетливо виден и элемент политический: так, в одной из его пьес (фр. 155) мы находим резкие нападки на Алкивиада.
Рядом с Кратином, Кратетом и Ферекратом действовали в то время в Афинах и другие, менее известные поэты комедии - Телеклид, Гермипп, Миртал, Филонид и др. Среди этих старших и младших современников Аристофана, друзей его и противников, выделяется имя одного из бесспорно талантливейших поэтов древней комедии второй половины V века - Эвполида.
Эвполид родился в 446 г. и умер, не дожив до старости, вероятно, около 411 г.; время его творчества приходится, таким образом, на тяжелую для Афин эпоху Пелопоннесской войны. Комедия его была ярко политической, причем главной мишенью ее нападок служили Гипербол и Алкивиад. По своему политическому направлению Эвполид имеет много точек соприкосновения с Аристофаном, с которым его связывала сначала и личная дружба. Одинакового возраста и родственных художественных устремлений, оба молодые и даровитые, они вместе громили руководителей современной им радикальной партии народного собрания. Но их дружба была непрочна. По причинам, нам неизвестным, она вскоре порвалась и сменилась взаимной ненавистью, что повлекло за собой тяжелые последствия как для Эвполида, так и для Аристофана: оба поэта обвиняли друг друга в плагиате. В какой мере соответствовали эти обвинения истине и на чьей стороне была правда, решить сейчас трудно. Способствовать обвинениям подобного рода могли, надо думать, и былые дружеские отношения Эвполида и Аристофана. Кратин в комедии "Бутылка" уверял зрителей, будто Аристофан обкрадывает Эвполида, это же утверждал и сам Эвполид, а Аристофан с возмущением говорил в "Облаках" (ст. 553 сл.) о том, что его комедия "Всадники" самым беззастенчивым образом использована была Эвполидом, построившим на ее материале свою пьесу "Марикас".
От произведений Эвполида сохранились только отрывки, и о содержании его пьес приходится лишь гадать. Нам известно, однако, что комедия "Марикас", фабулы которой мы, впрочем, совершенно не знаем, направлена была против Гипербола, тогдашнего руководителя радикальной партии, который незадолго до того сменил Клеона, в 422 г. павшего под Амфиполем. Мало осведомлены мы и о другой знаменитой его комедия "Бапты", в которой, с одной стороны, высмеивались тайные религиозные общества, уже начинавшие к тому времени получать в Афинах большое распространение, а с другой, заключались политические нападки на Алкивиада. Внешняя политика Афинской державы и линия поведения Афин по отношению к городам Афинского морского союза явились предметом жестокой критики Эвполида в его комедии "Города" (Πόλεις), внутренние же дела Афин зло высмеивались им в комедии "Демы" ("Общины"). С сюжетом этой блестящей комедии, которой и много позже так увлекалось античное общество, нас сравнительно хорошо знакомят найденные в начале XX века большие папирусные отрывки - шесть следующих одна за другой страниц текста, дающего около 120 новых стихов, частью цельных, частью фрагментированных. Поставлены были "Демы" в театре в 412 г. вскоре после страшного поражения афинской армии в несчастную для нее войну против Сиракуз. Это было то критическое для Афинского государства время, когда после военной катастрофы в Сицилии начали один за другим отпадать от Афин их союзники и когда перед афинскими гражданами все ощутимее обнаруживались теневые стороны их внутренней политической жизни.
С жестокой и яркой критикой этих сторон и выступил Эвлолид в своих "Демах". Начало пьесы он перенес в подземное царство. Миронид, один из выдающихся афинских стратегов, представитель культуры старых Афин первой половины V века, спускается после своей смерти в Аид, где сообщает скончавшимся до него афинским государственным деятелям о том, что делается наверху, у живых людей. Он говорит, что в Афинах все изменилось к худшему, что нравы граждан испортились и что честным афинянам жить в родном городе становится с каждым днем тяжелее. Жалобы Миронида производят большое впечатление на мертвых и последние решают отправить в Афины специальную депутацию в составе покойников, великих при жизни. Им дается поручение - помочь афинскому гражданству вернуться к добрым заветам старого времени. Состав депутации обстоятельно обсуждается, и выбор останавливается на четырех лицах: на мудреце Солоне, положившем основание афинской демократии, на Мильтиаде, главном герое славной битвы при Марафоне, на Аристиде, этом безупречном афинском гражданине, и на завершителе могущества афинского демоса - Перикле, который для Эвполида принадлежал уже далекой истории. После парабазы, от которой уцелели на папирусе лишь антода и антэпиррема, депутация мертвых, будто бы прибывшая, наконец, в Афины, на городскую площадь, вступает в орхестру: "Приветствую тебя, отеческая земля", - обращается Аристид к Афинам. Здесь, на афинской городской площади Аристид вступает в беседу с новой для него бытовой фигурой конца V века - негодяем-сикофантом. Похваляясь своей удачей, сикофант самоуверенно рассказывает Аристиду о том, как ему удалось путем наглого шантажа принудить одного богатого грека-иностранца, приехавшего по делам в Афины, заплатить ему изрядную сумму денег. Возмущенный Аристид велит схватить сикофанта, крайне удивленного таким оборотом дела, связать и, насколько можно заключить из контекста, посадить в тюрьму. Кончается папирусный отрывок громогласным обращением Аристида ко всему афинскому гражданству с призывом "быть честными". Очень интересна парабаза этой комедии, точнее - ее антэпиррема, прекрасно показывающая крепкую связь парабазы, как формы, с формой древнейшего комоса: она содержит резкую инвективу, направленную против какого-то политического деятеля, имени которого, к сожалению, папирус не сохранил.
Но, вкладывая в свою комедию почти исключительно политическое содержание, Эвполид останавливается вместе с тем и на реальных типах. Огромный интерес в этом отношении представляет его пьеса "Параситы" (точнее "Льстецы", Κόλακες). Большой, в 16 строк, отрывок из нее, сохранившийся у Афинея (фр. 159 Кок), дает речь парасита, тематически очень близкую той речи аналогичного персонажа из бытовой комедия Эпихарма "Надежда или Богатство", которую мы уже приводили выше (§ 5). Фигура парасита, как бы выхваченная Эвполидом непосредственно из тогдашней действительности, несомненно подводит нас к другой, бытовой, стороне творчества Эвполида.
Одновременно с Аристофаном живут и действуют в Афинах, кроме Эвполида, и другие поэты, среди которых в последней четверти V века особенно выделяется поэт Платон (не смешивать с философом!). Начало его драматической деятельности, по видимому, относится к первым годам Пелопоннесской войны, а конец падает на второе десятилетие IV века: он умер, вероятно, вскоре после 390 г. Его политическая комедия затрагивала то более важных, то менее значительных современных ей государственных и общественных деятелей: Гипербола, Клеофонта, Никия, Алкивиада. Комедия заключительного периода его творчества приближались уже к типу "средней" комедии и преимущественно содержали, насколько мы вправе вообще судить по сохранившимся от них заглавиям ("Адонис", "Фаон", "Лай", "Европа"), пародию мифологических сюжетов.
Известностью пользовались в 20-х и 10-х годах V века пьесы Фриниха. Знаем мы имена и других поэтов комедии, современных Аристофану и Эвполиду, например, Каллия, Аристонима, Левкона, Ликия (или Лика) и некоторых других, но от них ничего не дошло до нас.
Крупнейшим поэтом древней комедии, уже в античном мире получившим признание величайшего, был Аристофан.
Глава XXVI АРИСТОФАН
1. БИОГРАФИЯ АРИСТОФАНА И ПЕРВЫЕ ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. "АХАРНЯНЕ"
Обличительная комедия V века, которая свое выражение частично находит уже у предшественников Аристофана, получает у последнего свое полное, окончательное и художественно наиболее сильное развитие.
Аристофан родился около 445 г., умер предположительно в 385 г. до н. э. Его личная жизнь нам почти совсем неизвестна. Античная традиция сохранила нам имя отца Аристофана - Филипп, название его дема - Кидафиней и его филы - Пандионида. Аристофан был женат и имел детей; впоследствии двое из его сыновей, Арар и Филипп, по видимому, были тоже поэтами комедий. По преданию, Аристофаном написано было 44 комедии, но из них полностью дошли до нас только 11, от остальных же сохранились лишь незначительные фрагменты. Впрочем те 11 пьес, которыми мы располагаем, достаточно хорошо освещают нам творческий путь Аристофана, так как в своей совокупности они охватывают большой, почти сорокалетний период времени, от "Ахарнян" (425 г.) вплоть до второй редакции "Плутоса" (388 г.).
Начал писать Аристофан очень рано. Ему не было и двадцати лет, когда в 427 г. поставлена была в театре его первая, стяжавшая у публики несомненный успех, комедия "Пирующие", за которую автор получил второй приз. Эта юношеская пьеса Аристофана не сохранилась, но мы знаем общие контуры и основной смысл ее сюжета. Местом действия был вымышленный Аристофаном аттический дем, члены которого, изображавшиеся, очевидно, хором, собирались на происходивший в святилище Геракла праздничный пир. Участвовал в этом пире и один старый афинянин, являвшийся к пирующим в сопровождении двух своих сыновей, из которых один получил старозаветное воспитание, а другой новое. Идеологический смысл пьесы, вероятно, и заключался в сопоставлении этих двух взаимно противоположных типов, положительного и отрицательного.
В следующем, 426 г., в праздник городских Дионисий, поставлена была тоже утраченная для нас вторая комедия Аристофана - "Вавилоняне" на тему, близкую теме "Городов" Эвполида. Заглавие пьесы не вполне ясно, но что "вавилонян" в ней изображал хор, это вряд ли подлежит сомнению; неясно, кого следует нам разуметь под этими "вавилонянами", решить это сейчас невозможно. Лучше осведомлены мы относительно самого содержания пьесы: с безжалостной откровенностью высмеивал в ней молодой Аристофан легковерие и наивность афинских союзников и их делегатов, нагло обманываемых агентами афинской власти и политическими авантюристами. Удары направлены были Аристофаном против множества важных и влиятельных лиц, в том числе и против Клеона, которого выпады Аристофана глубоко оскорбили, главным образом потому, что они были сделаны ему публично, в театре, где среди зрителей сидели и члены посольств союзников. Эти послы всегда в огромном числе съезжались по делам своих политий в Афины именно в праздник городских Дионисий, к моменту которого обычно начинался в бассейне Эгейского моря оживленный судоходный период. Несмотря на то, что и "Пирующих" и "Вавилонян" Аристофан ставил не от своего имени, а от имени Каллистрата, дружески расположенного к нему комического актера, а может быть и поэта комедий, Клеон привлек Аристофана к суду, обвиняя его в государственном преступлении. Аристофану, по видимому, стоило большого труда отделаться от этого процесса.
Через год после "Вавилонян", в 425 г., Аристофан, опять от имени Каллистрата, выступает с новой и не менее смелой, ярко пацифистской комедией "Ахарняне". Припомним исторический фон. Продолжается уже шесть лет изнурительная для Афин Пелопоннесская война. Потери людьми огромны, остро ощущается недостаток продовольствия в городе, разорены сады и поля сельской Аттики. Все это пробуждает в афинских гражданах озлобление против пелопоннесцев и против афинских руководителей военными операциями, порой чувство отчаяния, порой веру в возможность близкой победы. Позиция, занятая Аристофаном, была определенна: в своей пьесе он решительно призывал афинян скорее заключить мир со Спартой. Иными словами, и эта комедия направлена была против всесильного Клеона и возглавлявшейся им партии, настойчиво требовавшей энергичного продолжения войны.
Своих "Ахарнян", действие которых открывается им на Пниксе картиной бестолкового народного собрания, Аристофан начал с нападок на незадачливую внешнюю политику Афин, дав талантливейшую пародию на официальные отчеты афинских посольств. Одно из них он представил вернувшимся будто бы из Персии, а другое из Фракии, от царя Ситалка. Но тут же, в прологе, дается четко и основная тема комедии: антитеза войны и мира. На Пниксе появляется Амфитей, рьяный поклонник спартанцев, которому, как он сам о том заявляет, боги доверили дело заключения мира с лакедемонянами. Амфитею не дают говорить, хватают его, гонят: о мире никто не желает слушать. Но один из участников собрания, по имени Дикеополь (т. е. "справедливый гражданин"), одаренный простым, но здравым умом аттический сельский хозяин, улучив удобный момент, поручает Амфитею для него одного, Дикеополя, заключить мир со Спартой. Пролог на этом кончается; наступает парод, мотивирующий сцену агона. Дикеополь, празднующий вместе со своей семьей сельские Дионисии, снаряжает фаллическое обрядовое шествие: впереди идет его молодая дочь, за ней раб Дикеополя Ксанфий, а позади всех сам Дикеополь. Довести процессию до конца Дикеополю, однако же, не удается: слух об его измене успел уже распространиться, и Дикеополя подстерегают изображаемые хором крестьяне Ахарнского дема, угольщики, глубоко озлобленные на спартанцев. Война разорила их, и они готовы теперь разорвать человека, сепаратно заключившего мир с их врагами. В бурной сцене ахарняне разгоняют фаллическую процессию Дикеополя и призывают последнего к ответу: начинается спор (агон). Стремясь разжалобить грозных ахарнян, Дикеополь предварительно стучится в дом к Эврипиду и заимствует у великого трагика, попутно тоже высмеиваемого, театральные одежды Телефа, героя-нищего одной из его трагедий, в жалком костюме которого он и выступает затем перед разъяренным хором. В длинной горячей речи он говорит ахарнянам, что не меньше их ненавидит лакедемонян, "испортивших ему его виноградник", но в то же время пробует им доказать, что виновниками войны являются совсем не спартанцы, а сама афиняне. Тогда среди ахарнян происходит раскол: одна половина принимает доводы Дикеополя, другая продолжает упорствовать и зовет на подмогу пользовавшегося в то время популярностью у афинян одного из стратегов, Ламаха, убежденного сторонника военной партии. В комическом боевом снаряжении в орхестре появляется зовущий к войне Ламах, в театральной фигуре которого несомненно правильно признают сейчас типические черты, роднящие ее с образом "хвастливого воина" позднейшей бытовой комедии, как эллинистической ("Полемон" Менандра), так и римской (Miles gloriosus Плавта). Ламах задорно вступает в пререкания с Дикеополем, но вскоре одурачен последним и обезоружен: победа остается за Дикеополем. Оба противника расходятся по домам: Ламах готовится к новому выступлению в поход, а Дикеополь посылает вражеским государствам, - пелопоннесцам, мегарцам и беотийцам - мирные предложения вступить с ним в торговые сношения. Идущие вслед за парабазой статичные, бытового характера сценки показывают результаты победы, одержанной Дикеополем. Дикеополь беспрепятственно закупает сперва у мегарского, а потом у беотийского крестьянина в изобилия привезенные ими на его базарную площадь всякого рода припасы, в то время как выбежавший из дома Ламаха раб напрасно надеется хоть что-нибудь купить для своего голодного хозяина. Завершает комедию эффектный эксод, в котором опять показаны зрителям оба противника: тяжко страдающий от боли Ламах, прихрамывающий, только что раненый на войне в ногу, и торжествующий, сытый, подвыпивший Дикеополь в сопровождения хора, перешедшего теперь целиком, в полном своем составе, на его сторону, отправляющийся под руку с двумя красивыми куртизанками продолжать за сценой веселый кутеж.
2. "ВСАДНИКИ" И "ОБЛАКА". ПОЛИТИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ; ОСНОВА ЭТИХ КОМЕДИЙ
От своего имени впервые выступил Аристофан лишь в 424 г., в Леней, с комедией "Всадники", без сомнения, самой сильной из всех его политических пьес. "Вавилоняне" и "Ахарняне", подобно "Всадникам", направлены была также против Клеона, но задевали они и его только косвенно; во "Всадниках" же Аристофан сделал Клеона центральной фигурой всей пьесы. Созданная Аристофаном блестящая карикатура навеки наложила на высмеянный им исторический образ неизгладимую печать комизма, необычайно талантливо, но в то же время и очень тенденциозно исказив подлинный облик Клеона. Чтобы оценить в достаточной мере смелость молодого Аристофана, необходимо вспомнить, что 424 год был апогеем политического влияния Клеона, этого типичного представителя новых, индустриально-торговых Афин второй половины V века, собственника большой кожевенной мастерской, беспокойного государственного деятеля и незаурядного политического оратора, обладавшего и даром речи и сильным голосом, вождя господствовавшей в тот момент в афинском народном собрании радикальной демократической партии. Аристофан вывел его в своей комедии в роли хитрого и пронырливого пафлагонского раба, беззастенчиво обманывающего своего доверчивого, выжившего из ума старика-хозяина. В безвольной фигуре последнего Аристофан с невероятной даже для древней комедии V века смелостью представил афинский демос, идущий на поводу у политических деятелей, не всегда достаточно разборчивых в средствах. От доносов "пафлагонца" и его наушничества жестоко страдают остальные рабы близорукого Демоса, в том числе и Демосфен с Никием выступающие в прологе. Вспомним, что как Никий, так и Демосфен были в то время стратегами действующей афинской армии и оба придерживались той консервативной политической ориентации, которая шла вразрез с требованиями враждебной им партии Клеона. Позиции того и другого были как раз в 424 году сильно поколеблены Клеоном в связи с его блистательным военным успехом, когда в критический момент осады Сфактерии вотум народного собрания неожиданно вручил Клеону высшее командование над армией, стоявшей под Пилосом. Клеон, с помощью Демосфена, поставленного тем же вотумом в подчиненное к нему положение, одним энергичным ударом взял Сфактерию и забрал в плен весь находившийся на этом острове неприятельский спартанский отряд. В насыщенном острыми и злыми намеками балагурном прологе оба раба, страдающие от гнусностей пафлагонца, - Никий и Демосфен выкрадывают у спящего пафлагонца скрываемый им тайный оракул, согласно которому господство "кожевника"-крикуна в Афинах может быть уничтожено лишь с приходом к власти другого, еще более наглого "коммерсанта", уличного горлана, "колбасника", забавной и популярной среди афинского народа фигуры уличного торговца. Тем самым определяется тема комедии, в частности - сцена ее агона, представляющая картину спора хитрого афинского политикана Клеона, под покровом красивых и громких фраз устраивающего исподтишка собственное благополучие, и грубого и еще более наглого, полуграмотного рыночного лотошника, получившего воспитание в мошеннической среде крикливого городского базара. К концу пролога появляется в орхестре и сам еще ничего не подозревающий о предстоящей ему высокой политической миссии базарный торговец колбасами Агораконт, имя которого образовано Аристофаном от слова "агора" ("базар", "рынок", "площадь"). Он несет перед собой лоток, на котором и принимается спокойно раскладывать свои мясные изделия.
Наступающая вслед за прологом парод образует в этой комедии сцену, полную движения. Оглашая воздух громкими криками и ругательствами, стремительно выбегает в орхестру хор, подражающей в своих движениях всадникам и даже, быть может, частично ряженый лошадьми, и преследует спасающегося от него пафлагонца-Клеона, первый выход маски которого нарочно заранее подготовляется Аристофаном перед началом парода. Обращаясь к Никию, которого охватывает страх при мысли о неизбежном и уже близком появлении ужасного пафлагонца, один вид которого повергает человека в трепет, Демосфен хочет успокоить товарища: в предстоящей борьбе поддержит колбасника против пафлагонца храбрая "тысяча всадников", молодых, бесстрашных кавалеристов, "поддержат его, конечно, и все порядочные люди из граждан, поможет ему и каждый разумный зритель, окажет ему помощь и бог". Не придется бояться и внешности пафлагонца-Клеона "потому, что от страха перед последним никто из мастеров театральных масок не решился изготовить его изображение" (ст. 225 сл.).
Открывающаяся вслед за пародом сцена агона - спор пафлагонца и Агоракрита, распадается на две части, между которыми вдвинута парабаза. В первой части пафлагонцу-Клеону предъявляются гиперболически грозные обвинения в государственном преступлении - казнокрадстве, им будто бы совершаемом. Клеон, бессильный отразить эти обвинения, прибегает к профессиональному приему афинской сикофантии, угрожая противникам донести совету об их государственном предательстве. Союзниками колбасника в его атаке на пафлагонца оказываются "всадники", т. е. наиболее аристократическая часть афинской армии. Этим, без сомнения, подчеркивается политическая позиция родовитых слоев афинского общества, занятая ими по отношению к Клеону и его партии. Во второй части сцены агона состязание пафлагонца и Агоракрита происходит в присутствии самого Демоса, в плоской лести которому оба соперника стараются превзойти друг друга. Беспощадное высмеивание того курса, какой проводится Клеоном в политике, строится Аристофаном сперва на базе тезисов политически серьезного содержания, но постепенно такого рода аргументы сменяются более легкими, более смешными и шуточными и, наконец, завершаются шаржем. Агоракрит в этой сцене перетягивает к себе симпатии падкого на лесть, наивного старца: капризный Демос отворачивается от пафлагонца, своего былого любимца, и перстень со своей руки, с заветной печатью, вручает как символ власти колбаснику. Борьба окончена: Агоракрит, одолел пафлагонца.
В дальнейшем комедия изображает последствия победы, одержанной Агоракритом в его состязании с пафлагонцем. В этой части своей комедии Аристофан воспользовался хорошо, вероятно, знакомым афинской публике мотивом распространенной и в русском фольклоре сказки, реплики которой находим мы и в греческих мифах, например в сказании о Медее и дочерях Пелия, сваривших, по совету Медеи, своего отца в надежде вернуть ему молодость: ветхий афинский Демос брошен Агоракритом за сценой в котел с кипящей водой, сварен в ней и таким волшебным способом омоложен. Омолодить древнего старика - это значит сделать его таким, каким был он лет шестьдесят или семьдесят тому назад: в порядке подобного рода фикций и одряхлевший афинский Демос, к которому вернулась вдруг его молодость, показан афинскому зрителю таким именно, каким он некогда был в славные времена Марафона, когда афиняне стояли во главе всей Греции. Аристофан вывел в орхестру этот омоложенный Демос одетым в старинный афинский костюм конца VI или начала V века, времен Аристида и Мильтиада. Этот мотив роднит со "Всадниками" комедию Эвполида "Демы", идеологически, безусловно, очень близкую им.
Заключительная часть пьесы,[1] ее финал, завершает торжество колбасника: Демос приглашает Агоракрита на даровое за счет государства угощение в Пританей, куда тот и идет, сопутствуемый куртизанками.
В своем нападении на Клеона Аристофан во "Всадниках" прибегает к помощи цензовых элементов общества в лице молодых афинских кавалеристов. Но отсюда было бы неосмотрительно заключать об аристократических симпатиях Аристофана вообще. В следующем же 423 году он в комедии "Облака" обрушивается как раз на явно его возмущающий тип молодого, праздного, щеголеватого,.аристократа, морально испорченного модным софистическим воспитанием. Положительным типом оказывается и в "Облаках" родственная Дикеополю из "Ахарнян" фигура бережливого сельского хозяина, "Стрепсиада"- старика, наивного и малообразованного, но по-своему честного и одаренного от природы большим здравым смыслом. Он тяготеет к земле, но вынужден жить в Афинах, потому что женился на родовитой афинянке-горожанке, хотя я небогатой. Он ненавидит современную ему городскую культуру Афин и по своим симпатиям весь принадлежит деревне и прошлому. Стрепсиаду в комедия противостоит его сын, молодой бездельник Фейдиппид, чрезвычайно кичащийся своим аристократическим родством с важным дядюшкой. Поощряемый к тому своей надменной и пустой матерью, Фейдиппид предается праздности, развлекаясь модным и дорогим конским спортом и входя ради этого спорта в долги, которые приходится, разумеется, платить не ему, а его отцу. Это жизненный тип беспутного юноши, хорошо знакомый и позднейшей литературе и существовавший, как мы видим, и в Афинах V века. Стрепсиаду противостоит, впрочем, не только Фейдиппид, но и Сократ, учитель новой, разъедающей устои общества, гибкой морали, с которым Фейдиппид быстро консолидируется. В "Облаках", таким образом, Аристофан, в сущности, возвращался к теме "Пирующих", своей первой юношеской комедии.
Долги сына заставляют отца искать средства для спасения своего состояния. Стрепсиад слышал, что софисты, а среди них и самый главный софист Сократ, обучают искусству доказывать что угодно, и Стрепсиад решает поступить в заманчивую школу этого философа, в его "фронтистерий", "мастерскую мысли". Эта мнимая школа Сократа изображена карикатурно на фоне остроумной и злой насмешки. Балаганно представлены и несчастные, измученные наукой ученики мыслителя, который подолгу держит их без воздуха, взаперти, как узников. Балаганно и первое появление самого Сократа, показанного театру подвешенным высоко в воздухе, в большой корзине. "Сократ! Сократушка! Скажи, умоляю тебя, что ты там делаешь?" - снизу, с земли, взывает к нему озадаченный таким необычным и странным зрелищем Стрепсиад (ст. 222 сл.). "Зачем зовешь меня, эфемер? - следует презрительный ответ мудреца. - Я хожу по воздуху, изучая солнце", В этом, столь противоречащем фигуре подлинного Сократа, образе Сократа - софиста, занимающегося изучением космоса, - Аристофан, без сомнения, не давал портретного сходства с оригиналом которому он приписывал, несомненно, много чуждых Сократу черт.
Приступая к ученому разговору со Стрепсиадом, Сократ, к концу пролога пьесы, подготовляя парод, громко зовет на помощь себе "многочтимых", "почтенных" богинь - Облака. Последние в виде хора, одетого, по словам схолия к ст. 289, в женские пестрые одежды, которые должны были подражать форме облаков небесных, медленно вступали в орхестру, торжественно распевая мелодичную песнь.
Диалог Сократа и Стрепсиада сделан Аристофаном с величайшим мастерством; так убедительна и правдива пародия на философскую "беседу" софиста с обучающимся учеником, что, однажды показанная зрителям, она уже не забывалась. Вот почему много позже комедия Аристофана сыграла столь роковую роль в политическом процессе Сократа и при вынесении приговора судом. Аристофан вывел своего Сократа безбожником, отвергающим Зевса и прочих богов государственной и народной религии. По мнению Сократа, у Аристофана облака в небе заставляет двигаться не Зевс, а воздушный вихрь. Боги Сократа - новые боги, отменяющие старых, признаваемых государством. Это - комическая, талантливо изображенная Аристофаном троица (ст. 424): Хаос (воздух), Облака и Язык. Зрители, конечно, смеялись. Но то, что в 423 г., когда ставились на сцену "Облака", звучало лишь шуткой, - четверть века спустя, в 399 г., при изменившейся политической ситуации было широко использовано, в числе других аргументов, государственным обвинением, как доказательство преступного отрицания Сократом официальных богов, засвидетельствованного Аристофаном.
Старого Стрепсиада Сократ принимает в свою школу, и старик учится у него, пока идет парабаза. По окончании парабазы оказывается, что попытка обучить Стрепсиада тайнам софистики успехом не увенчалась. К учению Сократа Стрепсиад остается глух; софист не в состоянии расшатать те прочные старые понятия, в каких Стрепсиад воспитан. В то же время здоровый юмор трезвого Стрепсиада оттеняет все больше и все сильнее общественную опасность хитроумных тезисов мудреца, страшный внутренний смысл которых окончательно выявляется зрителю в дальнейших сценах. За полной неспособностью ученика Сократ отказывается учить Стрепсиада, и тогда Стрепсиад упрашивает своего сына поступить вместо него в ученики к Сократу. Фейдиппид, может быть, и не послушался бы отца, но его увлекает присущая ему порочность, получающая мощный импульс под влиянием принципиального спора двух аллегорических фигур, неожиданно появляющихся в орхестре, -"Честной Речи" и "Речи Бесчестной". Честная Речь отговаривает юношу от поступления в школу софиста, Бесчестная, наоборот, советует поступить в эту полезную школу, где он наверняка развратится. Бесчестная Речь выдвигает при этом чисто софистический парадокс, убедительнейшим образом доказывая молодому человеку, что порок и приятнее и практичнее добродетели и что в Афинах развратникам несравненно лучше живется, чем людям честным. Вкладывая в этот центральный момент всей комедии большое политическое содержание и развивая в нем одну из тем, особенно любимых им в первый период его молодого творчества, а именно тему старого - здорового, и нового - развиващающего, воспитания, Аристофан в самой форме спора Бесчестной Речи и Честной дал опять-таки очень тонкую пародию на то мастерство "двойной" философской аргументации, которою в то время так увлекались многие из софистов. Побеждает, разумеется, Бесчестная Речь: Честная Речь сдается, и Фейдиппид поступает к Сократу, у которого он за время второй парабазы и проходит успешно весь курс софистического учения. Стрепсиад в восторге: он приветствует сына и с благодарностью вручает софисту гонорар за обучение.
Стрепсиад, наученный Фейдиппидом, легко разделывается с двумя кредиторами, пришедшими к нему требовать возвращения им долга, и отец на радостях угощает сына за сценой. Но за обедом между отцом и сыном происходит размолвка, в результате которой сын избивает отца, после чего самоуверенно и спокойно, во всеоружии доктрин Сократа, доказывает отцу, что он вправе бить не только отца, но если понадобится, то и мать. Стрепсиад, хотя и поздно, видит свою ошибку, понимает вред того, чему "Фронтистерий" Сократа обучает молодых людей, и в гневе поджигает ненавистную ему "мастерскую мысли".
"Облака" дошли до нас во второй редакции, принадлежащей самому Аристофану, в которой на сцене они никогда поставлены не были. Установить с точностью, что в нашем тексте восходит к первой редакции и что относится ко второй - трудно, а во многих случаях и невозможно. Несомненно лишь, что к составу второй редакции принадлежит главная парабаза, а также спор Честной Речи с Бесчестной, и заключительная сцена поджога школы Сократа.
[1] Некоторые ученые полагают, что самый конец „Всадников“ в наших рукописях оборван, так как эксод без хоровой песни вряд ли возможен в древней комедии.
3. "ОСЫ" И "МИР"
К Ленеям следующего 422 г. Аристофаном написаны были "Осы". Основная мысль этой комедии, которую Аристофан ставил опять-таки не от своего имени, а от имени Филонида, столь же мало известного нам, как и Каллистрат, - высмеивание Клеона, повысившего денежное вознаграждение присяжным (гелиастам) до трех оболов. В "Осах" дебатируется вопрос: действительно ли гелиасты, как им говорят демагоги, господа всего, или они - орудия и рабы демагогов? Самые имена действующих лиц - "Друг Клеона" (Филоклеон) и "Ненавистник Клеона" (Бделикелон) - показывают, что основной темой комедии является деятельность Клеона. Главная мысль комедии ясно видна из ст. 664 сл., где "Ненавистник Клеона" подсчитывает, что гелиасты получают лишь 10 процентов государственных доходов, а 90 процентов идут демагогам.
В Афинах почти вся полноправная мужская часть граждан принимала участие в народном суде: ежегодно избирались по жребию члены суда или "гелиеи", - гелиасты, делившиеся на очереди, обычно каждый раз состоявшие из пятисот заседателей. Гражданские и уголовные дела, мелкие и важные процессы, государственные обвинения, тяжбы афинских союзников, - все это разбиралось здесь, горячо дебатировалось и завершалось тайным голосованием. Суд был свободен и неподкупен, но судьи не всегда бывали в состоянии разобраться в картине следствия, а их симпатии нередко склонялись в ту или другую сторону в зависимости от умело построенной или страстно произнесенной на суде речи. Но так или иначе, афинский суд гелиастов был подлинно демократическим учреждением, которым афинский демос всегда дорожил. Пелопоннесская война, тяжело отзывавшаяся на государственной, экономической и частнобытовой жизни, наложила свою печать и на афинский суд, и прежде всего сказалась она в возрастном его составе: молодые люди и мужчины среднего возраста в массе находились на фронте, в городе оставались, главным образом, старики. Множество людей, владевших небольшими земельными участками в Аттике, служившими для некоторых часто единственным источником существования, были отрезаны от них теперь постоянными неприятельскими вторжениями в страну, а самые хозяйства заброшены или вовсе разорены: лишенным доходов с парцеллы и часто не имевшим никакого иного заработка людям приходилось иногда очень трудно. И каждый из них, конечно, мечтал попасть в члены суда, заседания которого, правда, невысоко - два обола за заседание, но, как-никак, все же оплачивались. Вполне естественно, что именно в это время афинское правительство нашло нужным повысить оплату труда гелиастов, доведя ее до трех оболов в день. Эта популярная мера была с радостью встречена населением. Понятно также, почему один из таких стариков-гелиастов, которого Аристофан сделал главной фигурой пьесы, носит прозрачное имя Филоклеон ("Друг Клеона"): за этот третий обол Клеону было признательно не мало народа. Противостоит Филоклеону его сын Бделиклеон, т, е. "Клеоно-ненавистник", "Презирающий Клеона". Тема пьесы оказывалась злободневной. Филоклеон бредит судом, он рехнулся на почве судоговорения, впал в умопомешательство. Чтобы уберечь отца от греха, Бделиклеон запер своего родителя в доме и приказал рабам сторожить его. В балаганного типа прологе изображены попытки Филоклеона обмануть стражу, чтобы получить возможность отправиться в суд. Он пробует выбраться из дому по трубе, прячется под животом осла и т. д., но рабы всякий раз накрывают Филоклеона.
Раннее утро; еще темно. К дому Филоклеона приближается компания его товарищей, таких же, как и он, престарелых гелиастов. Это хор комедии. Некоторых стариков сопровождают их голодные дети, мальчики, освещающие своим отцам дорогу слабо горящими лампочками. Гелиасты пришли звать Филоклеона с собой на предстоящее заседание. Жадные до суда, они и страшны и смешны, эти грознее старцы, которых Аристофан нарядил злыми осами. В костюме хоравтов их сходство с осами было подчеркнуто длинным осиным жалом. К этим беднякам-гелиастам Аристофан вовсе не относился отрицательно: это представители любимой им трудовой деревни, честные "марафономахи", чьи отцы, а иные из них, быть может, и лично, кровью своей отстаивали свободу Афин на славных полях Марафона. Но люди эти наивны: они думают, будто они в суде действительно служат народу, на самом же деле она лишь жертвы обмана ловких политических интриганов. Иначе говоря, и эти "осы", так же как а их старый товарищ Филоклеон, родственны, как социальный тип, и Стрепсиаду и Дикеополю. Филоклеон - это все тот же главный, и притом положительный, герой комедии Аристофана, но только из-за своей наивности одураченный на этот раз своими противниками.
В сцене агона, содержанием которой служит спор Филоклеона с Бделиклеоном, последний, отвечая отцу, с восторгом описывающему то почетное положение, какое дает гражданину исполнение обязанностей гелиаста, спрашивает Филоклеона, знает ли тот, куда фактически идут все те громадные государственные доходы, которые будто бы получает афинская государственная казна. Тут же затрагивается Бделиклеоном и политика Афин по отношен. но к союзникам, решительным защитником интересов которых Аристофан выступает и здесь, как и в ранней своей комедии "Вавилоняне". Критика, развиваемая Бделиклеоном, хору кажется убедительной: "Мудро кто-то сказал, - замечает корифей хора (ст. 725), - что нельзя решать дела, пока не выслушал обе стороны", и советует Филоклеону внять доводам сына. Филоклеон и сам теперь не возражает сыну, он со всем и на все согласен, за исключением одного: он скорее умрет, чем откажется от суда. Он хочет во что бы то ни стало судить. И сын, идя навстречу этому нелепому, но упорному желанию отца, инсценирует, ради удовлетворения его дикой страсти, шуточный суд. В качестве подсудимого Бделиклеон приводит к отцу его верного домашнего пса, по кличке Лабет (Хватай), родом, согласно шуточному судебному акту, "из Эксонейского дема". Преступник обвиняется в тайном похищении "сицилийского" сыра, причем обвинителем выступает другой пес, родом "из Кидафинейского дема". Намек Аристофана был зрителям того времени ясен: из Кидафинейского дема происходил и Клеон, незадолго до того возбудивший громкое судебное дело против стратега по имена Лахет, происходившего, как и собака Филоклеона Лабет, тоже из Эксонейского дема; Клеон предъявил ему обвинение в растрате казенных денег во время командования в 427 г. походом в Сицилию.
После главной парабазы идет вторая часть пьесы. Сын решается перевоспитать отца: деревенского старика он стремится переделать на новый, городской лад. Он одевает его в модный костюм я обучает светским манерам. Результаты этой затея показаны театру вслед за малой, или второй, парабазой, во время которой уже приодевшийся Филоклеон отправляется вместе с сыном на обед в гости, в избранное городское общество. Вскоре театр узнает, что старания Бделиклеона пропали даром: его отец не научился держать себя, за столом в гостях он напился пьяным, избил рабов, оскорбил флейтистку, обидел булочницу. Полупьяный и буйный, влетает он, наконец, в орхестру, исполняя бешеный танец. Кончается пьеса балетным номером, который исполняют трое специалистов-танцоров.
К весне 421 г., к празднику городских Дионисий Аристофаном создана была комедия "Мир", превосходно отображающая то стремление к миру, которое охватило тогда, можно сказать, всю Грецию. Уже десять лет шла война, изнурительная для главных держав, но, может быть, еще более страшная для их союзников. К концу 20-х годов Афины и Спарта напрягали свои последние силы. Их правительства еще продолжали крепиться, но и в том и в другом государстве уже все громче раздавались голоса, требовавшие хотя бы временного отдыха от войны. Смерть наиболее рьяных сторонников продолжения войны - афинянина Клеона и лаконца Брасида, павших в бою в 422 г. во Фракии, дала перевес и в Афинах и в Лакедемоне партии мира: Никий в Афинах, а в Спарте царь Плистоанакт направили свою деятельность к заключению мира. Но долгожданный мир, по видимому уже столь близкий, все еще не наступал: стороны никак не могли сговориться относительно его условий. Война угрожала затянуться. В этот-то момент напряженного ожидания мира, которого так страстно желали самые различные слои общества, Аристофан и работал над своей комедией. Основным действующим лицом пьесы он избрал все тот же излюбленный им и хорошо знакомый его театру тип старого аттического земледельца, которого он снабдил именем Тригея, образованным от глагола τρυγᾶν ("собирать плоды"). Это вымышленное Аристофаном имя ясно подчеркивало тип и основное занятие персонажа. Собиратель плодов виноградника, крестьянин Тригей сильнее, может быть, всех других тоскует по благостной, но скрытой завистливыми богами где-то далеко на небесном Олимпе дивной богине мира ("мир", είρήνη, по-гречески - женского рода). Отважный, изобретательный и настойчивый Тригей принимает смелое решение - самому подняться на небо, чтобы там разыскать эту желанную людям, но безжалостно отнятую у них небожителями богиню. В обширном прологе пьесы Тригей лепешками из навоза, изготовлением которых заняты у него два раба, откармливает за сценой громадного навозного жука. От усиленного питания жук сказочно быстро растет в размерах: перед началом комедии он уже достиг необычайной величины. Вскоре Тригей посредством театральной машины показан публике летящим верхом на огромном жуке, которого вместе с ним поднимают на воздух: Тригей летит на небо за богиней мира. Но вот, полетав немного, Тригей спускается осторожно в орхестру, слезает с жука - он теперь на небе - и подходит к олимпийским чертогам Зевса. Стоящий перед входом в дом Зевса бог Гермес преграждает Тригею дорогу: начинается так часто встречающаяся в древней комедии травестия образов мифа. "Тригей, из Атмонейского дема, дельный виноградарь, не смутьян и не сикофант", - рекомендует себя Гермесу Тригей (ст. 190). Но богов на Олимпе нет, сообщает Гермес: прогневавшись на людей, все они переселились куда-то дальше в небо. На Олимпе царит сейчас бог войны Полем, истребитель греческих городов, к великой досаде получающий вдруг донесение о том, что два его главных орудия, одно афинское, а другое лаконское, Клеон и Брасид, - оба, подготовляя гибель другим, сами же за своим занятием и погибли. Тригей на Олимпе не падает духом и, дождавшись ухода Полема, деятельно, не теряя времени понапрасну, приступает к спасению богини мира. На помощь себе зовет он людей со всей Греции, в первую голову - земледельцев: "Земледельцы, купцы, плотники, ремесленники, метеки, иностранцы, островитяне! Все идите сюда!" Этим призывом открывается парод: вооруженный земледельческими орудиями, спешным шагом вступает на зов Тригея в орхестру хор сбежавшихся с различных концов Греции земледельцев. В устах корифея раздается редкое, еще необычное для конца V века слово "панэллины" ("всегреки", ст. 302), как определенно пацифистский лозунг, обращаемый Аристофаном уже ко всем греческим политиям в их совокупности, а не к одним лишь Афинам. Соединенными усилиями Тригея и хора и при милостивом согласии бога Гермеса, которого Тригею удается подкупить красивым золотым кубком, прекрасная, добрая и величественная богиня мира, представленная громадных размеров статуей, извлечена, наконец, из грота. Тригей торжествует: "Народы! Слушайте! - так восклицает он (ст. 551). - Земледельцам идти в поля, забрав с собой земледельческие орудия, без дротиков, без мечей, без копий!"
После краткой (всего в 100 стихов) сцены агона, построенной на диалоге Тригея с богом Гермесом и имеющей главным своим содержанием защиту ценности мира, наступившего, к сожалению, лишь теперь, а не раньше, Гермес вручает Тригею от имени богини мира двух куртизанок-красавиц. Одна из них предназначается самому Тригею: это - Опора, женский гений деревенского сбора плодов осеннего урожая. Другая, Феория, т. е. "Празднество", символ праздничных государственных зрелищ, должна быть передана Тригеем по его возвращении в город членам афинского совета ("буле").
Сейчас же за парабазой следует вторая часть пьесы. В сопровождении Феории и Опоры Тригей якобы спускается с неба на землю: он вернулся обратно в Афины и подходит теперь к своему дому. Его невесту Опору, в ожидании свадьбы, которая должна произойти в тот же день, отводят в баню, а Феорию Тригей торжественно ведет, на глазах публики, в кресла первого ряда зрителей и усаживает там среди членов совета. После этого приступают к приготовлениям к свадьбе: Аристофан дает длинную сцену предшествующего свадьбе жертвоприношения богине мира, где видную роль играет выведенный в ней, как резко отрицательный тип, Гиерокл, жадный и надоедливый жрец-предсказатель, собирающийся сорвать дело мира. Нарушить праздник и приостановить жертвенный обряд, совершаемый, как он об этом кричит, не по правилам, Гиероклу, однако же, не удается: он встречает энергичный отпор со стороны Тригея. Тогда он меняет тактику и принимается униженно выпрашивать у Тригея кусочек жертвенного мяса, но возмущенный Тригей силой отгоняет его от алтаря.
Великое дело мира, спасенное Тригеем, немедленно же дает благие результаты, которые и изображаются после второй парабазы: Аристофан показывает зрителям, как вместе с наступлением мира в Греции начинает процветать земледелие, а в "индустриальных" Афинах широко развертывается производство необходимых теперь деревне орудий сельского хозяйства. Зато "фабриканты" оружия поднимают вопль: один за другим приходят и горько сетуют, жалуясь на Тригея, и изготовитель грозных султанов, и продавец панцирей, и "фабрикант" сигнальных рожков и военных труб, и выделыватель шлемов, и мастер копий. Комедия завершается мотивом радостной свадьбы Тригея с Опорой. Тригей отправляется на свой брачный пир, а хор провожает его за сцену, распевая веселую свадебную песнь в честь бога Гименея.
Нельзя забывать, что в те самые дни, когда в афинском театре Диониса шло представление этой комедии, мирные переговоры афинян и лакедемонян уже приближались к концу: в Афинах со дня на день ждали окончательных результатов. Фукидид (V, 20) сообщает, что так называемый Никиев мир "состоялся в конце зимней кампании, к началу весны, тотчас после городских Дионисий". Пьеса Аристофана, значит, непосредственно предваряла момент подписания мирного договора и тем самым приобретала, конечно, совершенно особое политическое значение. Однако она безусловно должна быть признана политически несравненно менее заостренной, чем, скажем, "Всадники", или "Осы": она не бьет по индивидуальным политическим фигурам, а развивает общую тему. И этой своей особенностью она опять-таки очень интересна: она указывает на начало появления у Аристофана нового рода комедий, направление которых все дальше и дальше отводит его впоследствии от острых моментов преходящего политического дня, толкая его на дорогу все более и более общих и широких вопросов.
4. "ПТИЦЫ"
Следующая по времени после комедии "Мир" пьеса Аристофана из числа дошедших до нас - это "Птицы". Среди всех его комедий "Птицы" самая фантастическая, поставленная им не от собственного имени, а от имени Каллистрата в 414 г. в праздник городских Дионисий. Комедия эта невольно обращает на себя внимание своей полной оторванностью от политического момента. Правда, в "Птицах" встречается множество отдельных рассеянных в ней политических намеков и задеты имена одиннадцати поэтов и музыкантов, но взятая в целом она в сущности лишена политической направленности. До сих пор вскрыть в ней таковую с достаточной ясностью никому еще не удалось, несмотря на множество разнообразных предположений, делавшихся по этому поводу,, в том числе и малоудачных попыток усматривать в ней насмешку над морским походом афинян в Сицилию, трагический конец которого для Афин Аристофан вряд ли мог вообще в 414 г. предвидеть.
Содержание "Птиц" заключается в следующем. Два старика-горожанина, афиняне Писфетер (т. е. "верный" или, пожалуй, точнее - "умеющий убеждать" товарищ) и его близкий друг Эвельпид ("Неунывающий"), покидают опротивевшие им Афины и отправляются в странствие - искать новое место для поселения. Зная, однако, что люди живут повсюду скверно, они решают пойти за советом к птицам: может быть, птицы, которым приходится много и часто летать по различным странам, знают где-нибудь тихое, хорошее место и сообщат им о нем. Ворона и галка, купленные обоими приятелями у продавца птиц в Афинах, приводят их в лес к удоду (по-гречески "эпопу"), который, согласно мифу, когда-то был человеком, фракийским царем Тереем, и в птицу был обращен лишь впоследствии. Женат был Терей на афинской царевне Прокне, так что афинянам он приходился в некотором роде свояком. Эпоп выходит навстречу обоим приятелям и дружески рекомендует им различные города, которые, по его мнению, могли бы им подойти, но предложения Эпопа стариками отвергаются. Мотивировки отказа содержат в себе тот или иной политический каламбур. Так, когда Эпоп предлагает друзьям отдаленный город на берегу Красного моря, Эвельпид в ужасе восклицает: "Как? На берегу моря? Нет! Ни за что! Подплывет туда как-нибудь на заре Саламиния и доставит нам вызов в суд!" (ст. 145). Шуткой этой Аристофан намекает театру на арест Алкивиада, за которым в Сицилию послан был, в связи с делом об оскорблении элевсинских святынь и процессом гермокопидов, военный корабль "Саламиния". Но вот Писфетера осеняет мысль: он предлагает Эпопу основать между небом и землей совершенно новый, еще никем не виданный птичий город, в котором он и поселятся вместе с Эвельпидом. Положение города между миром богов и миром людей будет птицам очень выгодно, поясняет Писфетер Эпопу: "как афиняне, чтобы пройти в Дельфы, должны каждый раз испрашивать теперь пропуск туда у беотийцев, совсем так же и вы, птицы, не будете пропускать к богам ни одной жертвы, если боги не станут выплачивать вам соответствующих взносов" (ст. 188). Эпопу предложение Писфетера нравится, и он хочет его обсудить совместно с друг ими птицами. Следует красивая ария птицы Эпопа, которая созывает птиц на собрание. В характере поэтических образов и в метрической структуре этой монодии заметно подражание тем сольным партиям Эврипида, какие позже, в "Лягушках", Аристофан так талантливо пародирует. Здесь, в "Птицах", пародии нет: в арию Эпопа Аристофан вложил, напротив, много серьезного чувства, так же как и в произносимое перед арией нежное обращение Эпопа к своей спящей за сценой и невидимой зрителям жене Прокне, несчастной супруге и безутешной матеря, из-за него погубившей их общего сына и по воле богов превращенной после своего преступления в соловья. Эпопу отвечает скрытая за сценой свирель, звуки которой условно должны выражать жалобную соловьиную песнь Прокны. Мелодична и обращенная к птицам ария, которая начинается и заканчивается, а местами и прерывается забавными, но грациозными звукоподражательными скороговорками (вроде "тороторотороторолилиликс", ст. 262), шутливо передающими музыкальный эффект птичьей трели. Завершая сцену пролога, эта звучная песнь Эпопа одновременно открывает и начало парода: одна за другой входят в орхестру разнообразные птицы, постепенно образующие многочисленный причудливый птичий хор.
Когда остальной массе птиц становятся вдруг известно, что в их среду пробралось двое людей и что эти люди собираются у них жить, птицы приходят в ярость и с криком бросаются на стариков. Разыгрывается живая сцена сказочной битвы: нападают птицы, Писфетер с Эвельпидом обороняются вертелом и лукошком. Лишь с трудом удается Эпопу успокоить птиц и уговорить их выслушать Писфетера: так подготовляется момент агона, ведущая роль в котором принадлежит, разумеется, Писфетеру. Эвельпид и Эпоп лишь задают ему вопросы, вставляют в его речь замечания, недоумевают или поддакивают. Писфетер увлекательно рассказывает птицам о былом их могуществе. Некогда птицы были владыками всего мира, говорит Писфетер: было это давно, прежде чем воцарились на небе боги, образовалась земля, а на земле появились люди. Да ведь еще и теперь, так продолжает он, стоит лишь рано утром прокричать петуху, как и медники, и горшечники, и дубильщики, и сапожники, и банщики, и мучники, и прочие рабочие люди - все послушно вскакивают с постели. Вернуть это славное прошлое, снова повелевать человечеством и богами - вот задача, поистине достойная птиц! А для этого птицам необходимо объединиться, образовать обширную городскую общину, создать большой, укрепленный могучими стенами город. Зачарованно слушают птицы этот заманчивый, грандиозный проект, в котором просвечивает волшебная сказка, но сквозит и ирония, тонкая насмешка Аристофана-скептика над фантастикой современных ему утопических теорий. Нельзя не заметить, что и сам Писфетер, этот образованный и проницательный человек, владеющий искусством всепобеждающей речи и блистательно защищающий парадоксальный тезис о юридическом праве птиц на мировое господство, - несомненно напоминает софиста. Софистике наносится удар и в парабазе, где, обращаясь к театру, корифей птичьего хора уверяет афинян, что, если они хорошенько вслушаются в то, что он скажет им, они с презрением отбросят в сторону все писания софиста Продика: за птицами не угнаться и Продику! Парабаза затрагивает вопрос моральный: птицы честнее людей, а по той важной роли, какую они играют в человеческой жизни, криком своим и своим появлением предсказывая людям и несчастье и счастье и оповещая их о смене времен года, а стало быть, и о сезонных работах, они легко. могли бы заменить людям все их божественные оракулы: "Мы, птицы, для вас и Аммон, и Дельфы, и Додона, и Феб-Аполлон" (ст. 716).
После парабазы Писфетер приступает к осуществлению намеченного им плана, т. е. к созданию птичьего города, которому он дает теперь и название "Нефелококкигия" ("Тучекукуевск").
Основание городской общины полагается освятить актом жертвоприношения, который зрителям и представлен в особой сцене. С целью усиления комического эффекта сакральная формула, произносимая в этой сцене жрецом, дана Аристофаном в прозаической форме, чем контрастно нарушается общая стихотворная форма пьесы. Тем убедительнее и смешнее звучат названия птиц в тексте привычной молитвенной формулы, заменяющей в ней имена богов: "Молитесь птичьей Гестии и коршуну Гестиуху, и всем олимпийским птицам, и лебедю Пифийскому и Делосскому" и т. д. (ст. 8.5 сл.). Подобного рода неожиданный переход речи от стихов к прозе в древнеаттической комедии вообще встречается, но она им пользуется очень скупо и лишь в особых случаях.
Прослышав о возникновении птичьего города, люди сейчас же делают попытку проникнуть в него, дабы в нем обосноваться. Раньше всех в Тучекукуевск спешат прибыть те, кто рассчитывает чем-нибудь поживиться на новом месте: неведомый никому поэт, обещающий воспеть новый город, математик, астроном и геометр (землемер) Метон, афинский правительственный чиновник, заведующий чем-то инспектор, и, наконец, последним приближается к Писфетеру продавец заранее заготовленных постановлений. Каждого Писфетер колотит и прогоняет. После второй парабазы птичий вестник радостно докладывает Писфетеру о том, что работы по возведению вокруг города стен необычайной ширины и прочности, наподобие вавилонских, уже закончены. Вскоре же определяются и отношения к Тучекукуевску мира богов и мира людей. Люди относятся к городу птиц восторженно, декретируют Писфетеру золотой венок за его мудрость и изобретательность, в Афинах немедленно входит в моду все, что связано так или иначе с птицами, многие стремятся вступить в число граждан Тучекукуевска. Опять появляется в орхестре вереница разнообразных, частью преступных типов, приходит какой-то "отцеубийца", за ним Кинесий, поэт дифирамбов, всем хорошо известный тогда в Афинах своими экстравагантностями, показным оригинальничанием и демонстративным нарушением религиозных обычаев, появляется в заключение и "сикофант". Никто из этих людей в Тучекукуевск, понятно, не принимается. Отношение богов иное: боги на Тучекукуевск сердятся и в то же время его боятся. О позиции богов Писфетер ставится заранее в известность прокрадывающимся к нему потихоньку от Зевса богоненавистником Прометеем, а потому, когда боги присылают к Писфетеру своих делегатов - Посейдона и Геракла от олимпийцев и от богов-варваров Трибалла, лопочущего на своем непонятном, негреческом языке, Писфетер уверенно и очень твердо предъявляет им два требования: вернуть, во-первых, птицам их былое господство над миром, во-вторых, уступить ему, Писфетеру, в жены находящуюся при Зевсе божественную девушку Басилею ("Власть" царя богов и людей). На условия Писфетера Геракл соглашается только ценой хорошей еды. Трибалл говорит на своем варварском языке неизвестно что. Посейдон противится и, только видя, что двое первых согласны на условия Писфетера, заявляет: "Вы двое заключайте договор, а я буду молчать".
Кончается комедия свадебным гимном, который исполняется хором птиц, весело провожающих счастливого жениха Писфетера и несказанной красоты невесту Басилею.
Таков сюжет этой, столь не похожей на остальные комедии Аристофана пьесы, интересной для историка литературы еще и тем, что она безусловно является одним из древнейших образчиков европейской литературной утопии.
5. "ЛИСИСТРАТА" И ЕЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
За те три года, которые отделяют постановку "Птиц" от представления в 411 г. "Лисистраты", поставленной опять-таки от имени все того же Каллистрата, Афины пережили измену Алнивиада, потерю важнейшей крепости на территории Аттики - Декелей, перешедшей в руки спартанцев, и пережили ужасы сицилийского поражения со всеми страшными для Афин последствиями этой катастрофы. Продолжалась невыносимо тяжелая война. Такова обстановка, предшествующая появлению "Лисистраты". Эта комедия завершает собою разработку тематики, начало которой мы впервые наблюдаем в "Ахарнянах". "Лисистрата" - последняя пацифистская комедия Аристофана, лишь по-новому оформляющая его старый, но по прежнему страстный протест против войны. Личная политическая инвектива в комедиях Аристофана слабеет, может быть, в связи с сокращением как раз в это время той широкой демократической свободы, какая характеризует Афины эпохи Перикла и ближайших к ней десятилетий. Одним из признаков наступившей реакции было усиление в Афинах деятельности олигархических элементов, в связи с чем и возникла тогда же в Афинах особая, олигархического характера, снабженная обширными полномочиями комиссия десяти "пробулов", в состав ближайших обязанностей которой входило предварительное рассмотрение всех вносимых в Совет и Народное собрание дел. Пробул выступает и в "Лисистрате", и нет никакого сомнения, что показ публике представителя этой важнейшей в то время и вряд ли у широкого гражданства особенно популярной чрезвычайной магистратуры сразу же сообщал пьесе Аристофана остроту злободневности. Интересно и очень показательно, что фигура Пробула получает у Аристофана характеристику отрицательную: положительному образу главной героини противостоит в пьесе именно он.
От обычного типа комедий Аристофана "Лисистрата" отличается той особенностью, что главным персонажем в ней является не мужчина, а молодая красивая женщина. Героиня пьесы носит имя, поясняющее зрителям основную функцию его носительницы: "Лисистрата" дословно значит "уничтожающая походы" (или войну). Афинянка Лисистрата борется с войной: армии, собранные для войны, она распускает. Однако, делая основным персонажем комедия женщину и окружая ее множеством еще и других женских фигур, вступающих в борьбу с мужчинами, Аристофан, разумеется вовсе еще не дает феминистской пьесы, так как вопросов женского равноправия и женской эмансипация он в ней вообще не ставит. Тема пьесы иная. Выступающие в этой комедия женщины изображены пассивно страдающими от войны, в противоположность активно страдающим мужчинам создающем войну. Но эти пассивные женщины становятся у Аристофана вдруг чрезвычайно активными, как только Лисистрате удается направить их на борьбу с мужчинами.
Ранним утром у подножия Акрополя по тайному приглашению Лисистраты собираются афинянки и женщины других греческих государств, находящихся в войне с Афинами, - беотиянки, обитательницы Пелопоннеса и женщины из других стран. Эти женщины изъясняются каждая на своем родном диалекте, но они без труда понимают друг друга, будучи внутренне спаяны между собою общностью одинаковых переживаний: все они, без различия национальностей, одинаково страдают от войны, которую ведут мужчины, и одинаково войну ненавидят. Поэтому Лисистрате в прологе пьесы сравнительно легко удается провести специфически женскую "забастовку": по инициативе энергичной и предприимчивой Лисистраты, все собранные ею женщины клятвенно обязывают друг друга отказывать в ласках своим мужьям до тех пор, пока те не прекратят войны. Главной фигурой этой вступительной сцены оказывается, кроме самой Лисистраты, молодая лаконянка, прямая а честная Лампито, со стороны которой план Лисистраты встречает самую горячую поддержку. Тему своей комедия Аристофан, таким образом, в значительной мере строил на почве отношений мужа и жены, а это естественно влекло за собой акцентирование образов сексуальной жизни. Было бы, впрочем, большой ошибкой считать эту комедию эротической: чувственность некоторых ее сцен окрашена не эротикой, а приметами того фаллизма, каким отличается то в большей то в меньшей степени весь вообще стиль древнеаттической комедии, постоянно сказывающийся как в сюжетных деталях фабулы, так и в заведомо непристойном лексиконе. Истинное содержание "Лисистраты" заключается не в "эротике", а в ее политическом задания. Основной смысл пьесы выявлен Аристофаном уже в прологе: сошедшиеся со всех концов Греции на зов Лисистраты женщины должны "сообща" спасти "всю" Элладу (ст. 41). Дело касается не только Афин, но и всей Греция: международный момент выдвинут здесь с такой же определенностью, с какой подчеркнут был он Аристофаном за десять лет до этого в "Мире". "Сообща спасти всю Элладу" - этот лозунг, в различных формулировках возвращающийся все вновь и вновь в "Лисистрате" (например, особенно ясно в ст. 525), апеллировал, разумеется, не столько к женской половине Греции, сколько к мужской, воюющей.
К концу пролога раздаются крики: это шумят за сценой старухи, хитростью овладевшие, по распоряжению Лисистраты, Акрополем. Начинается парод, в компоновке которого Аристофан использовал один из старинных приемов конструкции хоровой песни, а именно разделение хора на два взаимно враждующих полухория. Одно полухорие в "Лисистрате" женское: оно изображает старух, завладевших за сценой Акрополем и защищающих подступы к нему. Другое полухорие мужское: состоит оно из стариков, которым, за отсутствием молодых людей, находящихся на войне, доверена военная охрана города. Старики стремятся выгнать старух из Акрополя, старухи хотят сохранить твердыню за собой. Бурная, развернутая в форму забавной буффонады сцена комического сражения стариков со старухами обильно уснащена балаганными эффектами потасовок, выкуривания старух дымом и обливания стариков водой.
Появление важного должностного лица дает пьесе новое движение: сопровождаемый отрядом скифских стрелков, служивших в Афинах городской полицией, в орхестру входит "пробул", один из членов коллегии "десяти". Ограниченный и тупой человек, он совсем не отдает себе отчета в происходящем: он замечает лишь беспорядок и сейчас же приказавает стрелкам разогнать толпящихся женщин. Он очень болтлив и самоуверен, долго распространяется о женской распущенности и досадует на женское сборище, преграждающее ему дорогу в Акрополь, куда он идет по делу. Но Лисистрата становится во главе женщин и ловко отбивает атаку стрелков: доступ в Акрополь остается по прежнему запертым для пробула. Озадаченный, он полон недоумения, и Лисистрата начинает ему объяснять создавшееся положение; тем самым открывается сцена агона, образуемая диалогом пробула и Лисистраты. Говорит она, а он только подает реплики. Лисистрата объявляет пробулу, что она заняла Акрополь с целью уберечь от мужчин хранящуюся на Акрополе государственную казну, так как мужчинам деньги нужны только для того, чтобы тртить их на войну. В дальнейшем Лисистрата развивает широкую критику недостатков мужского государственного хозяйства, причем с большой горечью отмечает необоснованность презрительного отношения мужчин к женщинам в вопросах политики и войны. Кончается агон балаганной шуткой: одураченного пробула женщины закутывают с головой в плащ и принуждают покинуть в таком виде орхестру. Близкая агону тема представлена и парабазой, исполняемой попеременно полухориями стариков и старух, взаимно жалующихся друг на друга; а после парабазы Лисистрата принимается со всей строгостью проводить в жизнь объявленную ею забастовку, осуществление которой оказывается тяжелым не только для мужчин, но и для самих забастовщиц. Аристофан дает две параллельные сцены: в первой страдают жены, страстно стремящиеся к своим мужьям, но сдерживаемые авторитетом стойкой Лисистраты; во второй мучаются мужья, один из которых тщетно пробует уговорить свою молодую любящую жену пойти навстречу его усердным мольбам. Но вот приходит в Афины вестник из Спарты и сообщает все тому же, вновь появляющемуся к этому моменту в орхестре пробулу о точно такой же, как и в Афинах, забастовке лаконских женщин, которых сумела объединить лаконянка Лампито. Требование женщин повсюду одно и то же: прекратить войну. Упорство мужчин перед женской, не идущей ни на какие уступки настойчивостью, начинает слабеть, и вскоре мужчины сдаются: государства, находившиеся в войне, обмениваются посольствами. Лисистрата устраивает за сценой роскошный пир на Акрополе: вместе с афинянами участвуют на правах друзей в этом пире и лакедемоняне, получающие теперь обратно от Лисистраты своих жен, до того находившихся у нее на Акрополе в качестве заложниц. Лисистрата выстраивает афинян и лакедемонян парами, мужа с женой, и пьеса кончается веселыми танцами молодых пар под звуки песен я флейты.
6. "ЖЕНЩИНЫ НА ПРАЗДНИКЕ ФЕСМОФОРИЙ". "ЛЯГУШКИ". ОТНОШЕНИЕ АРИСТОФАНА К ЭВРИПИДУ И ПРИЕМЫ ЕГО ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКИ
В Леней того же 411 года Аристофан поставил еще одну "женскую" комедию, озаглавленную им "Женщины на празднике Фесмофорий", главным действующим лицом в которой является, впрочем, мужчина, свойственник Эврипида, старик Мнесилох. Пьеса протекает на фоне того женского праздника, который справлялся афинянками каждую осень в честь богини Деметры. Афинянки в эти дни сходились исключительно женским обществом на свои сакральные собрания, которые происходили в помещении так называемого Фесмофория, доступ в который мужчинам был строго воспрещен. Основная тема комедии частично та же, что и в "Лягушках" (см. ниже), т. е. по преимуществу литературная:
Аристофан насмехается над Эврипидом, пародируя разные сцены из его трагедии и изображая женщин обиженными на него за то, что он их показывает плохими. Благодаря этому комедия приобретает и социальный характер. В прологе Эврипид, разговаривающий с Мнесилохом, встревожен дошедшими до него слухами о решении женщин погубить его в течение ближайших же Фесмофорий. Вдвоем с Мнесилохом Эврипид идет к Агафону, трагическому поэту, оригинальные драмы которого, отступавшие от общепринятых форм, привлекали к себе в то время внимание многих афинян и служили предметом споров. В диалоге, который Эврипид ведет со своим родственником, вырисовывается зрителям характер того и другого: Эврипид, подобно Сократу в комедии "Облака", говорит туманными, загадочными намеками, а Мнесилох не понимает намеков или толкует слова Эврипида превратно, как не постигает и честный афинянин Стрепсиад хитрых речей софиста. К юному, нежному Агафону, который скорее похож на женщину, чем на мужчину, Эврипид идет с намерением попросить молодого товарища по искусству пробраться тайно, в женском костюме, на праздничное собрание женщин, чтобы там заступиться за него перед женщинами. Агафон просьбу Эврипида решительно отклоняет: идти в Фесмофорий для него еще рискованнее, чем для Эврипида, так как он молод, и поэтому могут легко подумать, что на женский праздник он проник как конкурент женщин. Эврипид приходит в отчаяние, но прямодушный старик Мнесилох, возмущенный трусостью Агафона, берется сам за опасное предприятие. Бритвой Агафона Эврипид сбривает Мнесилоху бороду и переодевает его в женское платье. Мнесилох, в дальнейшем основной персонаж, спешит под видом старухи-афинянки на собрание, сигнал к началу которого тем временем уже поднят в орхестре. По этому сигналу участницы праздника, образующие хор пьесы, начинают понемногу сходиться, появлением своим открывая парод. Одна из женщин, изображающая глашатая, произносит прозой обращение к собирающимся, пародируя текст той сакраментальной формулы, какая, по всей вероятности, произносилась и в жизни перед началом праздника. Первым в повестке дня стоит вопрос об Эврипиде: "Какое именно наказание должен Эврипид понести, так как всем ясно, что он преступник" (ст. 377). "Кто желает получать слово?" - спрашивает женщина-глашатай (ст. 379). Сцена агона отливается, таким образом, в форму прений, темой которых служит вопрос: прав или неправ Эврипид в изображении женских страстей и пороков? В длинной обвинительной речи одна из присутствующих указывает на те тяжелые последствия, какие влечет за собой для женщин творчество Эврипида: мужья перестали доверять своим женам; вот самый страшный и, вместе с тем, самый унизительный для женщин результат деятельности Эврипида. Всякий раз, возвращаясь из театра домой после каждой новой трагедии Эврипида, мужья подозрительно озираются, ища, не спрятан ли где-нибудь у жены любовник. Эврипид, опорочив женщин, вконец испортил им их домашнюю жизнь. Необходимо поэтому либо отравить, либо иным каким-нибудь средством погубить Эврипида. Произносящий эту речь оратор принадлежат к достаточным слоям афинского общества. Совсем из другой среды происходит выступающая вслед за первой женщина, живущая трудом собственных рук. Ее муж погиб на войне, у нее на руках осталось пятеро малых ребят; раньше, хоть и впроголодь, ей все же кое-как удавалось прокармливать их: она работала на цветочном рынке, где изготовляла венки. Теперь же Эврипид своими трагедиями уверил мужчин, что богов не существует, и спрос на венки для праздников и жертвенных пиршеств значительно сократился; она почти вовсе лишилась заработка. Третьим слово берет Мнесилох, возражающий обвинительницам Эврипида. Притворяясь женщиной, он уверяет собрание, что не меньше других ненавидит Эврипида, но только стоит ли, спрашивает он, так сильно негодовать на этого человека за то, что из бесчисленного множества всевозможных женских пороков он указал всего лишь два или три женских недостатка? Ведь женщины, говорит Мнесилох, в действительности гораздо хуже, чем их изображает Эврипид. И в подтверждение своей мысли Мнесилох забрасывает собрание скандальными, частью просто смешными, частью же и непристойными историями женских измен. Речь Мнесилоха возбуждает всеобщее негодование; разыгрывается бурная сцена заканчивающаяся появлением Клисфена, молодого афинского гражданина, который сочувствует женщинам и из любви к ним доносит им, что в их среду тайно проник с злым умыслом мужчина, родственник Эврипида, Подозрение, естественно, падает на Мнесилоха, сперва безуспешно пробующего продолжать обман, но, в конце концов, под напором угроз вынужденною сдаться и предоставить осмотреть себя, в результате чего и обнаруживается его мужской пол. Сцена завершается буффонадой: ища спасения, Мнесилох выхватывает у одной из женщин ее ребенка, завернутого с головой в одеяльце и обутого в красивые персидские туфельки, и угрожает убить его, если ему не дадут дороги. Но когда, собираясь осуществить свой жестокий замысел, Мнесилох грубо сдергивает с ребеночка одеяльце, под последним оказывается не младенец, а заманчивый бурдючок, наполненный красным вином.
Кончается первая часть комедии тем, что Мнесилох бросается к алтарю, под защитой которого он пишет Эврипиду письмо, взывая о помощи. Подобно одному из действующих лиц в трагедии Эврипида "Паламед", посылающему посредством надписи, делаемой на веслах корабля, печальную весть о смерти героя, и Мнесилох, за неимением другого, более подходящего писчего материала, выцарапывает свое послание на старых, тут же подобранных им посвятительных дощечках святилища.
После парабазы, в которой актер шутливо спрашивает публику (ст. 789 сл.), почему же мужчины, - если жечщины, по их утверждению, зло, - берегут это зло так ревниво, начинается вторая часть пьесы, занимающаяся пародированием патетических сцен из разнообразных трагедий Эврипида.
Письмо Мнесилоха Эврипидом получено, и Эврипид стремится спасти своего злополучного родственника. Но, будучи верен стилю своей поэзии, он прибегает к тем, драматически весьма эффектным, но практически совсем непригодным средствам, какие в аналогичных случаях применялись героями его замысловатых трагедий. Комическая ситуация, в условия которой поставлен к этому времени Мнесилох, мотивирует пародию на "Елену", именно на ту ее сцену, где после долгой разлуки муж и жена неожиданно встречают друг друга и где к Елене, красавице, сидящей у могилы Протея, совсем так, как сидит у алтаря и Мнесилох, безбородый смешной старик в женском платье, приближается Менелай. Роль последнего берет на себя Эврипид, а Мнесилох пародийно ведет партию Елены. Неожиданно появляющийся в орхестре в сопровождении скифского стрелка притан, один из дежурных членов совета, заставляет Эврипида быстро удалиться, и сценическое расположение фигур перестраивается: по приказу притана Мнесилох посажен в колодки, и стрелок приставлен караулить его. Напрасно Мнесилох пробует смягчить полицейского - потешно коверкающий греческую речь скиф остается неумолим. Но изменившаяся ситуация дает повод для новой литературной пародии: Мнесилох в колодках уподобляется прикованной к скале Андромеде. Искажая текст трагического оригинала, он поет мелодичную арию из трагедии "Андромеда", Эврипид же перекликается с ним, исполняя партию богини Эхо, а затем появляется в виде освободителя Андромеды, Персея. Неумолимый скифский стрелок вскоре, однако же, прогоняет Эврипида. В этих трех, сменяющих одна другую сценах особенно хорошо выражен столь любимый Аристофаном прием снижения стиля: возвышенные образы трагедий Эврипида и прелестные мелодии его трагических арий, которыми Эврипид так славился, вступают в контрастное сочетание с комическим искажением текста и с комической игрой актеров, сохраняя, однако, в неприкосновенности всю красоту и силу своей абсолютной художественности.
Но вот входит в орхестру танцор, играющий роль молодой красивой гетеры, появление которой заставляет зрителя почувствовать приближение эксода. Позади гетеры идет флейтист, а перед нею шествует Эврипид, изображающий собою старуху сомнительной профессии. Обращаясь к женщинам хора, он предлагает им заключить с ним мир, обещая не бранить их больше в своих трагедиях, если только они позволят ему теперь спасти Мнесилоха. Женщины соглашаются, и хитрому Эврипиду легко удается одурачить скифа: стрелок прельщается красотой гетеры, которая, под звуки флейты, танцует перед ним. В порыве страсти варвар забывает об арестованном, которого ему поручено сторожить, а Эврипид пользуется этой удобной минутой, чтобы снять с Мнесилоха колодки и вместе с ним бежать. За ними вдогонку, бросая ругательства и проклятия и чудовищно коверкая греческие слова, со всех ног пускается опомнившийся, наконец, стрелок, а позади всех уходит за сцену и хор, распевающий веселую песнь.
Пародия на трагедию, и в частности на Эврипида, встречается постоянно в комедиях Аристофана, но в большинстве случаев она сводится к веселой шутке. Серьезная критика задач трагической драмы дана была Аристофаном позже, в "Лягушках" (405 г.). Незадолго до того, в 406 г. умерли оба великих трагика - уехавший в Македонию Эврипид, а вскоре затем и Софокл в Афинах, и эта смерть двух гигантов греческого театра и послужила Аристофану внешним ближайшим толчком к созданию комедии "Лягушки". Основной мотив ее фабулы - спуск Диониса в подземное царство - не оригинален: мотив нисхождения в преисподнюю встречаем мы, например, и в "Рудокопах" у Ферекрата, и у Эвполида в "Демах". Нова и оригинальна тема литературной критики, отлитая Аристофаном в обширную, занимающую всю вторую половину пьесы сцену агона, построенную им в виде спора двух выдающихся трагиков старого и нового направлений - Эсхила и Эврипида. Первая половина пьесы дает травестию привычных мифологических образов: карикатурный показ изнеженного бога Диониса, вышучиванье мрачной фигуры загробного лодочника Харона и комедийное сопоставление робкого Диониса, лишь загримированного Гераклом, и Геракла подлинного, сильною и веселого, любимого народным фарсом. Пролог распадается на ряд балагурных, но гениальных по замыслу и художественной мощи сцен. Подобно Орфею, некогда спустившемуся в селения мервых, чтобы уговорить Плутона вернуть ему его Эвридику, которую Орфей так горячо любил, решается и бог театрального мастерства Дионис мужественно спуститься в жуткое царство Плутона, чтобы попытаться вывести обратно на свет похищенного смертью трагика Эврипида, в творчество которого Дионис беззаветно влюблен. Таков основной сюжет прологической части пьесы. Образ Диониса, главного ее героя, являет в ней искусное сочетание травестийных и бытовых черт, и картина путешествия бога в загробный мир обставлена Аристофаном мелкими жизненными подробностями. В реальном быту тогдашних Афин богатый и важный афинянин выезжал в путешествие обычно верхом на лошади или осле, с навьюченной на седло дорожной поклажей. Он ехал шагом, в сопровождении шедшего пешком рядом с ним раба. Совершенно так же отправляется с рабом и поклажей в свой далекий фантастический путь и Дионис: только - в целях комизма - на этот раз сидит на осле не хозяин, а раб Ксанфий, и багаж своего господина держит Ксанфий не на седле, а на перекинутой через плечо палке. Дионис нарядился Гераклом: поверх своего долгополого хитона из тонкой материн шафранового цвета он набросил львиную шкуру и взял в руку тяжелую дубину. Согласно мифу, который известен был каждому греку, Геракл однажды сам спустился в обитель Аида и вывел оттуда Кербера, адского пса. Трусливый Дионис надеется, что своим костюмом Геракла он внушит к себе на том свете страх. Но на самом деле Дионис только смешон, и выходящий из своего дома на стук в дверь настоящий Геракл разражается при виде своего комического подобия безудержным, громким смехом. Сыплются безобидные шутки: так, на просьбу Диониса указать ему кратчайшую дорогу в Аид Геракл отвечает советом пойти в рабочее предместье Афин Керамик и, поднявшись там на высокую башню, броситься с ее высоты вниз головой на землю. Простые невинные шутки и острые непристойности чередуются с остроумными политическими намеками и тонкими насмешками над живыми лицами текущего общественного дня. Богато представлен и быт. Исключительно, например, фантастичен по замыслу, но ярко реалистичен по жизненным, бытовым тонам изумительный эпизод с покойником (ст. 170 сл.). Ксанфий жалуется хозяину на свою усталость, отказывается тащить тяжелый багаж, и Дионис согласен нанять носильщика. Где только его найти? Но вот случайно навстречу Ксанфию и Дионису двигается похоронная процессия: в орхестру вступает погребальный кортеж. Дионис останавливает идущих и спрашивает мертвеца, не согласится ли тот нести вещи. "Две драхмы", - объявляет свою цену покойник. "Девять оболов", - пробует предложить Дионис, и между ним и покойником завязывается настоящий рыночный торг. " И не разговаривай, две драхмы! - твердит покойник. - Лучше воскреснуть мне!" Сделка расстраивается, покойник опять укладывается на свое погребальное ложе, а Ксанфий вновь взваливает на себя багаж.
Дионис с Ксанфнем уже подошли к Ахеронту: театральная машина ввозит в орхестру утлую лодку Харона, но Харон не хочет перевозить раба и предлагает ему обойти озеро пешком, а хозяина сажает на весла. Протесты несчастного бога, никогда никаким физическим трудом не занимавшегося, оставлены без внимания суровым Хароном, и Дионис, сейчас же натирая себе на руках мозоли, принимается, - плохо ли, хорошо ли, - грести под звуки раздающейся за сценой хоровой песни лягушек Ахеронтского озера (ст. 209 сл.). Насмешливые голоса лягушек раздражают бога, и он силится их перекричать. Этот своеобразный, оригинально построенный Аристофаном дуэт Диониса и скрытого за сценой хора лягушек, от которого и сама пьеса получила свое название, местами перерывается знаменитым, подражающим лягушечьему кваканью припевом "брекекекекс-коакс-коакс".
Следует заключительная часть пролога, в которой шутки приобретают все более и более балаганный характер.
Дионис высаживается из лодки и расплачивается с Хароном за переезд, а подбежавший на его зов Ксанфий начинает пугать Диониса рассказами о тех страшных призраках, с какими он, обходя подземное озеро, будто бы встретился. Ксанфий уверяет, что и сейчас где-то поблизости стоит одно из таких чудовищ. Пугливый Дионис, хотя ничего и не видит сам, дрожит от страха. Когда же Ксанфий упоминает Эмпусу, женского демона (вроде русской "бабы-яги" или "буки"), которым матери и няньки в Афинах имели обыкновение пугать маленьких детей, то охваченный диким ужасом бог взывает о помощи к своему жрецу, сидевшему в театре на самом почетном и самом видном месте первого ряда кресел.
За сценой слышится пение священного гимна; начинается парод. Подражая тексту сакральной формулы, открывавшей в Афинах празднование элевсинских мистерий, торжественно вступает в орхестру хор, изображающий загробное шествие мистов. Дионис и Ксанфий подходят к воротам дворца Плутона. Мастерски использовал здесь Аристофан мотив повторных переодеваний, один из старинных сценических приемов народного фарса. Дионис стучится в дворцовую дверь, и появляющийся наконец привратник при вице палицы и львиной шкуры принимает Диониса за Геракла. Осыпая бога ругательствами и угрожая ему арестом за кражу Кербера, привратник скрывается опять за дверью: он собирается вызвать стражу, которая должна задержать преступника. Дионис быстро обменивается тогда одеждой с Ксанфием, Но очень скоро вновь происходит обмен костюмами, после того как Персефона через свою служанку зовет Геракла обедать, а появление озлобленных на Геракла шинкарок подземного царства, которым Геракл, изрядно закусив в свое время в их гостеприимном кабачке, не заплатил за еду ни одного обола, заставляет Диониса снова поменяться одеждой с Ксанфием. В заключительной комической сцене этой первой части комедии, возвращающийся в сопровождении стражи привратник совсем сбит с толку Ксанфием и Дионисом: понять, кто из них, в конце концов, раб и кто Дионис, он окончательно не в состоянии и ведет их обоих к Плутону и Персефоне. Этим уходом актеров за сцену Аристофан подготовляет парабазу. Для истории Афин конца V века последняя представляет большой интерес. Это было время величайшего напряжения сил Афинского государства, когда Афины ради спасения своей политической независимости вынуждены были в 406 г. мобилизовать даже рабов, дав им вместе с оружием и свободу. Кровавая морская битва при Аргинусах, ужасный, в обстановке политической бури, судебный процесс над стратегами, казни иных, массовое изгнание или добровольное бегство других и потеря множеством лиц принадлежавших им прав афинского гражданства - вот те внешние и внутренние глубоко драматические события, которые только что пережиты были Афинами. Насыщенная политическим содержанием парабаза выдвигает требование всеобщей амнистии. "Священный хор обязан дать гражданству полезный совет", - такими словами начинается первая эпиррема (ст. 686): необходимо вернуть гражданам отнятые у них гражданские права, надо вновь, "уравнять граждан", - вот то, что, по мнению Аристофана, надлежит сделать прежде всего. В уверенной четкости этого пожелания мы, несомненно, имеем отзвук того настроения жгучего протеста против, насилия и произвола власти, какое охватило широчайшие круги афинского· общества в ответ на тяжелое положение, созданное в Афинах в 406 г. Клеофонтом и его партией.
Диалог Ксанфия и привратника служит вступлением ко второй части пьесы: зритель узнает о готовящемся состязании Эсхила и Эврипида, оспаривающих друг у друга право на обладание креслом первого трагика в подземном царстве. До сих пор это кресло принадлежало Эсхилу, теперь же на него притязает недавно скончавшийся Эврипид. У последнего уже образовалась среди покойников своя партия: Эврипида поддерживают (ст. 771 сл.) и мелкие жулики царства мертвых, "срезыватели кошельков", и преступники покрупнее - грабители, отцеубийцы. Всем им нравятся его удивительные уловки, передержки и противоречия: Эврипид у Аристофана, до известной степени, обрисован условными чертами "обманщика", новому, но вредному искусству которого противостоит здоровое, хотя и наивное, старинное мастерство Эсхила. Плутон рад приходу Диониса, которого он сейчас же и делает судьей спора, обоих великих трагиков: начинается главная часть всей пьесы, агон Эсхила и Эврипида. Сперва нападающей стороной оказывается Эврипид, обвиняющий Эсхила в умышленном растягивании своих трагедий и в сознательном стремлении запугивать публику нарочно придуманными страшными словами, бессодержательными по существу, но звучными и тревожными в их нелепой загадочности: слово "конепетух" ("гиппалектрион"), особенно грозно прозвучавшее однажды в трагедии Эсхила, заставило Эврипида промучаться целую ночь бессонницей (ст. 931 сл.). Затем роли, меняются, и нападать начинает Эсхил: в противоположность Эврипиду, он направляет удар не на внешнюю форму, а на внутреннее содержание драм, обвиняя Эврипида в безнравственности сюжетов. Преступление Эврипида состоит в том, что он выводил в своих пьесах влюбленных и изменяющих мужьям женщин и учил молодых людей зря болтать, а не заниматься делом. В дальнейшем, однако, внимание спорящих обращается на технику речи. И здесь опять-таки первым нападает представитель новой, нарождающейся словесной техники и софистического мастерства рассуждения - Эврипид, упрекающий Эсхила в сбивчивости языка и неумении точно и "ясно" высказывать свои мысли. Потом нападение переходит к Эсхилу, который, очень ловко подчеркивая общую тенденцию Эврипида - вводить в трагедию выражения, принадлежащие обиходной речи, и его пристрастие к уменьшительным ("шкурка", "флакончик", "мешочек"), блестяще показывает, как любой из его, Эврипида, стихов можно без труда загубить "лекифчиком". От вопросов фактуры стиха Аристофан переходит к музыкальным задачам хоровых и сольных песен трагедии: сперва он вкладывает в уста Эврипида пародию на Эсхила, а потом Эсхил пародирует арии Эврипида. Завершается спор блистательным шаржем: в орхестру вносят весы, и Дионис предлагает обоим трагикам бросить на чаши весов стихи из трагического репертуара каждого. Дионис желает видеть, чья чашка весов перетянет. Результат, конечно, ясен заранее: легкие стихи Эврипида взлетают наверх, тежеловесные речения Эсхила тянут чашу весов книзу. Спор окончен. Что скажет теперь судья? Дионис пришел в подземное царство ради Эврипида, Эврипиду принадлежали его симпатии и в начале спора. Но по мере того как двигался этот спор вперед, отношение Диониса к Эврипиду постепенно менялось, а к концу агона Дионис уже вполне ясно осознает свое заблуждение и безжалостно нарушает клятву, которую он дал Эврипиду, обещая ему вывести его из преисподней; бросая Эврипиду в лицо его же собственный стих из "Ипполита": "Поклялся лишь язык, а ум не связан клятвой", он признаёт победителем в состязания не его, а Эсхила, которого и уводит с собой в Афины.
В эксоде пьесы, обращая к Эсхилу слова напутствия, Плутон поручает ему "охранить" Афины "добрыми мыслями" и перевоспитать безумцев, "каких в Афинах достаточно" (ст. 1501). А Эсхил, с своей стороны, просит Плутона передать на время его отсутствия престол первого трагика в подземном царстве Софоклу, которого он считает после себя "по искусству вторым" (ст. 15l9).
"Лягушки" служат для нас образчиком древнейшей литературной критики. Они вводят нас в проблематику тех теоретических и практических требований, какие к концу V века до н. э. предъявлялись некоторыми кругами афинского общества к драматическому искусству, и знаменуют собой некую большую веху, предваряющую позднейшее философское здание "Поэтики" Аристотеля. Не опасаясь наскучить публике, Аристофан подробно обсуждает вопросы формы, входя в рассмотрение иногда очень мелких технических деталей, а театр следит внимательно и с интересом за развертывающимся перед ним литературным спором, к которому он, по видимому, в какой-то степени уже подготовлен. Решающий момент, впрочем, лежит не в технике, а в содержании пьесы. Вопрос о цели трагического искусства ясно поставлен и освещен Аристофаном в вопросе Эсхила и в ответе на него Эврипида (ст. 1008 сл.). Эсхил спрашивает: "За что же следует уважать поэта?" И Эврипид отвечает: уважать поэтов надо "за то, что мы [поэты] улучшаем людей в государствах". Цель искусства, - иначе говоря, моральная: поэзия преследует высокие общественное задачи: она должна воспитывать гражданство. Поэт, развращающий человечество, заслуживает, - заявляет Дионис, - смерти (ст. 1012). Здоровым и ценным он признает поэтому величественное искусство Эсхила, дающее примеры гражданской доблести, искусство же Эврипида, изображающее слепые страсти, осуждаетет как общественно вредное.
Комедия "Лягушки" имела громадный успех. Пьеса заинтересовала зрителей своей новой тематикой. Очень понравилась публике и парабаза, так решительно и смело требовавшая амнистии политическим изгнанникам. Аристофан получил первый приз и удостоился, кроме того, особо высокой и редкой награды: в виде исключения, постановлено было повторить представление, и автор увенчан был веткой священной маслины.
7. "ЖЕНЩИНЫ В НАРОДНОМ СОБРАНИИ" И "ПЛУТОС"
Две последние комедии Аристофана из числа дошедших до нас "Экклесиазусы", т. е. "Женщины в народном собрания", или, иначе, "Законодательницы", и "Плутос" ("Богатство"), - обе принадлежат началу IV века; первая поставлена была в театре, по видимому, в 389 г.
Пелопоннесская война окончилась в 401 г., и в обедневших после нее и в связи с ней Афинах выступали теперь с исключительной резкостью экономические противоречия. Старая хозяйственная система оказывалась непригодной, и сознание ее непригодности приводило античную мысль к теоретическим попыткам утопического переустройства общества на основе полного экономического равенства. Комедия "Женщины в народном собрании" и является отзвуком подобного рода утопий. Однако, затрагивая проблему социально-экономическую, она занимается одновременно и женским вопросом, оказываясь, таким образом, для нас третьей по счету, после "Лисистраты" и "Женщин на празднике Фесмофорий", "женской" комедией Аристофана.
В качестве главной фигуры Аристофан вывел в этой пьесе энергичную, вымышленную им женщину - афинянку Праксагору.
В прологе комедии зрители присутствуют при заговоре женщин против мужчин: руководимые Праксагорой афинянки крадут ночью у своих мужей их одежду и, сменив свое женское платье на мужское и подвязав себе фальшивые бороды, отправляются на Пникс проводить ранним утром обманно организуемое Праксагорой народное собрание.
После ухода женщин за сцену выходит из своего дома в орхестру одетый в платье жены и ничего еще не подозревающий муж Праксагоры Блепир: ночью у него схватило живот, и он спешно выбежал на улицу для отправления естественной надобности. Громко жалуется он подошедшему к нему соседу на загадочное исчезновение своего костюма, а появление нового персонажа - другого афинского гражданина, Хремета, возвращающегося домой из народного собрания, которое только что кончилось, определяет дальнейшую тему комедии. Хремет сообщает Блепиру о том, как был выдвинут пританами на собрании важный вопрос о мерах, необходимых для спасения Афинского государства, и как вслед за тем начались оживленные прения, закончившиеся выступлением молодого красивого незнакомца, предложившего поручить управление государством женщинам. Предложение оратора было горячо поддержано большинством собравшихся и, в результате, был действительно издан декрет о передаче власти из рук мужчин в руки женщин.
Блепир и Хремет расходятся по своим домам, покидая орхестру, после чего начинается парод: хор пьесы, изображающий женщин-заговорщиц, которые пока все еще сохраняют мужские одежды, возвращается из народного собрания. Войдя в орхестру, женщины спешат переодеться. Уходит в дом к себе и Праксагора и обратно возвращается в орхестру к хору, уже переодевшись в женскую одежду. Вслед за Праксагорой выходят в орхестру и Блепир. Происходящий затем диалог мужа с женой образует сцену агона, темой которого является переустройство общества. Блепир задает жене недоуменные вопросы, а Праксагора, твердо убежденная в правоте затеянного ею дела, развертывает перед мужем картину намечаемых ею смелых и широких реформ, причем основным положением, которое она уже в самом начале спора настойчиво выдвигает, служит требование обязательного обобществления всей частной собственности. По мнению Праксагоры (ст. 590 сл.), несправедливо, чтобы один был богат, а другой несчастен, и у одного было бы обрабатываемой земли очень много, тогда как другому земля нехватало бы и на могилу, и чтобы один мог располагать многочисленными рабами, а у другого не было бы ни одного слуги: "Нет, я создам, - говорит Праксагора, - единые, общие и для всех одинаковые средства к жизни" (ст. 594). Она собирается обобществить всю землю, все деньги и всякое иное частное имущество граждан: на эти-то общие средства "мы [женщины], - так заявляет она своему мужу, -и будем отныне содержать вас [мужчин], бережливо и расчетливо управляя хозяйством" (ст. 599 сл.). В эту "хозяйственную" программу Аристофаном с большим искусством введен мотив чувственный, в дальнейшем получающий в пьесе богатое комическое развитие. Праксагора, в связи с задачами проводимого ею всеобщего равенства, преследует еще и свои, специфически женские интересы. Дело в том, что, согласно ее проекту, в обстановке намечаемого ею нового строя жизни должны быть обобществлены и женщины, но, дабы обеспечить радости любви всем женщинам без исключения, а не только одним молодым и красивым, Праксагора, хорошо зная, что мужчинам нравятся лишь юные и благообразные, обязывает мужчин любить женщин в порядке очереди и переходить к молодым только после того, как они удовлетворят запросы более пожилых женщин.
Праксагора и Блепир уходят оба за сцену, и, после песенного выступления хора, в комедии изображается начало осуществления нового порядка вещей; показан добросовестный гражданин, в сознании важности творимого им перед государством акта, старательно, вещь за вещью, выносящий из своего жилища в орхестру всю свою домашнюю утварь, которую должны у него теперь реквизировать. Он бережно складывает ее, а вступающий с ним в диалог другой гражданин, относящийся скептически к затее Праксагоры, отпускает по адресу соседа иронические замечания.
Вслед за новой хоровой песнью дается полная живого комизма сцена, выявляющая последствия проведенного Праксагорой закона об одинаковом праве, как молодых, так и пожилых женщин на пользование радостями любви. В открытом окне одного из двух соседних домов видна престарелая, но принарядившаяся женщина, а рядом, в окне другого дома, появляется красивая молодая девушка, к которой направляется влюбленный в нее молодой человек; оба они стремятся друг к другу и поют мелодичный дуэт, но в тот момент, когда юноша готов уже войти к красавице в дом, дорогу к ней ему вдруг преграждает престарелая соседка, надеющаяся зазвать юношу к себе. Раздосадованный юноша сопротивляется ласкам старухи, но, ссылаясь на постановление народного собрания, женщина не отстает от него, пока не вырастает перед ней другая, более сильная претендентка в лице еще более старой женщины, которой, согласно закону, должно быть, в силу ее преклонного возраста, оказано предпочтение. Обе старухи хватаются за юношу и тащат его каждая в свою сторону, когда приближается к ним еще более уродливая и уже совсем дряхлая, но не менее пылкая третья старуха, которая, как самая старшая, имеет предпочтительное право на первый поцелуй юноши. Старухи уводят молодого человека с собой за сцену, после чего хор опять исполняет песнь.
Заканчивается пьеса пиршественным мотивом: в орхестру вбегает веселая служанка-рабыня, по поручению своей хозяйки разыскивающая мужа последней, запоздавшего на гигантский, рассчитанный более чем на тридцать тысяч столующихся, первый общественный даровой обед, отныне, как правило, вводимый в Афинах в отмену всех частных, семейных обедов. Разыскиваемый гражданин оказывается тут же и, счастливый, в предвкушении изобильных и вкусных блюд, спешит в сопровождении радостно поющего и лихо приплясывающего женского хора на богатый пир.
Часто высказывалось предположение о внутренней тематической связи этой комедия Аристофана с несколько позже вышедшим в свет "Государством" Платона, которое в основных своих положениях, несомненно, могло так или иначе стать известным Аристофану еще до окончательного своего завершения. В настоящее время, однако, такого рода предположения многими, и, думается, вполне справедливо, оспариваются. Действительно, в пьесе Аристофана не содержится ничего такого, что указывало бы на прямое заимствование, и она ни в чем не обнаруживает сатиры специально на философское учение. Основное содержание "Законодательниц" образуется не отвлеченной, а совершенно жизненной темой экономического неравенства, мучительно и вполне реально ощущавшегося тогда афинским обществом. Мечты об искусственном создании имущественного равенства, так сказать, носились в то время в воздухе, и Аристофан ответил на них своей комедийной утопией. Социальная утопия, как особая форма сюжета, была вообще любима древней комедией. А передача государственной власти женщинам должна была действительно представляться античному, мужскому по преимуществу, обществу величайшей утопией, которая служила здесь особо эффектным комическим оформлением затрагиваемой Аристофаном серьезной экономической проблемы. Такой же утопией, без сомнения, казался театру и проект обобществления частной собственности: достаточно вспомнить, что Праксагора в новом своем государстве сохраняет неизбежный для античного рабовладельческого общества рабский труд. "А кто же будет обрабатывать землю?" - спрашивает Блепир жену и получает ответ: "Рабы" (ст. 651).
Со стороны структуры эта поздняя, принадлежащая началу IV века, комедия во многом уже отступает от прежнего типа. В ней почти вовсе отсутствует личная политическая инвектива и значительно сокращена роль хора. Нет в ней и парабазы. Текст хоровых партий написан только для парода и эксода, остальные же выступления хора: одно после сцены агона, другое - после сцены обобществления домашней утвари и третье, происходящее вслед за комическим эпизодом, показывающим юношу и влюбленных в него старух, -оставлены Аристофаном без текста: в этих трех местах пьесы Аристофан ограничился лишь пометкой "хор". Совершенно не связанный здесь с ходом пьесы хор комедии, исполнявший безразличный со стороны содержания некий музыкальный номер, уже приближался тут по своей сценической функции к тем музыкальным интермедиям, какие наблюдаются нами потом в практике "новой" комедии, а в трагедии, вероятно, находят себе близкую аналогию в упоминаемых Аристотелем ("Поэтика", гл. 18) "эмболимах" Агафона.
Вопросы бедности и богатства занимают Аристофана и в самой последней из числа дошедших до нас от него комедий, в "Плутосе", или "Богатстве", по времени очень близкой к "Законодательницам": "Плутос" поставлен был в 388 г. Основным персонажем этой комедии является бедный аттический земледелец Хремил, всю свою жизнь честно трудившийся и настойчиво, но безуспешно боровшийся с бедностью. Под старость он решается, наконец, обратиться к Дельфийскому оракулу Аполлона и просить у него совета относительно своего молодого сына: Хремил не знает, следует ли предоставить сыну прожить такую же трудовую тяжелую жизнь, сопряженную с безотрадной бедностью, в какой прожил и он сам, Хремил, или же попытаться изменить добрый нрав сына и, сделав из него негодяя и человека бесчестного, тем самым содействовать материальному улучшению его жизни. Ответ дельфийского бога, как всегда, загадочен: Аполлон предписывает Хремилу неотступно следовать по пятам за тем, кого первым встретит он по выходе из святилища. В прологе пьесы Хремил и выполняет предписание бога: сопровождаемый своим рабом Карионом, он идет за первым попавшимся ему на глаза, неизвестным ему человеком, который оказывается слепым и двигается поэтому вперед по дороге очень медленно, неуверенно, спотыкаясь. Хремил решается заговорить с незнакомцем и, к неописуемому своему и Кариона изумлению, вдруг узнает, что этот загадочный слепец не кто иной, как сам бог богатства - Плутос. В свое время и Плутос был зрячим, но однажды, будучи еще мальчиком, он как-то пригрозил Зевсу, что будет ходить только к справедливым, разумным и порядочным людям, и Зевс ослепил его "из зависти к людям" (ст. 87).
Хремил и Карион потрясены встречей с богом богатства. Они понимают теперь, почему в мире так много богачей среди негодяев: Плутос не видит тех, к кому он заходит. Хремил страстно желает избавить Плутоса от слепоты и с этой целью собирается отвести его в афинское святилище бога Асклепия, божественного врача, совершающего чудесные исцеления. Плутос боится, как бы Зевс не покарал его еще строже, если он самовольно прозреет но Хремил с Карионом спешат успокоить слепого бога, объясняя ему, что он - самое могущественное существо на свете и что если он только прозреет и начнет сам распоряжаться собою, то тогда и Зевсу перестанут молиться, так как сейчас люди обращаются к Зевсу с единственной просьбой - дать им возможность разбогатеть. Полный надежд Плутос отдает себя в руки Хремила, который и приводит бога богатства к себе в дом; иначе говоря, Хремил богатеет. Остающийся в орхестре Карион громко кличет соседей; этим подготовляется парод. На зов Кариона сходятся трудолюбивые земледельцы, такие же, как и сам Хремил, деревенские старики, и Карион торжественно объявляет им. что Хремил привел к ним в деревню Богатство.
Товарищ и односельчанин Хремила Блепсидем, пришедший проведать друга, радуется его счастью и проявляет готовность помочь ему в его добром начинании - содействовать прозрению бога; но в тот момент, когда оба приятеля уже собираются проводить Плутоса в святыню Асклепия, неожиданно появляется в орхестре аллегорическая фигура. Хремил с Блепсидемом видят перед собой раздраженную женщину: это старая их подруга, давно с ними сроднившаяся, та самая Бедность, с которой они уже столько лет неразлучно жили и которую теперь они хотят отогнать от себя. Бедность чувствует себя глубоко обиженной таким отношением к ней и вступает с Хремилом в жестокий спор на тему о сравнительной ценности бедности и богатства: это - сцена агона. Нападает Бедность; поддерживаемый Блепсидемом Хремил старается защищаться. Тезис Хремила прост: богатыми должны быть честные. Именно к ним, к хорошим людям, а не к дурным, должно приходить богатство. Это наивное требование изголодавшихся честных тружеников, Хремила и Блепсидема, Бедность оставляет без возражения, но в противовес ему выдвигает другой, софистический по форме тезис о той исключительной ценности, какую именно бедность представляет для культуры всего человечества. Бедность предостерегает своих противников от задуманного ими неосторожного шага и говорит, что если она, Бедность, будет угнана из человеческой жизни, то окажется обесцененным и само богатство: когда все станут богаты, тогда исчезнет у людей жизненный импульс к труду, приостановится земледелие, прекратятся ремесла, исчезнет всякое вообще мастерство, замрет и умственная работа. Хремил пробует возразить: "будут трудиться рабы" (ст. 518), но Бедность замечает, что раз все будут богачами, то никто не захочет, ради ненужной никому добычи денег, которых у всех и без того будет избыток, заниматься нелегким, а подчас и очень опасным делом раздобывання рабов. Итак, все жизненные материальные блага, какими пользуются сейчас люди, доставляются не богатством, а Бедностью. Бедность несет с собою не только материальные, но и нравственные блага: в богатстве люди жиреют, начинают страдать подагрой и другими болезнями роскоши, а бедность подтягивает людей, дает им энергию и здоровье. Таким образом, бедность имеет, помимо всего, огромное воспитательное значение: "она делает людей лучшими" (ст. 558). И если от бедности и бегут, то потому, что она строга, бегут по неразумению, как убегают малые дети от любящего и желающего им добра, но строгого и требовательного отца (ст. 577). Возмущенные Хремил с Блепсидемом прекращают спор и прогоняют за сцену ненавистную им Бедность, а после ее ухода идут за сцену и все три актера - Хремил, Карион и Блепсидем-снаряжать Плутоса к совершению обряда сакрального сна в афинском святилище Асклепия: согласно народному верованию, к больному, спавшему в специально для того устроенном помещении святилища, ночью подходил Асклепий и подавал исцеление. Песенное выступление хора отделяет первую часть комедии от второй, причем между событиями первой части и событиями второй проходит ночь.
В орхестру вбегает ликующий Карион. На его крики и производимый им шум выходит жена Хремила, и перед ней и стариками хора Карион, вставляя сатирические замечания насчет жадных жрецов святилища, очень живо и красочно, всюду выдерживая комический тон рассказа, описывает картину чудесного выздоровления Плутоса в афинском Асклепейоне. После хоровой песни следует изображение счастливых последствий совершившегося исцеления бога. К Кариону, хору и жене Хремила выходит в орхестру сопровождаемый самим Хремилом прозревший, наконец, бог богатства. Плутос видит теперь все свои многочисленные ошибки, какие он сделал за бесконечно долгое время своей слепоты, и обещает все эти ошибки исправить: отныне он будет посещать только добрых людей. Следуют три заключительные сцены, каждой из которых симметрично предпослано небольшое выступление хора. Зрители видят счастливого, щедро вознаграждаемого Плутосом за все его о нем заботы, Хремила, вслед за которым выступает еще и другой, тоже честный человек, из-за своего излишнего доверия к людям и вследствие своей чрезмерно большой доброты совсем разорившийся, но сейчас, благодаря Плутосу, вновь получающий богатство. Рядом с этими двумя положительными фигурами показаны и два отрицательных типа: сикофант, вдруг, как только вернулось к Плутосу зрение, потерявший все свое состояние, нажитое им путем гнусного вымогательства, и развратная, за деньги до сих пор покупавшая любовь красивого, но бедного молодого человека старуха, бывшая раньше очень богатой, а теперь разорившаяся. Одновременно с ней показан и бывший ее любовник, ныне неожиданно разбогатевший и потому от нее отворачивающийся.
Вторая сцена дает диалог двух слуг - человека и бога - Кариона и Гермеса. Гермес послан Зевсом к Хремилу с жалобой на создавшееся, очень тяжелое для богов положение, так как разбогатевшие люди, ни в чем больше не нуждающиеся, перестали приносить богам жертвы. По мнению Кариона, Зевс вряд ли может рассчитывать на изменение печальных для него обстоятельств, и Гермес меняет тогда старую службу на новую, получая скромную должность у нового владыки мира, всесильного Плутоса.
Лишился доходов, впрочем, не только Зевс, но и его жрец, выступающий перед зрителями в третьей сцене. Хремил утешает его и помогает ему пристроиться опять-таки к тому же Плутосу.
Кончается пьеса тем, что Хремил, Карион и остальные участники трех заключительных сцен, сопутствуемые хором, выстраиваются, образуя в эксоде комедии веселый кортеж, и уходят за сцену для проводов бога Плутоса на место его нового жительства, туда, где когда-то жил он уже и раньше, а именно в одно из помещений акропольского храма богини Афины, так называемый опистодом, который в то время служил обычным местом хранения афинской государственной казны. Политическая символика этого мотива была зрителям совершенно ясна: в государственном казначействе Афин поселялся сам бог богатства.
При коренном тематическом различии общественная проблематика "Плутоса" и "Законодательниц" оказывается однородной: как в той, так и в другой комедии Аристофаном очень остро выдвинут волновавший тогдашнее афинское гражданство тревожный для него вопрос о расстройстве государственного финансового аппарата и о все сильнее и сильнее растущих контрастах частного обогащения и стремительного общего обеднения широких народных масс.
Глава XXVII ДРАМАТУРГИЯ АРИСТОФАНА
1. СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ЛИТЕРАТУРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АРИСТОФАНА
Политическая комедия Аристофана, при всем бесконечном разнообразии своего содержания, рассматриваемая со стороны выдвигаемых ею принципиальных требований, дает очень устойчивую картину. За долгий сорокалетний период творчества Аристофана, каждый раз в зависимости от наступающих новых событий и новой общественной обстановки, естественно меняются темы его комедий, но их основная идеологическая направленность продолжает оставаться одной я той же. С большой ясностью выступает у Аристофана тяготение к славному прошлому Афин и даже шире - к старине вообще. Продажным и эгоистичным деятелям современной Аристофану эпохи комедия постоянно противопоставляет доблестных представителей старого времени, самоотверженных и неподкупных, честных, покрывших свою родину славой, героев великой национальной борьбы греков с персами, былых воинов Марафона, или "марафономахов". Эпоха Марафона и Саламина, т. е. момент крепнущей демократия, - любимая эпоха древней комедии. Эта эпоха притягивала к себе ее симпатии. Равным образом, и в вопросах воспитания подрастающего мужского поколения Аристофан отстаивает консервативную точку зрения. Старое воспитание кажется ему правильным, новое возмущает его, и он решительно борется с ним, вступая в войну с софистическим движением, как с новой опасной силой, развращающей молодежь. Тема встречи двух противоположных принципов затрагивалась Аристофаном еще в самой ранней из его комедий, в "Пирующих", а в "Облаках" он блестяще развал ее со всей полнотой. Требование нравственного оздоровления общества выдвигается Аристофаном еще и в других, весьма разнообразных планах, причем и задачи драматического искусства понимаются им как задачи воспитательные: по его убеждению, трагедия должна служить целям "улучшения" гражданства.
Выявление вредных и общественно опасных явлений современной афинской действительности и призыв, во имя интересов народа, к заветам старого времени характерны, однако, не только для Аристофана: то же самое находим мм и у остальных поэтов древней комедии. Перед нами, иначе говоря, политическая программа не Аристофана, а целого литературного жанра. Нельзя также не заметить, что отрицательные фигуры, оказывающиеся объектами нападок древней комедии, принадлежат не деревне, а городу. Их состав отличается значительной пестротой: тут и богатые "индустриалы", собственники разного рода производственных мастерских, и купцы, и денежные дельцы, и софисты, и тот жалкий тип молодых аристократических бездельников, который так жизненно верно представлен у Аристофана в образе Фейдиппида из "Облаков"; тут и другие, более мелкие и еще более уродливые порождения древнегреческой городской культуры. Ко всем этим типично городским элементам древняя комедия относится определенно враждебно. Кто же ее друзья? Друзья ее - это представители аттической трудовой деревни; мелкие землевладельцы: Дикеополь ("Ахарняне"), Тригей ("Мир"), Хремил ("Плутос"). К этой хе категории персонажей принадлежит и простоватый Стрепсиад, бережливый деревенский хозяин, в комедии "Облака", женившийся на небогатой, но родовитой горожанке. Правда, в своей политической борьбе комедия опирается не только на деревенские элементы. Так, в "Птицах" выдвигаемая Аристофаном теза защищается городскими обывателями - Писфетером и Эвельпидом. Эти сомнительной честности горожане сами, впрочем, бегут из города, так как город им опротивел. В "Лягушках" позитивным началом является поэт старой морали Эсхил. Но все же основной положительный персонаж комедии принадлежит безусловно деревне: это зажиточный аттический сельский хозяин, сидящий на земле и сам занимающийся ее обработкой, отчасти собственными руками, отчасти рабским трудом. Лишь ему одному всецело принадлежат симпатии комедии, настойчиво выдвигающей противоположение: с одной стороны, город, испорченный, развращенный, а с другой, - здоровая и недовольная городом аттическая деревня. Среднее и мелкое землевладение и во второй половине V века оставалось силой, поскольку "экономическую основу общества в лучшие времена классической древности" составляла, по замечанию Маркса, именно, "форма свободной парцеллярной собственности крестьян с собственным хозяйством".[1] Пацифизм, страстно защищаемый Аристофаном, последовательно проводимый им в комедиях, особенно в первый период творчества, в точности отвечал, конечно, требованиям аттических земледельцев.
Большая ошибка - видеть в Аристофане приверженца олигархии. Он не олигарх: нигде не находим мы у него ни типичного для политической установки афинского олигарха презрения к народной массе, обусловленного аристократической ненавистью к этой последней, ни отрицания законности самого принципа демократии. Общей своей настроенностью обличительная комедия Аристофана ни в чем не напоминает, скажем, того характерно олигархического тона, каким, например, окрашены злые высказывания относительно демократии у автора псевдо-Ксенофонтовой "Афинской политии". В сложной борьбе разнообразных общественных сил и меняющихся течений различных политических партий Аристофан, в зависимости от требований момента, мог поддерживать в иных случаях политические фигуры Демосфена, Никия и других представителей оппозиции как противников авантюристического радикализма сторонников Клеона, Гипербола и Клеофонта. Но делать на этом основании вывод о принадлежности Аристофана к числу олигархов, конечно, неправильно. Комедия его свидетельствует о другом: если внимательнее вглядеться в содержание ее инвектив, то бесспорно придется придти к заключению, что критикует она не самый строй, а лишь недостойных агентов строя, недобросовестных магистратов, подкупных ораторов, сикофантов и казнокрадов, и что никогда ни Аристофан, ни другие комики не говорят против демократии как таковой, не требуют ее свержения. Напротив, они берут народ под свою защиту, изображая афинский демос обманутым корыстной хитростью тех, кому неосторожно доверил он свое благополучие. Народ слишком снисходителен и доверчив, его легко провести - вот мотив, постоянно встречающийся в древней комедии. С исключительной силой он звучит у Аристофана во "Всадниках": одряхлевший, идущий на поводу у своего собственного раба афинский Демос должен стряхнуть с себя старость, сделаться вновь молодым и энергичным, таким, каким был он в эпоху греко-персидских войн, и, освободившись от бесчестных приспешников, держать власть в своих собственных руках. Аристофан подчеркивает бестолковость самих народных собраний, недостаточно вдумчивое и мало критическое отношение таких собраний к речам ораторов и проектам предлагаемых решений. Вспомним ту блестящую карикатуру на афинское народное собрание, какую Аристофан дал в своих "Ахарнянах". Во "Всадниках" колбасник хочет, чтобы его спор с Клеоном перед лицом Демоса происходил не на Пниксе, месте обычных собраний народа, так как столь разумный у себя дома Демос на Пниксе теряет способность соображать и бессмысленно сидит там "разиня рот" ("Всадники", ст. 755).
Высмеивание пассивности легко обманываемого народа лишено у Аристофана сатиры. Шутка здесь остроумна, забавна, но по существу добродушна. Совсем иного рода насмешки и нападки Аристофана на тех, кто обманывает народ. Тут. насмешка становится злой. В комедиях остро политических она, естественно, направляется в первую очередь на "демагогов", вершителей народных постановлений, морально ответственных за декреты, на руководителей политической партии, в тот или иной момент господствующей в народном собрании. Часто комедия намекает на отрицательную фигуру подкупного политического оратора, уверенно выступающего с недобросовестной речью перед лицом обманываемого им народа. Столь же отрицателен и показываемый Аристофаном публике отвратительный тип сикофанта, презренного человека, путем политического шантажа вымогающего деньги у богатых граждан. Среди второстепенных бытовых типов, отрицательно изображаемых Аристофаном, немаловажную роль играют жрецы и предсказатели. Таковы красочные образы Гиерокла в комедиях "Мир" и "Птицы" и жреца бога Зевса в заключительной сцене "Плутоса". Сын просвещенных Афин конца V века, Аристофан очень далек от наивной веры в богов: так смеяться над ходячими представлениями о Зевсе, как смеется Аристофан устами Сократа в своих "Облаках", верующий человек не мог. Но веры, как таковой, он, впрочем, не разрушает. Действуя в духе консервативных требовании древней комедии, он скорее оберегает устои религии. Стрепсиад сжигает школу Сократа за то, что Сократ и его последователи "оскорбляли богов" ("Облака", ст. 1508 сл.). Охрана старой отечественной религии входит в состав охранительной программы древней комедии в качестве одного из ее компонентов, так как эта комедия должна быть вообще верна "заветам отцов", между прочим и в вопросах культа.
Иначе говоря, консерватизм древней комедии обусловлен вовсе не личными склонностями, симпатиями или антипатиями Аристофана, Эвполида или другого кого-либо из числа ее авторов; консервативна комедия, во-первых, потому, что такова и аттическая деревня, а, во-вторых, - и главным образом, - и потому еще, что афинская радикальная демократия сама считала для себя обязательным быть на словах консервативной. Хорошо известно, что самым популярным лозунгом в Афинах V века был именно лозунг "верности заветам отцов" (κατά τὰ πάτρια) и что требование возвращения к старине часто служило в Афинах не только в обществе, но и в государственном законодательстве того времени лишь пустой защитного цвета формой. Подобного рода формой оказывался нередко консерватизм и у Аристофана, очень часто в своих комедиях выдвигавшего перед старым обществом как раз совсем новые, исключительно свежие мысли и указывавшего ему на такие новые пути и проблемы, которые прошлому Афин были совершенно чужды. Новым, совсем не похожим на "заветы отцов" призывом прозвучала, например, в "Мире" "панэллинская" идея всеобщего мира, который, - так, по крайней мере, поэту верилось, - должен был отныне сменить взаимные распри и вечные войны между отдельными греческими политиями.
Столь же новым было и уводившее Аристофана далеко вперед от старых Афин еще отношение к женщине, нашедшее свое выражение не столько в "Законолчтельницах", дающих, пародию на гинекократию, сколько в "Лисистрате", где Аристофан жестоко высмеял идущее от стародавних времен и прочно укоренившееся в античном мужском сознании рядового афинского обывателя твердое убеждение в превосходстве мужчины над женщиной. В "Лисистрате" Аристофан ясно дает понять всю необоснованность мужского пренебрежительного отношения к женщине, неспособной будто бы разбираться в вопросах политики. А по своей духовной стойкости и нравственной выдержке женщина в этой комедии бесспорно поставлена Аристофаном даже выше мужчины. Такие воззрения, в корне порывавшие с обыденщиной и открыто восстававшие против старинных взглядов на соотношение обоих полов, несомненно выдвигают Аристофана в число наиболее передовых писателей той эпохи.
Впрочем, историческое значение творчества Аристофана, как большой прогрессивной силы, лежит не только в освободительной новизне его взглядов, но и в грандиозной критике всего того, что в окружавшей Аристофана живой действительности казалось ему общественно вредным. Сюжеты Аристофана этой действительностью насыщены. Вся вообще древняя комедия, созданная силами афинской городской демократии, является отзвуком интенсивной борьбы ее внутренних противоречивых сил и ее многочисленных партийных группировок. И не в олигархических целях, не ради разрушения демократии, а, наоборот, в защиту ее интересов ведет Аристофан сообща с другими поэтами древней комедии атаку на недостойных агентов афинского демократического режима, откровенно вскрывая в них и предавая осмеянию то, что, по его убеждению, грозит народу опасностью. Но при всех дерзаниях своей мысли, даже тогда, когда он творит несбыточную утопию, Аристофан не может отказаться от рабовладельческой точки зрения, характеризующей его античное правовое сознание: в новом обществе экономического равенства, создаваемого Праксагорой, трудятся у него над землей рабы. Нисколько не сомневается и Хремил, что в государстве, которое будет состоять из одних только богачей, вся черная работа, так же как и весь ремесленный и земледельческий труд должны лечь своей тяжестью на рабов. Тем интереснее для нас в литературном отношении появление у Аристофана наполовину условной, наполовину взятой из подлинной жизни характеристики домашнего раба-слуги и постепенного драматического роста роли такого раба. В "Лягушках" перед началом спора обоих трагиков Ксанфий балагурит с привратником подземного царства: происходит откровенный разговор двух рабов, в котором со всей четкостью намечаются некоторые из тех черт, какие впоследствии характеризуют раба-слугу новоаттической комедии и комедии Плавта, а потом в западноевропейском театре отчасти входят в сценический облик Скапена и Фигаро. Делясь с новым своим приятелем мелкими горестями рабской жизни, Ксанфий ("Лягушки", ст. 745 сл.) говорит привратнику о том, как приятно бывает рабу-слуге тайно посылать проклятия своему хозяину, ворчать себе под нос после колотушек, любопытничать, подслушивать разговор господ, разглашать подслушанное. В ранних комедиях Аристофана выступающие в них рабы, например, слуга Ламаха в "Ахарнянах", слуга Стрепсиада в "Облаках", рабы Сосий и Ксанфий, стерегущие Филоклеона в "Осах", являются лишь эпизодическими фигурами. Но уже к концу V века, в "Лягушках", раб Ксанфий играет большую и сложную роль, а в "Богатстве", комедии начала IV века, роль раба Кариона в общей картине развертывания сюжета пьесы занимает по важности второе место после главной роли Хремила. Таким образом, фигура раба, как существеннейшего персонажа новоаттической комедии подготовляется, если не исключительно и всецело, то во всяком случае в значительной степени комедией древней.
Характер литературного и сценического стиля древней комедии не может быть подведен под единую формулу: он различен в различных ее частях. Так, буффонадный стиль актерской игры в прологе, полный балаганных присловий простонародного фарса, существенно отличается от игры актеров в сценах агона, нередко развертывающихся в спокойно величавых тонах. Неоднороден в комедии и ее речевой стиль: в парабазе и в большей части агонов он более строг и отличается большей литературностью, в прологах же, наоборот, он изобилует вульгаризмами. Далее, древняя комедия постоянно прибегает к приему пародии: подражает языку трагедии и лирики, развертывает картину софистической ученой дискуссии, пародирует священные формулы из практики религиозных культов, имитирует областные диалекты рыночных торговцев, а всякий раз, в зависимости от характера пародируемого объекта, меняются стилистические особенности и языка и игры актеров. Этот важный для оценки общего языкового стиля комедии ее принципиально пародийный тон необходимо, конечно, учитывать. Что же касается характера того языка, на каком написаны ее внепародийные части, то он близок языку аттической повседневной речи. Живые фразы обыденной речи в комедии, однако же, ритмизованы: как и трагедия, она пишется стихами, причем в диалоге обычным размером стихов служат, опять-таки, как и в трагедии, шестистопные ямбы.
Очень часто употребляет Аристофан простонародные обороты речи. Он любит звучные народные восклицания характера междометий, вроде βαβαιάξ, αἰβοῖ, ἰού, ἰατταταί и т. п., и мастерски умеет изобретать новые смешные слова, нелепые, но эффектные по необычности сочетаний и прозрачно ясные со стороны значения. Таково, например, придуманное им выражение ψαμμακοσιογάργαρα, т. е. "песочное - в смысле "бесчисленное" - число раз" ("Ахарняне", ст. 3).
Сложность стилистической картины древней комедии еще усиливается контрастом, образуемым с одной стороны, фантастикой нереальных сюжетов, а с другой - ее всегда остро злободневной тематикой.
Часто намеки и шутки Аристофана, постоянно откликающегося на события текущего дня, остаются для нас неясными или даже совсем непонятными благодаря именно их былой злободневности. Вот почему незаменимым подспорьем при изучении Аристофана являются древние пояснения к его комедиям - схолии.
[1] К. Маркс, Капитал, т. III, стр. 710. Партиздат, 1936.
2. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА КОМЕДИИ. СРЕДНЯЯ АТТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
Контрастом к сюжетной фантастике древней комедии является, однако, не только ее политическая тематика, бьющая по конкретным фактам, но и реалистический показ бытовых деталей. Реалистические детали занимают у Аристофана чрезвычайно важное место, причем к концу творчества Аристофана бытовой момент в его комедия, несомненно, усиливается. К началу IV века древняя комедия, насколько мы можем судить по Аристофану, по видимому, претерпевает вообще существенные изменения: индивидуальные политические фигуры в ней к этому времени исчезают, и мало-помалу она перестает быть комедией обличительной. Начинается, таким образом, перерождение самого жанра, что сказывается и в композиционном плане поздних комедий Аристофана. И в "Законодательницах", и в "Богатстве" сценическая функция хора сильно сокращена, и действие строится исключительно на актерском диалоге: показательно отсутствие парабазы как в той, так и в другой комедии; во второй части обеих комедий, кроме того, отсутствует текст песенных выступлений, отделяющих одну от другой бытовые сценки. Стиль языка оказывается в них более однотонным, а вместе с тем и более литературным. Из древней комедии постепенно образуется новый жанр, так называемой "средней" комедии IV века, занимающейся изображением человека в его частной жизни.
О средней комедия мы плохо осведомлены. Отрывков, сколько-нибудь значительных, от нее почти не сохранилось: дошли, главным образом, только названия пьес и имена их авторов, которых, впрочем, было не мало. Эта средняя комедия IV века, в свою очередь подготовляющая дальнейшую эллинистическую, или "новую", комедию характеров, насчитывает свыше шестидесяти имен различных поэтов, среда которых наиболее выдающимися были Алексид, Анаксандрид, Антифан, Эвбул и Архипп. Древние грамматики условно отводят средней комедии промежуток времени от конца Пелопоннесской войны до начала правления Александра Македонского (с 404 по 336 г.). Хоровой элемент, роль которого в греческой драме к концу V века уже значительно сокращается, в средней комедии почти совсем исчезает. Отныне насмешки комедии направляются не на руководящих деятелей политики, а просто на лиц, почему-либо обращающих на себя внимание широкой городской публики: на модных поэтов и музыкантов, на знаменитых гетер, на выдающихся поваров и богатых, прославившихся своей расточительностью кутил а т. д. Объектом изображения здесь служит не фантастическая, а бытовая обстановка. Показательны и заглавия некоторых пьес, обозначающие профессию или национальность: "Поселянин", "Флейтист", " Починщик", "Художник", "Воин", "Беотиянка", "Византиец", или такие, как "Близнецы", "Клад", намекающие на бытовое содержание пьесы. Как смыкается направление средней комедии с направлением последних представителей древней, видно по заглавиям пьес комика Платона, младшего современника Аристофана. Комедии второго периода его творчества озаглавлены: "Поэты", " Софисты", "Адонис", "Европа", "Лай", "Фаон". Последние четыре указывают на мифологическое содержание пьес, что не менее характерно, так как наряду с сюжетами бытовыми средняя комедия усиленно дает травестию мифа, на что указывают такие заглавия, как "Елена", "Одиссей", "Орест", "Семеро против Фив", "Гесиона". Но эти травестии мифа не похожи на старые, вышучивавшие преимущественно образы эпоса: средняя комедия пародирует миф главным образом в том его выражении, какое он принял в трагедии. Трагедия - а драма Эврипида в особенности - оказывает вообще сильнейшее влияние на эту комедию, постоянно подчиняя себе ее форму.
У трагедии начинает она, вероятно, все чаще заимствовать и конструкцию своей фабулы и пользоваться ее любовными мотивами, впервые введенными в драму именно Эврипидом, и мало-помалу таким путем подготовляет грядущую новую комедию эллинистического периода, сюжет которой строится уже неизменно на развертывании любовной интриги.
СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АП - Античные поэты об искусстве. М. ИЗОГИЗ, 1938.
ГМИИ - Государственный Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве.
Радциг-С. И. Радциг. История древнегреческой литературы. М. - Л. Академия Наук СССР, 1940.
AD - Antike Denkmäler. Berlin, Reimer, 189.) сл.
Baumeister-Α. Baumeister. Denkmäler des klassischen Altertums. München u. Leipzig, 1888.
Bernoulli - j. J. Bernoulli. Griechische Ikonographie. München, 1901.
Bethe -E. Bethe. Die griechische Dichtung. Wildpark - Potsdam, 1924.
Bieber - M. Bieber. Die Denkmäler zum Theaterwesen im Altertum. Berl η u. Leipzig. 1920.
Casson - Stanley Casson. Ancient Greece. Oxford, 1939.
Ducati - P. Ducati. Storia della ceramica greca. Firenze, 1922 сл.
Enc. Brit. - The Encyclopaedia Britannica. 11-th edition. New York, 1911.
FR - Furtwangler - Reichold. Griechische Vasenmalerei. München, 1909.
GBA - Gazette des Bteaux-Arts. Paris.
Hartwig - P. Hartwig. Die griechischen Maisterschalen der Blütezeit des strengen rrifiguren Stiles. Stuttgart u. Berlin, 1893.
Hekler - A. Hekler. Die Bildniskunst der Griechen und Römer, 1912.
Huddilston-Huddilston. Die griechische Tragödie im Licht der Vasenmalerei. Freiburg" 1900.
Licht. - H. Licht. Sittengeschichte Griechenlands. Dresden u. Zürich, 1925-1928.
Monamenti - Monumenti inediti publicati dell' Institute di correspondenza areheologica.
Owerbeck - Atlas der Griechischen Kunstmythologie. Leipzig, 1872-1887.
Pfuhl - E. P/uhl. Malerei und Zeichnung der Griechen. München, 1923.
Picard - Ch. Piaard. La vie privée dans la Crèce classique. Paris. 1930.
RC - O. Ray et et M. Collignon. Histoire de la céramique grecque. Paris, 1883.
Richter - G. M. A. Richter. The Sculpture and Sculptors of the Greeks. New Haven, 1930.
Rodenwaldt - G. Rodenwaldt. Die Kunst der Antike. Berlin, 1927.
Séchan - L. Séchan. Etudes sur la tragédie grecque dans ses rapports avec la céramique, Paris, 1926.
Пал. Ант. - Палатинская Антология.
Arch. Jahrb. - Jahrbuch des Deutschen Archeologischen Instituts.
Arch. Zeit - Archäologische Zeitung.
Athen. Mitt. - Mitteilungendes Deutschen Archäologischen lnstitu's. Athenische Abteilung BCH - Bulletin de correspondance hellénique.
CGF - Comicorum Graecorum fragmenta ed. Kaibel. 1899.
CIA - Corpus in scrip tionum Atticarum.
CIG - Corpus inscriptionum Graecarum.
Class. Rev. - Classical Review.
Diehl - Anthologla lyrlca Graeca ed. E. Diehl.
Diels - Die fragmente der Vorsokratiker, hrsg. von H. Diels.
FCG - Fragmenta comicorum Graecorum ed. Meinike.
FHG - Fragmenta historicorum Graecorum coli. Müller.
IG - Inscriptiones Graecae.
Mon. d. Institut. - Monumenti inediti publicati dell' Institute di correspondent archeologica Neue Jahrb. - Neue Jahrbücher für das klassische Altertum... hrsg. von Ilberg, Gerth§ Richter, Cauer, Ox. pap. (Pap. Ox.) - The Oxyrhynchos Papyri ed. Grenfell & Hunt.
RE-Pnuly-Wissowa. Realencyolopädie der klassischen Altertumswissenschaft.
Rev des ét. gr. - Revue des études grecques.
Rh. Gr. - Rhetores Graecl ed. Spengel-Hammer.
Rh. Mus. - Rheinisches Museum für Philologie.
SB - Sitzungsberichte.
Schmid - Stählin - Schmid-Stählin, Geschichte der Griechischen Literatur.
TGF - Tragicorum Graecorum fragmenta it. ed. A. Nauck. 1889.
Wien. St. - Wiener Studien.